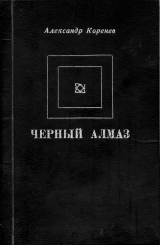
Текст книги "Черный алмаз"
Автор книги: Александр Коренев
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
СТИМУЛ
Абхазец с ишаком
По узкому пути
Взбираются гуськом...
"Дай, дорогой, пройти!"
Копытцами стучит
Мимо меня, туп-туп,
Ишак: тюки влачит
С уступа на уступ.
А над башкой, у губ,
Чтоб пахло ишаку, —
На палке сена пук
Качается в шагу.
Бредет за ишаком
Хозяин с посошком.
Абхазец и ишак,
Они похожи так!
Мохнат на шапке ворс,
Как у осла бока.
Навис горбато нос,
Как храп у ишака.
Он то рванет, от мух,
То пятится опять...
А то велят ему
Шаганье: ускорять!
Как врастопыр портки
У бритых казаков,
Набитые мешки
Свисают с двух боков.
Бока от них – в поту,
В паху – сто оводов...
Пук сена на виду
Качается зато!
Пучок осла томит...
Вот так манит ослов
Посмертной славы миф,
Звон лозунгов и слов.
Пылища, хлябь дорог,
Впотьмах взвопит шакал.
На палке сена клок,
Чтобы ишак – шагал.
1977, 85.
FORTE
Громче
города
Грайворона
Строк сверкаю дождем,
Видно, баяли правильно.
Что в рубашке рожден.
Дождь шипучими щетками
Вдруг прочешет траву,
Это просто – до чертиков
Повезло, что живу.
Что люблю я
на совесть
Труд, руду его грызть.
Наплевать, что еще есть
Подлость рядом, корысть.
И пусть правят и ратуют,
Воссев там и сям, —
Не верха, не ораторы,
Всех главнее я сам.
Звонких слов и созвучий
Я постиг ремесло,
Я – творящий, везучий;
Фарисеям назло!
1973
ЦЕРКОВЬ
Дальняя, древняя, бедная,
Русские славя края,
Высится церковь белая,
В червонной заре горя.
Взносится церковь розово,
Вся как торжественный хор!
В лесах, в полях, за озером
Издали радуя взор.
Колокол селам и пашням
Благовестит с небес...
Лишь я, маляр, шабашник,
К Спасу по козлам влез.
Крашу нахально и ловко,
Лаковым колером вру.
Лишь бы трояк на водку
Рваному, мне, маляру.
Что мне до гимна господня!
Слух мой оглох от вранья.
Гордец, храбрец, сегодня
Лишь раб и халтурщик я.
Матерь тревожу божью,
Спаса печален взгляд.
Вправду, в чаду, мне рожу
Скорчил вдруг отрок свят?
Сердце пощады просит!
Вдруг, не попутай враг,
Дико вскричу и с козел
Рухну в кромешный мрак?
В русских березах и зорях
Белая церковь царит,
В речных волнах лазоревых
Золотом купол горит.
1982.
ПЕСНЯ О ПОЭТЕ
Вот меня ведут по всей околице,
По бокам – полроты – солдат. —
На меня, вихрастого соколика,
Бабы сердобольные глядят.
А меня ведут полями, весями,
Юного, босого, без ремня.
Солнышко ресницами белесыми
Щурится с усмешкой на меня.
Ах, как я иду в алмазном утре!
Белая рубашечка. Король!
И мои каштановые кудри
Развевает ветерок сырой.
Врут сороки: «скверная история,
Вот так шут – а лез – в короли».
Вы, ребята, в самом деле... што ли..
На расстрел поэта повели?
Для меня уже и яму вырыли.
Мне старшой поднес – табачку. —
Не расстраивайтесь, конвоиры,
Я, ей-богу, где-нибудь сбегу!
Но скорее на холму суровом,
Где поэт забыт и зарыт,
На заре, как монумент, корова
Лоб рогатый в травы погрузит.
1988.
* * *
Ветер времени листает вхлест имена,
Как блокнота листки, на скамейке забытого.
Суть поэзии неведома и нема,
Скулы идола.
Потому – предстоящим открытьем велик
Стих орфеевый (над свалками текстов уродливых).
Птичьей стайки, в просторе
мелькнувшей на миг,
Прочитал я иероглифы.
Потому и все образы – так смелы,
Этих тропов взлетанье и тайна.
Как татарской, вонзившейся в кремль, стрелы
Трепетанье...
Спи, мой стих,
Как сарматская бронза на вес,
Исподлобья немея в просторе небесном.
Словно замкнутый на себе самом
Зимний в синем инее лес.
1986.
МОНОЛОГ ФОРТИНБРАСА
Сейчас, когда мы остались одни,
Мы можем поговорить, принц, как мужчина с мужчиной.
Хоть ты и лежишь на лестнице, вроде мертвого муравья.
И видишь лишь черное солнце с обломанными лучами.
Никогда я не мог глядеть на ладони твои без улыбки,
И теперь, когда упали они, как сброшенные гнезда,
Они беззащитны по-прежнему. Действительно, это конец.
Руки лежат отдельно. Шпага валяется отдельно. Отдельно голова.
И рыцарские ноги в мягких домашних туфлях.
Похороню тебя с почестью, хоть ты и не был солдатом.
Это единственный ритуал, в котором я разбираюсь.
Не будет печального хора. Грохот пушечный, гром копыт,
Хряск сапог, барабанная дробь – ничего не знаю прекрасней!
Это будут мои маневры перед взятием власти.
Надо взять этот город за горло! И встряхнуть хорошенько!
Так или иначе, ты был должен погибнуть, Гамлет.
Ты верил в кристаллы понятий, а не в глину поступков людских.
Ты высотой упивался одной, и то тебя сразу рвало.
Нет, ты был – не для жизни, и этих дел человеческих
Ты не понимал, и хитрить, как все, не умел.
Сейчас ты спокоен, Гамлет, ты свое дело сделал.
Все в порядке. Остальное – молчанье... А дальше забота моя.
Но что твоя смелая смерть – рядом с бессонною службой
На высоком сидении трона, и яблоком хладным в руке,
С вечным взглядом – на весь муравейник – и на куранты часов?
Прощай, принц, ждет меня проект канализации города
И декрет по делам проституток и нищих,
Я также должен обдумать наилучшую систему тюрем,
Ибо, как ты справедливо заметил, Дания – это тюрьма,
Я ухожу к своим делам. Сегодня ночью родится
Звезда по имени Гамлет. Мы не встретимся уже никогда.
То, что останется от меня, не будет предметом трагедий.
Больше ни встретимся мы, ни простимся,
Теперь навсегда мы на разных с тобой островах,
И между нами забвенья вода. И слова.
А что они могут, что они могут, принц?
1967.
КУЛЬЧИЦКИЙ
Поэма
Мы партизаны
в лесах халтуры.
Кульчицкий.
1
Ты, Кульчицкий?
Ты откуда? Здравствуй!
Встреча через годы, не пустяк.
Есть же где-то
череп твой
лобастый
И крупнокалиберный костяк?
Дух твой был велик, не только тело.
Глубоко разведку мы вели.
Как ты рано, глупо
бросил дело
Главное для нас. И для земли.
Не обидно ли? Ну помер если бы
Ты поздней, от водки, от болезней,
Как и все, как спекулянт любой.
Но не взятой
Высота поэзии
Так и остается
За тобой.
Ты лишь вспыхнул… Так от спички
Сера вмиг отскакивает вспять.
Что вы, чушь!
Да это же... типичный
Фортель Мишкин, розыгрыш опять.
Никогда я в смерть его не верил,
Знавший – как он пишет, спорит, спит.
И как пошлости необходимой мерой
Разбавляет моих тропов спирт.
Чтобы он пропал на поле боя,
Мишка? Нагл, удачлив и умел?
Непохоже на Кульчицкого такое,
Чтобы т а к он оплошал,
Не сделав дел.
А дела его – всех выше, истинней —
Вскинув горн, по-новому трубить.
Было делом для него
Единственным:
Первым нынешним
Поэтом быть!
2
Холодина... И поземка вроде манки.
По Полянке бродим мы, по Якиманке,
По Казачьему, по Кривоколенным,
По голодным улицам военным.
Мы беспечны, как легкие йоги.
Через Каменный мост сами ноги
Нас несут.. Вдруг взносящийся, режущий
Вопль сирены воздушной тревоги
В мрак и сырость бомбоубежища
Загоняет нас порой по дороге.
Нас, крамольных, и торжественных, и шалых.
Мы с эпохой на ты, мы грубы.
Вдоль по голой шее драный шарф
Намотал ты, как вокруг трубы.
Как аэростат – в сфере морозной —
Круглая маячит голова,
И литаврами – стихов слова.
Так шагаешь ты, глазастый, рослый,
Михаил Кульчицкий, наш главарь.
Только денег ни гроша, и голод
В нас так юно, вдохновенно горд!
И вот в своем собачьем полушубке
В пустой ты шествуешь Литинститут.
Жмот кассир,
Но ты басишь, не шутки,
Снимая валенок, обмотки жуткие
Разматывая, наглец:
«Ночую тут...»
И тот, пугаясь, дает стипендию,
И в баре– барствуем мы от души,
Где – будто клопы энциклопедию —
Столы засиживают алкаши.
Ты восстаешь на стул,
Гремишь! «А ну-ка,
Стихи читаю, дуракам наука,
А понимающим – духовный свет.
Вот Саша Коренев,
Поэт-эстет...»
Я протестую, и читаю тоже,
Я ростом меньше,
Голосом потоньше.
Но знает спутник, я поэт какой...
Итак, в кафе, в том самом, у аптеки,
Горды, невозмутимы, как ацтеки,
Стихами бражничаем час, другой.
Да, в том кафе, на Пушкинской, не правда ли,
Пусть снесено, но след его – как свет…
И мы выходим после пива с крабами
(Навалом крабов-то,
Но хлеба нет).
Хлеба в Москве в обрез, карточки кстати.
С Мишкой подправим талон,
Но все равно не еда...
Коля Глазков живет
Тут на Арбате:
Дом сорок четыре, квартира двадцать два.
3
Ну, айда! И в спорах о поэзии
Зимним вечером,
До синей тьмы —
Зенки свои выпуклые весело
Щуришь ты, верзила, —
Бродим мы!
Набережными, куда нам торопиться,
Мглой замоскворецких тупиков.
С голоду все вдохновенней лица,
Скулы все смуглее, со стихов.
Вспомнил? Дом мой на Ордынке
Помнится?
Чечевицу? Нас в т р о е м
По вечерам?
Рев сирены... Девочку ту, спорщицу,
Что играла на рояле нам...
Так играла! Ты бурчал осторожно:
«Все стихи перед нею слабы».
Эта девочка... Косы уложены
Ореолом вокруг головы.
Эта девочка, нимбом увенчана.
Нет, не девочка... эти женщины
Гениальности знаком отмечены,
Раз в столетие их приход.
Их – бег времени,
Нет, меч времени
Тут же губит, не бережет.
Гасло электричество мгновенно,
Мы сидели
При свечах и без,
С воя разраставшейся сирены
Разрывалось сердце у небес.
Но доигрывала тихо, чисто
Моцарта впотьмах она и Листа.
Да и что нам лай зениток, резок?
Разве ты не чувствовал лучистость
Людину? Улыбки ее блеск?
Света нет?.. Но светом непомерным
Счастья, правды жизнь полна моя!
Вот любовь и вот юнцы – друзья…
Кто же знал,
Что сгинешь самым первым
Ты, и лишь
Наипоследним я.
Впрочем, «ты» да «мы»,
Прием привычный.
Нет тебя. Таким... Истлело, дО тла.
Ты убит,
а серость и вторичность
Век живут,
Ну это ли не подло!
Почва после гроз кишит червями.
Но позор, Кульчицкий, вот так роль!
Эпигонами,
безродной рванью
Место схапано
Твое, король!
Рядом лишь возник недалеко
Коля, он оракул тоже,
Из калик российских перехожих,
Что от бога... Николай Глазков.
Он сказал про обстановку тонко,
Он сказал
Про век необычайный:
«Чем он интересней для историка,
Тем для современника печальней.»
И сказал про себя он сурово;
«О, поэзия, сильные руки хромого!»
Первых выбило. Но, как известно,
Свято место – не бывает пусто,
И вновь пыжится
искусства тесто
На дрожжах
Лишь нашенских, изустных!
Век заканчивается,
Лет еще тридцать,
И на моих строк звенящий звук,
Как на падаль воронье, слетится
Разное кандидатье наук.
И тогда-то, друг,
Собрат мой славный,
Я и ты, тучей навесной,
Встретимся опять, уже на равных,
Где-нибудь на сквере, в час ночной.
Не из ямы там или из гроба,
А с глухих высот небытия.
Господи, да мы убиты оба:
Пулей – ты,
замалчиваньем – я.
И теперь у нас один хозяин,
И ему, Господь он или бес,
Как и в юности, вызов бросаем,
Для поэзии сбежав с небес.
Ты осклабишься: «Черт или Бог,
Взгреет, что посмели отлучиться».
А ты кинь ему в лицо,
Кульчицкий,
Снова – горсть —
своих корявых строк!
1967.

ВПОЛШЕЛЕСТА

* * *
В мире тихо, как в воде.
Лишь
качание ольхи.
Где-то на иной звезде
Пробудились петухи.
И уже
светает плавно.
Словно тронуты весы.
На столбах на телеграфных
Чашки
в капельках росы.
У болота лепет жаб.
Мы войдем, оглушены,
В лес,
где орудийный залп
Непрерывной тишины.
1938.
БЕЛЫМ-БЕЛО
Дыханью пар и домовитость избам
Ты вновь даешь, морозная зима, —
Когда метель
сверкающим батистом
Застелет даль, дороги и дома;
Когда наутро,
скатываясь круто,
Пригорок расчертили полоза,
Где пни идут, как будто лилипуты,
Ушанки снега
сдвинув на глаза;
Где, заглядевшись в небо исподлобья,
Отяжелев от неподвижных дум,
Огромный бор
нахмурил брови-хлопья,
Как седовласый сказочный колдун;
И тонко воздух дребезжит морозный,
Где ест пила высокую сосну,
И, ахнув,
медленно ложатся сосны
В пуховую глухую белизну.
И, белополье заливая с неба,
То не заря восстала ото сна,
А щеки неба
пригоршнями снега
Натерла даль
до жаркого красна.
Белым-бело... Перемело у дома.
Зима, зима, лесные терема...
Родная, ты мне сызмала знакома!
Как ты неузнаваема,
зима!
1947.
ГРИБЫ
Я так люблю ходить чуть свет
по белые грибы.
Завидуя,
глядят вослед дорожные столбы.
Рассвет! – произнести боюсь,
сказать боюсь о нем.
Его б нарезать, как арбуз,
да пить его, ломтем.
Вбрести в кустарники не лень,
в лесные острова,
Штаны замочит до колен
глубокая трава.
Здесь лес вздымается, могуч.
Века, не зная сна,
О ветрености
быстрых туч
здесь думает сосна.
А там – пустая синева... Огромно – далеко...
Коль закружИтся голова,
туда упасть легко.
Порой
так тишина чутка (о хворост не задень) —
Поскрипывают
облака,
щебечет светотень...
А гриб сыскаться не спешит. Ищу и так и сяк.
А он мелькнет
да и сбежит,
как вспугнутый русак.
И что нелегкая несла! Обратно – напрямик.
Зато – у самого села —
нашелся боровик.
Уже прохладно. Скоро пять.
Как щи щекочут нос!
Жена рассержена опять.
А я букет принес,
Ты выговариваешь мне. Меня ругать нельзя.
Как в паутине,
в тишине
и уши и глаза.
Не порицай. Не надо так. Я заплутал в пути.
Ты не бывала в тех местах?
Прошу тебя,
пойди...
Ты счастья просишь для души?
А где оно, решим...
Ему ты правил не пиши,
не прочь ему режим.
Ведь счастье каждый божий день,
как белый гриб,
растет:
Разыскиваешь – черт-те где,
а встретишь —
у ворот!
с. Пречистый бор, 1953.
КРУГОВОРОТ
Пахнут стога,
как чай свежезаваренный.
Теплынь. Июнь.
Душист простор полей.
И тонки кружева
верхушек хвойных
на небе,
Как трещины на старой пиале.
Причудливо
льют свой хрусталь без устали
Пичуги певчие, входя в азарт.
Какая юнь!
И вдруг я чувствую,
Что было так же
сто веков
назад.
Вновь, как пистоны с точечкой в округлости,
Летят с деревьев
семена весны...
Нет в мире ничего
древнее
юности,
Нет ничего
старее новизны.
1961.
ТЕМНЫЕ КОНИ
Кони ночью бродят в овсе.
В темноте их бесформенны тени.
Ни души... И лишь шелестение...
Да луна прольет странный свет
Иногда...
Смирно бродят две лошади в жите
(Звук пофыркивания летуч),
Легким ржаньем – то громче, то тише —
Пересмеиваясь
чуть-чуть.
Их не видно. И лишь (слышат уши)
Шорох тел,
как мешок, неуклюжий.
Ворохнется там или тут...
Кони бродят себе. И жуют.
Что-то тайное чудится в этом:
В черном небе теплым летом,
Силуэт – за силуэтом,
Тонут лошади. Хрупают зерна...
Мирный шорох ночью просторной.
И еще не кричат петухи.
И откуда-то запах реки.
Хорошо как! Запомню все это,
И в ушах унесу, не в глазах:
Ночь. Тепло. Тишина.
Планета,
Где две лошади бродят в овсах.
1962.
РЕКА
Едва над речкой облака засвечены,
Я погружаюсь в ее плоть и стыдь.
Реки глубокость, как объятья женщины,
Какая нега в ее волнах плыть!
Вся ласковая, властная, глубинная,
Река, стихия, за волной волна,
Собой обхватывает, как любимая.
Нагая, ночью, нежности полна.
Раскинутые руки – улетание,
Раздевшаяся женщина – река.
Ее бока, и грудь, вся нагота ее:
Волны любви, где бедер берега.
1984.
БУДОРАНЬЮ
Поднимусь будораныо, уйду туда,
Где в тумане весь луг утопает, где
Проступает в рассвете лесная даль
Тихо-тихо, как негатив в кислоте,
Я пойду без тропы, туда, в синеву,
Как росисты луга, серебристо рябы!
Словно лампочки матовые, в траву
Туго ввернуты дождевики-грибы.
Ах, как дышишь... Как душу простор свежит!
До опушки дойду, ничей, удалой,
Только ветер верхушки ольхи взворошит
Над свободной моей головой.
А поляна – вся спит, в лучистом дыму,
Вся таинственная, словно из мглы.
На нее, заговорщиками, по одному
Незаметно являются сосен стволы.
Разгорается день– где верхов прибой
Над тобой затих, где трава-мурава,
Где лиловый вереск перловой крупой
Обсыпает штаны, задеваешь едва.
Пережду и грозу, никуда не спешу
В гулких шумах, в порывах дождя.
Я с собой на свидание прихожу,
В одиночку в леса уходя.
1981.
ВСЕ ГЛУБЖЕ В ЛЕС
Все глубже в лес: в тьму, в глушь такую
Иду я и смертельно тоскую.
Лишь белка вдруг, с вершины зеленой
Слетевши на обломанный сук,
Застынет, вся, на миг, изумленно:
«Какая ти-ши-на вокруг!»
Сама – вся миг, вопрос, чуть слышно:
Как глухо? как немо? как же так?
И хвост ее, изогнутый пышно,
Той тишины вопросительный знак.
Замрет, растаращит глаза, «как тихо!»
Зверек!.. И легче становится мне.
И нет уже ни беды, ни лиха
На этой, единственной, земле!
1987.
ДОЖДИК СЛАБЕЕТ
Дождик слабеет, все хлипче
Крап по цветкам, по их клапанам...
Вдруг просияет, улыбчив,
Дымчатый лес, весь закапанный.
Вдруг: неожиданно светел,
Лес широко улыбается.
Так улыбаются дети,
Медля, когда удивляются.
Птицы витийствуют! Сыпятся
Трели, каскад золотой,
Вслушались сосны на цыпочках:
Нет ли в них ноты не той?
Строгим жюри птичьих конкурсов
Замерли консерваторски:
Сосны, высокие торсы их,
И на пуантах березки...
1987.
ОЖИДАНИЕ ДОЖДЯ
Снизилась к лесу – туча сизая,
И снова – кверху напрямик:
Точно такси затормозившее
Перед прохожим ночным на миг.
В пыли от пекла поле вымерло,
А от скирды валит тепло:
Словно зимой от калорифера
У выходных дверей метро.
Лишь тли в траве сухой... лишь колются
При встрече усиками тли:
С такой же точностью стыкуются
Космические корабли.
Колодцев руки взвиты до неба,
Взывают к высоте, везде!
Сложены остро крыш ладони
В молении о дожде, дожде!
Пусть хлынет, пусть не перестанет,
Пусть враз наполнятся ушаты!
Пусть будет день, как арестант,
В дождя одежде полосатой.
Да пусть он льется все тоскливей,
Долгий, занудливый, хоть плачь;
Как длинный перечень фамилий
В концовках телепередач.
Но вот – на горизонт – накатывают
Громады туч, темня низы.
Монументальной пропагандою
На тему будущей грозы...
1972.

ВСЯ НАША ЖИЗНЬ
ВСЯ НАША ЖИЗНЬ
Конечно, мы такого не видали.
Однажды в цирке, под барабанный гуд,
В момент тройного сальто-мортале
Прыгун заснул;
И спит... покуда пола не коснулся.
Ну что же, наработался, устал,
И мы в метро так дремлем... А проснулся —
Уже конец, уже не встал.
Что за беда! Лицо слезами залито?
Нет ни обид, ни страсти роковой.
Вся наша жизнь —
Это в теченье сальто
Один мертвецкий сон вниз головой.
март 1986.
ПУТЬ
Проснулся, оделся и вышел.
Рано еще и темно.
Созвездья все выше и выше
Уходят, как рыбы на дно.
А пульс, беспокоясь,
Торопит опять:
Иду на поезд, иду на поезд,
Не опоздать! Не опоздать!
Лишь в миг дорассветный
Помедлю, где рощи растут,
Где свистом
взлетевшей
ракеты
Листок тополевый сдут...
Рождается утро чисто.
А сверху,
все ниже,
ко мне
Тень птицы, безмолвно и быстро,
Летит по широкой стерне.
И сменами
тени и света
Вся жизнь
переполнена эта!
Вся жизнь —
опозданье на поезд,
И бег, через шпалы, вдогон!
Но, может быть, если напорист,
Догонишь последний вагон...
Вон дуб призадумался Буддой,
Какое сегодня число?
Умру – никогда не забуду
О мире, где жить повезло,
Где, утренним блеском окутан,
Встаешь, до работы охоч.
И как-то не думаешь утром,
Что будет когда-нибудь ночь.
1959.
МАМА
В детстве кажутся вечными
детство и мать.
Ничего не успел о тебе узнать!
Ничего не успел, навсегда виноват,
А когда спохватился —
поздно, Солдат!
Поколенье построено... Шинели хрустят.
И уже четверть века
живу без тебя,
Все теперь
передумывая наново,
Мама моя, Софья Романовна!
Мне в трамвае еще:
«Молодой человек!»
Просто выгляжу так...
Но ведь сколько вех!
Ну, не молод, мол, годы, как птицы...
Ну, за сорок,
это может с каждым случиться.
Нет! Я молод...
И даже больше:
я слаб!
Инфантилен и робок,
как ребенок и раб.
Беден? Я?
Я весь мир охватом косым
Забираю,
как бредень,
как Божий сын.
Только толстым и наглым
стать я не смог.
Не хватило...
До старости лет щенок.
И не скажет вдовица
в углу домовитом,
Теплой печью пропахшем
и полом мытым,
С благолепием подушек и ленью кота,
Что мужчина самостоятельный, да,
Положительный...
Так не скажет покуда...
Для людей,
суть вещей понимающих туго,
Что-то есть во мне не такое, не так,
Что пугает их, бесит, обманывая.
И я все еще сын,
беззаботный босяк,
Моя мама, Софья Романовна,
В детстве кажутся вечными
детство и мать.
Ничего не успел,
только помню опять,
Только вижу:
с авоськой плетешься домой,
И наверно, не старой была,
хоть седой.
А теперь и я стал седоват,
Сам, наверное, стал стареть и сдавать.
На душе у меня беспокойство одно,
Будто зимний вокзал,
где разбито окно.
Дует, холодно, пусто... Вечерний снег.
И давно уже мамы на свете нет.








