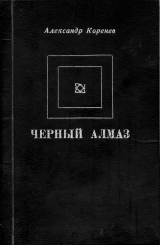
Текст книги "Черный алмаз"
Автор книги: Александр Коренев
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 6 страниц)
ЧЕРНЫЙ АЛМАЗ
СТИХОТВОРЕНИЯ
Александр Коренев

Составление Г. М. Кореневой и М. М. Красикова.
Вступительная статья и подготовка текста М. М. Красикова.
СОДЕРЖАНИЕ
М. Красиков, Слово о «неизвестном поэте»
СОЛДАТСКАЯ ЛЕТОПИСЬ
Вьюга. Ночь...
К фронту
Маршевая рота
«Женщины, не ждите нас, не надо...»
Девочка
Спанье
Днем буранным
Пополненье
Штрафники
Утром
Отбытие
Разведка
Мина
В палате
Разбитый вокзал
Звезда («На фронте ночь.»)
Перед боем
В окопе
Письма
Посланья
Позывной
«Как ты играла, девочка, Прокофьева!»
Колючая проволока
Какая тишина!
Костел
Атака
ТРАВА ЛАГПУНКТА
Допрос
Трава лагпункта
Звезда («И вот опустели лагеря...»)
Горная гроза
Притча о казненных в ГПУ
Бабий вагон
Памяти лучших
Персональный пенсионер
На великих стройках
Телеграмма
Тридцать седьмой
«Забуду ли? О том лишь тебе...»
БЫЛО НЕ ТАК
Как будто бы снова солдатом...
Было не так
Фронтовое поколение
Города войны
Молебен
Фильм
Сауна
В посольстве
МАЛЯР
Маляр
Во тьме
Солдатская кухня
В двадцать лет
Стимул
Forte
Церковь
Песня о поэте
«Ветер времени листает вхлест имена»
Монолог Фортинбраса
Кульчицкий. Поэма.
ВПОЛШЕЛЕСТА
«В мире тихо, как в воде»
Белым-бело
Грибы
Круговорот
Темные кони
Река
Будоранью
Все глубже в лес...
Дождик слабеет
Ожидание дождя
ВСЯ НАША ЖИЗНЬ
Вся наша жизнь
Путь
Мама
Утро
Сага
В океан
Бега
Фламинго
Последняя головня
Промельк
Последнее солнце
Возраст
Горы
ЛЕЖАЩАЯ ЖЕНЩИНА
Лежащая женщина
В пути
Радистка
Сестра милосердия
Этой ночью
Костер
Кафе
Во вьюге
Последний трамвай
Возвращение
Адресатка
ЧЕРНЫЙ ПРИЛИВ (Памяти Люды)
Напоминание
Пламя
Навечно
Рояль
Черный прилив
Старый ящик
Клоун
Разлучение
Имя твое
Прощание (через десять лет)
Бродячая собака
М. Красиков. Памяти поэта Александра Коренева
СЛОВО О «НЕИЗВЕСТНОМ ПОЭТЕ»
Сначала была фотография. Та самая, которая открывает эту книгу. Я нашел ее в архиве Михаила Кульчицкого и долго не мог отвести глаз от этого обаятельного лица. Паренек в лихо заломленной шляпе и с сигаретой в зубах явно хотел походить (и походил!) на западного киногероя и уж во всяком случае – на «бывалого человека». (Было ему тогда, в 1939-ом, – 18... Как они спешили взрослеть, эти юноши, не подозревая, что скоро не фасоном шляп, а чем-то совсем другим будет определяться их взрослость!..).
В том же архиве хранилась знаменитая фотографическая карточка юного Сергея Есенина с трубкой и тростью – характерными мужскими атрибутами, которые, очевидно, должны были (но никак не хотели) придать налет суровости и мужественности этому детски нежному лицу. На обороте – расползающиеся крабы серьезных мальчишеских закорючек: «Кульчицкому – в знак памяти от первого вечера. Коренев. 28/XII-39».
А потом был звонок в дверь обыкновенной московской квартиры, и мне навстречу не вышел, а вылетел человек, в котором – вопреки пенсионному возрасту – сквозило что-то неистребимо пацанское.
Я ничего не знал о нем. Не знал и его стихов. Вернее, думал, что не знал. Потому что, когда услышал стихотворенье «Вьюга. Ночь...», невольно воскликнул: «Так это Вы тот самый «неизвестный поэт», чьи стихи Евтушенко напечатал в «Огоньке»? – Да, эти стихи давно разошлись по рукам, и кому их только ни приписывали!» – ответил Александр Кириллович.
А в «Огоньке» (№ 47 за 1988 год) в поэтической антологии «Русская муза XX века» за подписью «Неизвестный поэт» было напечатано стихотворение «Валенки»:
Мой товарищ, в предсмертной агонии
Не зови ты на помощь людей.
...Дай-ка лучше согрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.
И не плачь, не скули, словно маленький.
Ты не ранен. Ты просто убит.
Дай-ка лучше сниму с тебя валенки.
Мне еще воевать предстоит.
«... Думаю, что автор крошечного стихотворения «Мой товарищ, в предсмертной агонии...» был гениален, – писал в предисловии Е. Евтушенко. – Это стихотворение, если верить легендам, было найдено в офицерском планшете лейтенанта, убитого под Сталинградом. Эти стихи уже неоднократно цитировались в романах, и каждый раз – с разночтениями. Мне его когда-то прочитал Луконин, сказав, что ничего лучшего, в поэзии о войне, не было написано. Стихотворение страшноватое, и ханжи до сих пор противятся публикации этого стихотворения, как якобы апологии мародерства».
Не знаю, в каких романах могли цитировать такие строки. Но факт: если стихи стали фольклором, значит люди ощутили в них потребность, значит был в них тот вкус Правды, который не спутаешь ни с чем. И фольклорная безымянность – не высшая ли награда поэту?
В изданных на мелованной бумаге антологиях поэзии о Великой Отечественной войне таких жестких формул, такой «прицельной» изобразительности мы не найдем, хотя среди авторов этих парадных изданий были отнюдь не только записные борзописцы, и не нюхавшие пороху, по и честные фронтовики, и те, кто полегли в боях «красивыми, двадцатидвухлетними». Не найдем, возможно, не потому, что таких стихов никто не писал, а потому, что эта правда – без тени намека на героизм, на патриотизм и вообще какой-либо общественный, гражданский пафос – слишком долго была не ко двору. Боль и страдания этого, отдельного солдатика – его обмороженные пальцы рук, его окоченевшие в драных сапогах ноги – безотносительно к «общей идее» – казались чем-то неприличным, едва ли не постыдным. Эту правду обычно называют «сермяжной». А сермяга, как известно (хотя бы по преданию), пахнет отнюдь не французскими ароматами и даже не «Красной Москвой». Вот и поныне зажимают нос эстеты, читая такие стихи.
Коренев в своих фронтовых стихах ничего не воспевает—он лишь фиксирует: так было. Название этого цикла – «Солдатская летопись» – выбрано им очень точно. Но автор – не бесстрастно-отрешенный Нестор, который пишет, «добру и злу внимая равнодушно», и уж тем более не любитель «крутого» натурализма, граничащего с цинизмом, как может некоторым показаться. В сущности, на всех его стихотворениях лежит отсвет «лелеющей душу гуманности» (если вспомнить прекрасное выражение В. Г. Белинского). И в стихотворении «Вьюга. Ночь...» ее не меньше, чем в других стихах. Но здесь человечность взята по высшей мере космической справедливости; жалость и сочувствие к другому – корчащемуся в предсмертных судорогах товарищу – уравновешены не жалостью к себе и собственной болью, а простым знанием своей – такой же точно – страшной судьбы и видением – до галлюцинации – себя на месте умирающего друга.
Александру Кореневу удалось, как мало кому из воевавших поэтов, в этих – записанных впопыхах, часто негнущимися от мороза пальцами, впотьмах, и даже не карандашом, а горелой спичкой – строках так откровенно и с таким накалом чувства рассказать о естественных, простых и самых важных (а потому не могущих быть нескромными или постыдными) желаниях солдата, ставшего «пушечным мясом», «не долюбив, не докурив последней папиросы».
Акт «торопливой звериной любви» (язык не поворачивается назвать это «сексуальной сценой») предстает в стихотворениях «К фронту» и «Костел» как некое древнее магическое действо, заклятье Смерти, попытка Живого противостоять Неживому. Человек на войне оказывается в ситуации изначальности бытия: он, ходящий каждый день на волосок от гибели, призван – самим своим бытием – каждый день сотворять мир заново. Что, как не миф о сотворении мира – в этих бесхитростных, на первый взгляд, стихах? Человек (а, значит, и мир) обретают бессмертие в животворящем женском природном начале:
Если буду убит, я теперь буду вечен.
Если завтра исчезну из списка живых,
Как ниспосланный Богом сын человечий,
Вновь из недр я воскресну твоих.
Поразительно в этом стихотворении сравнение простертого над женщиной юноши-солдата с Христом. Благодаря этому образу миф о сотворении мира становится одновременно рассказом о спасении этого мира, казалось бы, безоглядно тонущего в хаосе войны.
Жизненный факт, зафиксированный поэтом в коротких стихотворных набросках, бытовых зарисовках, порой невольно приобретает символический смысл. Девчушка, н е ж н о баюкающая «куклу»-гранату (стихотворение «Девочка»), эта юная мадонна XX века – какой страшный символ самоистребляющейся людской цивилизации! В стихотворении «Мина» – изложение самого «обыденного» (и страшного своей обыденностью) фронтового события:
У мальчишки, у связиста,
Оторвало кисти рук.
И – предположение (ведь что слали из дому? – варежки да кисеты!):
Может, где-то сейчас на севере,
Чтобы сыну на фронт послать,
Из очесов овечьих серых
Рукавицы вязала мать.
Вот и все стихотворение. Ровный, спокойный тон повествования. Но – мурашки по коже. Сущность войны – дегероизированной, деромантизированной – схвачена здесь с поразительной точностью и остротой.
Такое знание сути получают только «из первых рук». И Александр Коренев, 1921 года рождения, был на войне с 1941 по 1945-й, что называется «от звонка до звонка». В октябре 1941-го, в дни битвы под Москвой, он, студент Литинститута, добровольцем зачислился в маршевую роту, а с мая 1942-го по 1944-й он – стрелок-автоматчик, курсант, командир взвода дивизионной разведроты на Сталинградском, Южном, Первом Украинском фронтах. В Сталинградской битве был ранен. Окончив в мае 1943-го курсы младших лейтенантов, участвовал в прорыве на Южном фронте. В ночном бою получил сквозное ранение (которое является смертельным) в области живота и позвоночника пулей навылет, но – выжил («По всем законам физики с механикой я десять раз уж должен быть убит», – напишет он позже). После выхода из госпиталя – учеба во 2-ой спецшколе Центрального штаба партизанского движения в Москве и в октябре 1944 года Коренев под кличкой «Капитан» во главе диверсионной группы «Рейд» был заброшен во вражеский тыл, на территорию Восточной Пруссии, для выполнения особых заданий. Группа уничтожена, он, чудом спасшийся, воюет в составе разведотряда Игоря Валюшкевича, участвует в освобождении Польши. Снова дважды ранен. И снова – в строй.
Что его спасало на войне? Конечно, неуемная воля к жизни. Природная сметка. Юмор. А еще – стихи. Об этом он сам сказал – уже после войны:
Мои стихи!
Наверное, они
Служили мне защитою
в те дни.
Ведь к жизни из немых своих потемок
Они рвались,
храня мой каждый шаг.
В беременной
удваивает так
Ее живучесть
будущий ребенок.
(«В двадцать лет»)
Вот оно—доказательство древнейшей магической функции поэзии: настоящая поэзия – это всегда оберег.
Фронтовые стихи Коренева – это хроника л и ч н о й войны, мгновения, в наибольшей степени сконцентрировавшие в себе жизнь поэта. И совсем не случайны среди этих мгновений – восторг и ликованье души, постоянно обращенной к Природе (стихотворения «Утром», «Перед боем»). В поэме «Кульчицкий» Коренев сам себя назвал «поэт-эстет». Это справедливо. Восхищение красотой мира и воплощение ее максимально адекватным способом (в звуковом, живописном, графическом образе – это главное содержание его творчества. Коренев прежде всего – тончайший лирик, умеющий разговаривать с природой «вполшелеста» (кстати, скажем спасибо поэту за рождение самого этого слова – а Коренев так назвал свою книгу стихов о русской природе – именно такого уровня интимности в общении с миром нам больше всего сейчас не хватает).
Да, дело поэта – видеть красоту и уметь передать это видение другим. Даже тогда, когда эта красота убийственна, бесчеловечна:
На кольях нити проволоки, как ноты,
Колючки – как бемольные значки.
Сейчас смертельное аллегро для пехоты
Война сыграет,
Рвя тела в клочки.
(«Как ты играла, девочка, Прокофьева!»)
Здесь Ужасное стремится выступить в роли Прекрасного, и – как ни дико – ему это почти удается... Это тоже эстетика – эстетика Войны, та музыка, которую, по мысли Блока, обязан слушать настоящий поэт, как бы ни хотелось ему заткнуть уши и закрыть глаза.
Чего-чего, а жить, зажав уши и закрыв глаза, Александр Кириллович Коренев никогда не умел, не мог, да не хотел. В авторском машинописном экземпляре поэмы «Исповедь» карандашом отчеркнуты строки:
Не моя это профессия —
Дуракам очки втирать.
И надпись сбоку, на полях, сделанная, очевидно, человеком, хорошо знавшим поэта: «В этом весь Коренев».
За одно только стихотворение «Атака» (1945 г.) можно было поплатиться годами концлагерей. Хотя что этом стихотворении «такого»? Погибает солдат с криком «За Сталина!» и в последний миг в его сознании проносится вся жизнь:
Вот с дедом на покосе,
В ночном, лицо коня.
Вот скарб из изб выносят,
И голосит родня.
С конвоем по дороге
Вот гонят мужиков:
Обложенных налогом
Обычных кулаков.
– Вперед!.. Убит во взводе
Еще солдат, гляди:
Кровь красная, как орден,
Вразброс бьет из груди.
– За Ста...
в бою бесстрашном
Снесен огнем косым,
Лицом уткнувшись в пашню,
Лежит крестьянский сын.
Повествование идет почти с эпическим спокойствием, оценочных слов, суждений – нет. Но есть высокий уровень понимания трагедии народа, трагедии миллионов, раздавленных сталинским режимом и вынужденных невольно, защищая Родину, защищать этот режим. Какая кошмарная ирония Истории в «награде» долготерпеливому русскому мужику:
Кровь красная, как орден,
Вразброс бьет из груди.
Такие стихи становятся фактом не только литературной, но и исторической жизни страны.
Послевоенная судьба поэта складывалась внешне благополучно. Он работает в редакциях военных газет, журналов, еженедельников, во Всесоюзном Радиокомитете – литконсультантом, разъездным корреспондентом, старшим редактором, заведующим редакцией. Является участником 2-го Всесоюзного совещания молодых писателей (смешно: кто и чему мог научить поэта, понявшего уже самое главное в жизни – что для того, чтобы быть писателем, как утверждал русский классик, нужно одно отрицательное качество: не лгать; кто мог наставлять, учить уму-разуму поэта, создавшего уже свои главные стихи, которые на десять голов были выше того, что печатали в толстых журналах генералы от литературы?).
В 1952 году Комиссия по работе с молодыми авторами СП СССР, как предусматривал обряд эспэшной «инициации», отправила его на сооружение Южно-сибирской магистрали (ветка Кулунда-Барнаул), где около года «начинающий литератор» должен был заведовать вагоном-клубом, выпускать дорожную газету и вообще, пообщавшись с самым передовым отрядом советского рабочего класса, набраться нужных впечатлений. Итогом этой командировки стала первая книга поэта – «В незнакомом городе» (М.: Сов. писатель, 1955). В ней были стихи о прекрасной сибирской природе, о славных людях – строителях Южсиба, о прошедшей войне, но о «любимой партии» не было и полсловечка. И даже традиционная «слава труду!» выписывалась у Коренева как-то странно:
Рычит экскаватор,
В костры окружен, работая день и ночь.
Большая Медведица
хочет помочь,
Снижаясь к нему ковшом...
(«Вместо письма»)
А поэт набрался не только заданных впечатлений, и в его блокноте остались такие стихи, как «Трава лагпункта», «Звезда», «Бабий вагон»...
И в этих стихах поражают не только гражданская смелость, уровень социального мышления автора, но и чисто изобразительная мощь. В стихотворении 1957 года «Звезда» описан опустевший лагерь, в котором только «осталась уборная как Монумент дистрофику и доходяге».
И кто-то на мерзлой дощатой стене
Красную звезду нацарапал.
Свети же! Ни черти, ни кум не сотрут
Свободы заветный знак:
В единственном месте,
Где кровью срут,
Где окоченевает мертвяк.
Вот он – страшный памятник Системе, памятник идеалам, за которые отданы жизни самых лучших. Идеалам, которые и сегодня многим светят отнюдь не светом этой звезды.
В 1979 году, когда каждое утро радио горланило: «Слышишь, Время гудит – БАМ!» – Коренев пишет стихотворение «На великих стройках», вспоминая, очевидно и о командировке 1952 года:
Бредовые контуры грядущего!
Пролегла сквозь гиблые места
Магистраль болотами и пущами,
Как по голому рабу рубец хлыста.
Беспощадный образ! Да и «образ» ли? Приговор!
Коренев никогда не боялся задавать «лишние» вопросы (на которые, увы, и сегодня нет ответа) – вроде того, который завершает стихотворение «Персональный пенсионер» (1979):
Как вы смеете, государство,
Дань почета платить палачам!
И не потому не боялся, что ему, фронтовику, терять было нечего. Мы знаем массу примеров, когда люди, честно заработавшие на войне ордена «Славы» или звезду «Героя», в мирной жизни трепетали перед окриком незначительного брежневского чиновника. Не боялся Коренев ничего и никого потому, что из своих военных лет вынес твердое убеждение:
Как кровью на раненом бинт,
История пропитана правдой.
(«Забуду ли? О том лишь тебе...»)
Правда – то самое шило, которое ни в тюремных, ни в каких иных мешках не утаишь. Да, но правду Истории тоже должен кто-то сказать.
Коренев не был отъявленным диссидентом, но не желал и быть конформистом, осознав печальную закономерность:
Если быть собой не смеем мы,
То расплатимся сполна:
От общения с пигмеями
Искривляется спина.
(«Изречение»)
По внутреннему самоощущению поэта, война не кончилась:
И под серийной сменой портретов,
И через долгие годы вранья,
С дотов – до нынешних кабинетов
Длится передовая моя.
(«Линия фронта», 1979, 1988)
Но жизнь его, к счастью, не поглощалась целиком этой борьбой: слишком много места занимала в ней Любовь. Любовь к миру со всей милой бестолочью его мельчайших подробностей («для тех, кто понимает», как поет Б.Окуджава) – и любовь к Женщине. Кореневу и здесь чрезвычайно повезло: в его жизни случилась большая, хотя и трагическая любовь. Людмила Сабинина – прозaик, автор прекрасных книг для детей и юношества, его «Лю», была первой женой и музой поэта. К ней обращена его фронтовая лирика, ее памяти посвящены, может быть, самые пронзительные его строки. Вторая жена – Галина Михайловна Коренева, спасшая его из мрака отчаяния, продлившая его жизнь на многие годы, – человек, без которого издание этой книги было бы невозможно.
В 1967 году Александр Коренев написал:
Век заканчивается,
Лет еще тридцать,
И на моих строк звенящий звук,
Как на падаль воронье, слетится
Разное кандидатье наук.
(«Кульчицкий»)
Да простится поэту некоторая нескромность: «кандидатью» в самом деле есть чем «поживиться» в его стихах – и лингвистам, и литературоведам. «Особенность поэзии Коренева – насыщенность ее метафорами, предельно, а порой чрезмерно образный язык. Стихи ломятся от обилия образов, иногда это уже недостаток, напоминает перенасыщенный раствор», – писал в обширной вступительной статье к «Избранному» поэта Евгений Винокуров, тонкий знаток и ценитель поэзии. Вопрос о необходимости (оправданности) и достаточности образов в стихотворении – вопрос спорный, который надо решать конкретно в каждом отдельном случае и только с учетом всего художественного целого. О друге Коренева Михаиле Кульчицком Илья Сельвинский в 1939 году писал, что это «поэт, заваливающий себя образами». Хочется спросить: ну, а Хлебников, Есенин, Маяковский, Мандельштам, Пастернак, наконец, – разве не «заваливают» себя и читателя потоком образных ассоциаций? И разве мы, продвигаясь от строчки к строчке, не ждем этого каскада метафор, не замирает разве наше читательское сердце в их предчувствии, не шепчут ли в восторге наши губы «ух ты!», когда сравнение, эпитет или метафора поражают новизной и «неевклидовостью» мышления автора? Да и как не радоваться изобильности творящей натуры, ее художественной щедрости? Как не согласиться со старой истиной: образ – основа поэзии? И, следовательно, кашу маслом не испортишь...
Е. Винокуров приводит далее целый список (который без труда можно было бы удвоить или утроить) замечательных метафор, выписанных из стихотворений Коренева. Однако, как мы помним, у нашего автор; есть стихи и вовсе «безобразные», где простое сочетание обычных слов воздействует не менее сильно, чем самая изысканная метафора (например, стихотворения «Мина», «Атака»). Дело, в конце концов, не в наличии или отсутствии метафор. Говоря в целом о творчестве А. Коренева, Винокуров утверждал: «Бесспорно одно – это настоящие стихи. Слишком много в них действительной боли, опыта, всего – и горького и радостного». И – делал вывод: «Не так-то много сегодня поэтов, творчество которых было бы столь подлинно самобытным, как творчество Коренева». К сказанному в 1979 году добавить нечего: ситуация не изменилась.
Техническая сторона многих стихов Коренева искушенных в стихотворческом ремесле читателей может повернуть в изумление. Ритмические сбои, смещение размеров, пустоты в строке вызовут у таких читателей раздражение. Ощущение первого наброска, черновика заставит их отвергнуть не один текст. Но эта же «корявость» у других читателей вызовет ощущение первозданности, сейчас рожденности. «Корявость» ученика и «корявость» мастера – разные вещи. Вспомним «небрежение словом» (Д. С. Лихачев) у Достоевского, вспомним знаменитую «корявость» стиля Толстого («Вы думаете, Толстому легко давалась его корявость? Он 20 раз переделывал, и на двадцатый получалось, наконец, коряво», – говаривал русский классик).
У Коренева есть своя строка – к ней нужно привыкнуть, и не спешить мерить ее на общий аршин
Рассудочных, головных, чисто смысловых стихов у Коренева мы почти не найдем. Красота мысли, логики не представляется ему самоценной. Она обязательно должна дополняться красотой чувства и красотой слога (Лев Толстой называл такие стихи «рожеными» и писал Фету, что они ему нравятся больше всего). Кажется, что автор поставил своей задачей разбудить у читателя все пять чувств, создать иллюзию полного жизнеподобия. Во всяком случае, зрение, слух, обоняние – постоянные «рабочие инструменты» поэта и – соответственно – читателя стихотворений Коренева. Звуковой образ, возникающий одновременно со зрительным, – излюбленный кореневский «конек»: поэту под силу передать и «шум тишины», и пение птиц, и грохот негритянских барабанов. Некоторые стихотворения настолько музыкальны, что, читая их, как ноты, можно сыграть сонату. Эти стихи хочется читать вслух и не проглатывать слова, а подольше подержать на языке иную «вкусную» строчку-леденец, как, например, эту: «две коленки крепче репки». Стихотворение «Темные кони» не просто все построено на звукописи («Их не видно. И лишь (слышат уши) Шорох тел, как мешок неуклюжий, Ворохнется там или тут...») – звук у Коренева (не от опыта ли разведчика это?) обретает подлинные права гражданства и способен воссоздавать целостный образ:
Хорошо как! Запомню все это,
И в ушах унесу, не в глазах:
Ночь. Тепло. Тишина.
Планета,
Где две лошади бродят в овсах.
Передать настроение, знает каждый поэт, гораздо труднее, чем сообщить мысль (даже самую замечательную). Кореневу это чаще удается, чем не удается.
Метафорика же Коренева всегда неожиданна и... естественна. В его метафорах и сравнениях нет вычурности, они всегда словно напрашиваются сами собой. Вот, например, Коренев пишет в стихотворении «Морские лилии»:
Лишь лилии – лебеди леса —
Доходят до самой воды.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Как берега чуткие уши,
Они на безлюдье растут...
Здесь как бы нет «выдуманности»: ведь так и есть... Или в другом стихотворении:
Свежесть леса, как удар кулака,
В нос шибает озоном,
Точность, уместность и единственность этого сравнения будут особенно очевидны, если взглянуть на название и дату: «Утренний лес в немецком тылу», 1944.
«Превозмогая обожанье», смотрит поэт на мир и не устает удивляться. Чему? Ну, хотя бы тому, что «хруст белого снега под каблуком – как будто яблоко ест ребенок», или этому
Последним одиноким рейсом
Трамвай,
Как рыжая лисица,
Бежит, принюхиваясь к рельсам...
Многие стихи Коренева могут заслужить упрек в описательности (например. «Спанье», «Отбытие», «Днем буранным»). Но кто и когда объявил описательность смертным грехом поэзии? Ведь для поэта описать мгновение – значит вырвать его из плена небытия. Литература – служба Памяти.
Живописность, картинность, наглядность – подлинная страсть Коренева. Понятна его любовь к Есенину: фотографическая карточка полузапрещенного в 1939 году «певца упадничества» – это был «символ веры» молодого поэта.
Вот как начинается стихотворение «Апрельский гимн»:
Ларинголога
огромным зеркалом
Солнце
вспыхивает,
глядя в горло улиц —
Что охрипли от парного пекла...
Это – в и д и ш ь. Как видишь и такую, например, картину, набросанную всего несколькими штрихами:
...из колясок
псы
торчат,
Как идолы
острова
Пасхи.
(«Колесный транспорт»)
Коренев – мастер зрения. Когда нужно, поэт создаст графические изображения, работая линией, но гораздо чаще он использует цвет. Причем не полутона и оттенки, а насыщенные основные цвета. Так, в стихотворении «Мы идем по ничейной земле» (1943) необычайно – до жути – живописны образы войны и смерти:
Белой бабочкой
около дула
Нестерпимо забьется огонь
Ночь как море. И берега нет.
И ракеты химический свет
Повисает:
все поле,
подробно,
До воронок, до шелковых трав ,
Изменив своей синькою ровной,
Словно жизнь у него отобрав...
Не случайно первый сборник Коренева (редактором которого был Михаил Светлов) открывался стихотворением «Маляр» (1944), где были строки:
Белит маляр,
покуда краски хватит!
Весь белым, синим перемазан день.
И мне бы
В ветре, грубом и сыром,
Торчать таким веселым маляром!
И мне б владеть, поднявшись на леса,
Цветами радуг, целым миром новым:
Зеленым,
синим,
розовым,
лиловым!
Покуда черным не зальет глаза.
Это достаточно точная самоидентификация. Как и другая:
Я солдатская кухня
В развалинах города.
Я в пути, я в пути!
И года, чтобы спас их
От словесного голода,
С котелками ждут очереди впереди.
В юношеском, довоенном (1940), стихотворении «Дай, судьба» поэт писал:
Дай, судьба, мне поклажу на славу —
И любовь, и заботу, и труд,
Положи в меня звезды и травы,
Как мешки на подводу кладут.
Просьба была уважена: судьба щедро одарила его и любовью, и заботой, и трудом, звездами и травами, а еще – нелегкими годами жизненных испытаний, но самое главное – поэтическим даром. Он был поэтом не только в стихах, но и в жизни, а это случается не так уж часто.
Коренев успел издать более 20 книг стихов и переводов. Книг неровных, где наряду с блестящими произведениями есть стихи, которые должны были попросту оставаться в блокнотах как некие стихотворные упражнения (необходимые, разумеется, каждому стихотворцу). Случалось – поэту изменял вкус, автор словно не замечал, что порой зарифмовывает банальности. Но даже в «средних» стихах – нет-нет и мелькнет золотинка (шальная метафора, роскошная аллитерация, свежий эпитет; одна строка – но какая!) —и не жалеешь, что пришлось переворотить энное количество «словесной руды». И – подкупающая и все искупающая искренность поэта. Строгий редактор такие стихи забракует и будет, безусловно, прав, но благодарный читатель не столь беспощаден: он умеет прощать поэту (если уж принял его душой) все – «единого слова ради».
Между прочим, стоит вспомнить, что в поэтическом окружении Коренева предвоенной поры ценились строчки. Мастерски сделанная строка вызывала больший восторг, чем целое хорошее стихотворение. Не отсюда ли эта тяга у некоторых поэтов этого поколения (в том числе иногда и у Коренева) делать строчки, а не стихи?
И, кстати, такой парадокс: в так называемых «слабых» стихах наглядным становится сам стиль мышления исторической эпохи, личность поэта неожиданно проявляется, обнажается гораздо больше, чем в «сильных». Тут ты гол, как сокол, тут уж не спрячешься за броню «формы», здесь ты застигнут врасплох и выбалтываешь, может быть, самое сокровенное – случайными, «всехними» словами, как бы не успев еще найти своих. В этом отношении читать слабые стихи Некрасова или А. К. Толстого более интересно, чем те, которые стали классикой. К тому же, живого поэта, как и живого человека, любишь вместе с его слабостями. А часто и не поймешь без этих слабостей. «Гамбургский счет» – хорошая вещь, но в реальной жизни и в реальной читательской практике всегда ли он уместен? Да и к тому же, у поэзии (настоящей!) есть одна привилегия: в отличие от прозы, она, по слову Пушкина, «прости Господи, должна быть глуповата». И то, что у Коренева порой «глуповата», по-пиросманиевски наивна именно любовная и пейзажная лирика (60-летний опытнейший поэт пишет вдруг так, как начинающий баловаться стишатами юнец) – знаменательно. Поэт в любви – всегда дитя.
Да, для полноправного члена Союза писателей СССР время от времени гостеприимно распахивались двери крупнейших московских издательств. В аннотациях к сборникам, выходивших в 1960-е—70-е годы Коренева величали «известным советским поэтом», но критики в своих пресловутых «обоймах» такого поэта не упоминали. Он был одиночкой. И не удивительно, что в 11-м томе биобиблиографического указателя «Русские советские писатели. Поэты» (М.: Книжная палата, 1988) Коренева нет, как нет и Владимира Корнилова и многих других достойных людей (зато зафиксирован каждый поэтический «чих» В. И. Лебедева-Кумача).
Впрочем, что ж винить критиков и тем более библиографов? Главные стихи поэта не обладали хитроумием верблюда, умудрившегося бы пролезть сквозь игольное ушко советской цензуры. Их ошеломляющая прямота, безыскусственность делали их непроходимыми в печать «ни при какой погоде».
Господи, да мы убиты оба:
Пулей – ты,
замалчиваньем – я, —
горестно обратится Александр Коренев к другу своей юности Мише Кульчицкому в 1967 году.
Впрочем, он знал себе цену. И не суетился. Не спешил, как многие его собратья по перу, с началом перестройки распихивать свои «лежалые» творения по редакциям толстых и тонких журналов. Да и с изданием книги как-то не особо торопился, и за все перестроечные годы, когда, казалось, открылись новые возможности, не появилось ни одного сборника поэта.
«– Вот, лежит...» – говорил он спокойно, почти равнодушно, и кивал на топорщащуюся кипу листов.
Почему он так себя вел? Потому ли, что он, стреляный воробей, не очень-то верил в «перестройку» и Горбачева (сохранился его блистательный раек «Пещное действо», высмеивающий наших «перестроечников» с их «единицей демократии» – «пол-ельца»)? А, может быть, потому, что знал: «рукописи не горят», и рано или поздно все само собой устроится? Настоящим художникам свойственно это высшее знание...
Он хотел назвать эту книгу «Черный алмаз». Образ, как всегда у Коренева, очень точный, звучный и яркий. Алмаз – камень драгоценный, завораживающий своей таинственной (бездонной!) глубиной. А еще – это обыкновенный (и крайне необходимый!) инструмент мастерового-стекольщика. Поэзия – вовсе не зеркало жизни: разве сквозь зеркало может пройти солнечное тепло? Она – стекло, в которое тарабанят и дождь, и град, и снег – и солнце, солнце!.. Но чтобы вырезать стекло для окна в этот большой и неуютный мир, нужно и самому иметь "глаз-алмаз" и обладать твердостью руки, иначе ничего не получится.








