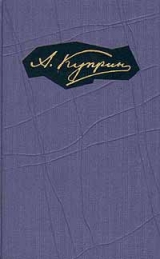
Текст книги "Том 5. Произведения 1908-1913"
Автор книги: Александр Куприн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 26 страниц)
И вот страшный, безумный, пронзительный крик на мгновение заглушил весь хор. Жрецы быстро расступились, и все бывшие в храме увидели ливанского отшельника, совершенно обнаженного, ужасного своим высоким, костлявым, желтым телом. Верховный жрец протянул ему нож. Стало невыносимо тихо в храме. И он, быстро нагнувшись, сделал какое-то движение, выпрямился и с воплем боли и восторга вдруг бросил к ногам богини бесформенный кровавый кусок мяса. Он шатался. Верховный жрец осторожно поддержал его, обвив рукой за спину, подвел его к изображению Изиды, бережно накрыл его черным покрывалом и оставил так на несколько мгновений, чтобы он втайне, невидимо для других, мог запечатлеть на устах оплодотворенной богини свой поцелуй. Тотчас же вслед за этим его положили на носилки и унесли из алтаря. Жрец-привратник вышел из храма. Он ударил деревянным молотком в громадный медный круг, возвещая всему миру о том, что свершилась великая тайна оплодотворения богини. И высокий поющий звук меди понесся над Иерусалимом. Царица Астис, еще продолжая содрогаться всем телом, откинула назад голову Элиава. Глаза ее горели напряженным красным огнем. И она сказала медленно, слово за словом:
– Элиав, хочешь, я сделаю тебя царем Иудеи и Израиля? Хочешь быть властителем над всей Сирией и Месопотамией, над Финикией и Вавилоном?
– Нет, царица, я хочу только тебя…
– Да, ты будешь моим властелином. Все мои ночи будут принадлежать тебе. Каждое мое слово, каждый мой взгляд, каждое дыхание будут твоими. Ты знаешь пропуск. Ты пойдешь сегодня во дворец и убьешь их. Ты убьешь их обоих! Ты убьешь их обоих!
Элиав хотел что-то сказать. Но царица притянула его к себе и прильнула к его рту своими жаркими губами и языком. Это продолжалось мучительно долго. Потом, внезапно оторвав юношу от себя, она сказала коротко и повелительно:
– Иди!
– Я иду, – ответил покорно Элиав.
XII
И была седьмая ночь великой любви Соломона.
Странно тихи и глубоко нежны были в эту ночь ласки царя и Суламифи. Точно какая-то задумчивая печаль, осторожная стыдливость, отдаленное предчувствие окутывали легкою тенью их слова, поцелуи и объятия.
Глядя в окно на небо, где ночь уже побеждала догорающий вечер, Суламифь остановила свои глаза на яркой голубоватой звезде, которая трепетала кротко и нежно.
– Как называется эта звезда, мой возлюбленный? – спросила она.
– Это звезда Сопдит, – ответил царь. – Это священная звезда. Ассирийские маги говорят нам, что души всех людей живут на ней после смерти тела.
– Ты веришь этому, царь?
Соломон не ответил. Правая рука его была под головою Суламифи, а левою он обнимал ее, и она чувствовала его ароматное дыхание на себе, на волосах, на виске.
– Может быть, мы увидимся там с тобою, царь, после того как умрем? – спросила тревожно Суламифь. Царь опять промолчал.
– Ответь мне что-нибудь, возлюбленный, – робко попросила Суламифь. Тогда царь сказал:
– Жизнь человеческая коротка, но время бесконечно, и вещество бессмертно. Человек умирает и утучняет гниением своего тела землю, земля вскармливает колос, колос приносит зерно, человек поглощает хлеб и питает им свое тело. Проходят тьмы и тьмы-тем веков, все в мире повторяется, – повторяются люди, звери, камни, растения. Во многообразном круговороте времени и вещества повторяемся и мы с тобою, моя возлюбленная. Это так же верно, как и то, что если мы с тобою наполним большой мешок доверху морским гравием и бросим в него всего лишь один драгоценный сапфир, то, вытаскивая много раз из мешка, ты все-таки рано или поздно извлечешь и драгоценность. Мы с тобою встретимся, Суламифь, и мы не узнаем друг друга, но с тоской и с восторгом будут стремиться наши сердца навстречу, потому что мы уже встречались с тобою, моя кроткая, моя прекрасная Суламифь, но мы не помним этого.
– Нет, царь, нет! Я помню. Когда ты стоял под окном моего дома и звал меня: «Прекрасная моя, выйди, волосы мои полны ночной росою!» – я узнала тебя, я вспомнила тебя, и радость и страх овладели моим сердцем. Скажи мне, мой царь, скажи, Соломон: вот, если завтра я умру, будешь ли ты вспоминать свою смуглую девушку из виноградника, свою Суламифь? И, прижимая ее к своей груди, царь прошептал, взволнованный:
– Не говори так никогда… Не говори так, о Суламифь! Ты избранная богом, ты настоящая, ты царица души моей… Смерть не коснется тебя…
Резкий медный звук вдруг пронесся над Иерусалимом. Он долго заунывно дрожал и колебался в воздухе, и когда замолк, то долго еще плыли его трепещущие отзвуки.
– Это в храме Изиды окончилось таинство, – сказал царь.
– Мне страшно, прекрасный мой! – прошептала Суламифь. – Темный ужас проник в мою душу… Я не хочу смерти… Я еще не успела насладиться твоими объятиями… Обойми меня… Прижми меня к себе крепче… Положи меня, как печать, на сердце твоем, как печать на мышце твоей!..
– Не бойся смерти, Суламифь! Так же сильна, как и смерть, любовь… Отгони грустные мысли… Хочешь, я расскажу тебе о войнах Давида, о пирах и охотах фараона Суссакима? Хочешь ты услышать одну из тех сказок, которые складываются в стране Офир?.. Хочешь, я расскажу тебе о чудесах Вакрамадитья?
– Да, мой царь. Ты сам знаешь, что, когда я слушаю тебя, сердце мое растет от радости! Но я хочу тебя попросить о чем-то…
– О Суламифь, – все, что хочешь! Попроси у меня мою жизнь – я с восторгом отдам ее тебе. Я буду только жалеть, что слишком малой ценой заплатил за твою любовь.
Тогда Суламифь улыбнулась в темноте от счастья и, обвив царя руками, прошептала ему на ухо:
– Прошу тебя, когда наступит утро, пойдем вместе туда… на виноградник… Туда, где зелень и кипарисы и кедры, где около каменной стенки ты взял руками мою душу… Прошу тебя об этом, возлюбленный… Там снова окажу я тебе ласки мои… В упоении поцеловал царь губы своей милой.
Но Суламифь вдруг встала на своем ложе и прислушалась.
– Что с тобою, дитя мое?.. Что испугало тебя? – спросил Соломон.
– Подожди, мой милый… сюда идут… Да… Я слышу шаги…
Она замолчала. И было так тихо, что они различали биение своих сердец. Легкий шорох послышался за дверью, и вдруг она распахнулась быстро и беззвучно.
– Кто там? – воскликнул Соломон.
Но Суламифь уже спрыгнула с ложа, одним движением метнулась навстречу темной фигуре человека с блестящим мечом в руке. И тотчас же, пораженная насквозь коротким, быстрым ударом, она со слабым, точно удивленным криком упала на пол.
Соломон разбил рукой сердоликовый экран, закрывавший свет ночной лампады. Он увидал Элиава, который стоял у двери, слегка наклонившись над телом девушки, шатаясь, точно пьяный. Молодой воин под взглядом Соломона поднял голову и, встретившись глазами с гневными, страшными глазами царя, побледнел и застонал. Выражение отчаяния и ужаса исказило его черты. И вдруг, согнувшись, спрятав в плащ голову, он робко, точно испуганный шакал, стал выползать из комнаты. Но царь остановил его, сказав только три слова:
– Кто принудил тебя?
Весь трепеща и щелкая зубами, с глазами, побелевшими от страха, молодой воин уронил глухо:
– Царица Астис…
– Выйди, – приказал Соломон. – Скажи очередной страже, чтобы она стерегла тебя.
Скоро по бесчисленным комнатам дворца забегали люди с огнями. Все покои осветились. Пришли врачи, собрались военачальники и друзья царя. Старший врач сказал:
– Царь, теперь не поможет ни наука, ни бог. Когда извлечем меч, оставленный в ее груди, она тотчас же умрет.
Но в это время Суламифь очнулась и сказала со спокойною улыбкой:
– Я хочу пить.
И, когда напилась, она с нежной, прекрасной улыбкою остановила свои глаза на царе и уже больше не отводила их; а он стоял на коленях перед ее ложем, весь обнаженный, как и она, не замечая, что его колени купаются в ее крови и что руки его обагрены алою кровью.
Так, глядя на своего возлюбленного и улыбаясь кротко, говорила с трудом прекрасная Суламифь:
– Благодарю тебя, мой царь, за все: за твою любовь, за твою красоту, за твою мудрость, к которой ты позволил мне прильнуть устами, как к сладкому источнику. Дай мне поцеловать твои руки, не отнимай их от моего рта до тех пор, пока последнее дыхание не отлетит от меня. Никогда не было и не будет женщины счастливее меня. Благодарю тебя, мой царь, мой возлюбленный, мой прекрасный. Вспоминай изредка о твоей рабе, о твоей обожженной солнцем Суламифи.
И царь ответил ей глубоким, медленным голосом:
– До тех пор, пока люди будут любить друг друга, пока красота души и тела будет самой лучшей и самой сладкой мечтой в мире, до тех пор, клянусь тебе, Суламифь, имя твое во многие века будет произноситься с умилением и благодарностью.
К утру Суламифи не стало.
Тогда царь встал, велел дать себе умыться и надел самый роскошный пурпуровый хитон, вышитый золотыми скарабеями, и возложил на свою голову венец из кроваво-красных рубинов. После этого он подозвал к себе Ванею и сказал спокойно:
– Ванея, ты пойдешь и умертвишь Элиава.
Но старик закрыл лицо руками и упал ниц перед царем.
– Царь, Элиав – мой внук!
– Ты слышал меня, Ванея?
– Царь, прости меня, не угрожай мне своим гневом, прикажи это сделать кому-нибудь другому. Элиав, выйдя из дворца, побежал в храм и схватился за рога жертвенника. Я стар, смерть моя близка, я не смею взять на свою душу этого двойного преступления.
Но царь возразил:
– Однако, когда я поручил тебе умертвить моего брата Адонию, также схватившегося за священные рога жертвенника, разве ты ослушался меня, Ванея?
– Прости меня! Пощади меня, царь!
– Подними лицо твое, – приказал Соломон.
И когда Ванея поднял голову и увидел глаза царя, он быстро встал с пола и послушно направился к выходу.
Затем, обратившись к Ахиссару, начальнику и смотрителю дворца, он приказал:
– Царицу я не хочу предавать смерти, пусть она живет, как хочет, и умирает, где хочет. Но никогда она не увидит более моего лица. Сегодня, Ахиссар, ты снарядишь караван и проводишь царицу до гавани в Иаффе, а оттуда в Египет, к фараону Суссакиму. Теперь пусть все выйдут.
И, оставшись один лицом к лицу с телом Суламифи, он долго глядел на ее прекрасные черты. Лицо ее было бело, и никогда оно не было так красиво при ее жизни. Полуоткрытые губы, которые всего час тому назад целовал Соломон, улыбались загадочно и блаженно, и зубы, еще влажные, чуть-чуть поблескивали из-под них.
Долго глядел царь на свою мертвую возлюбленную, потом тихо прикоснулся пальцами к ее лбу, уже начавшему терять теплоту жизни, и медленными шагами вышел из покоя.
За дверями его дожидался первосвященник Азария, сын Садокии. Приблизившись к царю, он спросил:
– Что нам делать с телом этой женщины? Теперь суббота.
И вспомнил царь, как много лет тому назад скончался его отец и лежал на песке, и уже начал быстро разлагаться. Собаки, привлеченные запахом падали, уже бродили вокруг него с горящими от голода и жадности глазами. И, как и теперь, спросил его первосвященник, отец Азарии, дряхлый старик:
– Вот лежит твой отец, собаки могут растерзать его труп… Что нам делать? Почтить ли память царя и осквернить субботу, или соблюсти субботу, но оставить труп твоего отца на съедение собакам?
Тогда ответил Соломон:
– Оставить. Живая собака лучше мертвого льва.
И когда теперь, после слов первосвященника, вспомнил он это, то сердце его сжалось от печали и страха. Ничего не ответив первосвященнику, он пошел дальше, в залу судилища.
Как и всегда по утрам, двое его писцов, Елихофер и Ахия, уже лежали на циновках, по обе стороны трона, держа наготове свертки папируса, тростник и чернила. При входе царя они встали и поклонились ему до земли. Царь же сел на свой трон из слоновой кости с золотыми украшениями, оперся локтем на спину золотого льва и, склонив голову на ладонь, приказал:
– Пишите!
«Положи меня, как печать, на сердце твоем, как перстень на руке твоей, потому что крепка, как смерть, любовь, и жестока, как ад, ревность: стрелы ее – стрелы огненные».
И, помолчав так долго, что писцы в тревоге затаили дыхание, он сказал:
– Оставьте меня одного.
И весь день, до первых вечерних теней, оставался царь один на один со своими мыслями, и никто не осмелился войти в громадную пустую залу судилища.
Морская болезнь
I
Море в гавани было грязно-зеленого цвета, а дальняя песчаная коса, которая врезалась в него на горизонте, казалась нежно-фиолетовой. На молу пахло тухлой рыбой и смоленым канатом. Было шесть часов вечера.
На палубе прозвонили в третий раз. Пароходный гудок засипел, точно он от простуды никак не мог сначала выдавить из себя настоящего звука. Наконец ему удалось прокашляться, и он заревел таким низким, мощным голосом, что все внутренности громадного судна задрожали в своей темной глубине.
Он ревел нескончаемо долго. Женщины на пароходе, зажав уши ладонями, смеялись, жмурились и наклоняли вниз головы. Разговаривающие кричали, но казалось, что они только шевелят губами и улыбаются. И когда гудок перестал, всем вдруг сделалось так легко и так возбужденно-весело, как это бывает только в последние секунды перед отходом парохода.
– Ну, прощайте, товарищ Елена, – сказал Васютинский. – Сейчас будут убирать сходни. Иду.
– Прощайте, дорогой, – сказала Травина, подавая ему руку. – Спасибо вам за все, за все. В вашем кружке́ прямо душой возрождаешься.
– И вам спасибо, милая. Вы нас разогрели. Мы, знаете, больше теоретики, книгоеды, а вы нас как живой водой вспрыснули.
Он, по обыкновению, тряхнул ее руку, точно действовал насосом, больно сжав ей пальцы обручальным кольцом.
– А качки вы все-таки не бойтесь, – сказал он. – У Тарханкута вас действительно немного поваляет, но вы ложитесь заранее на койку, и все будет чудесно. Супругу и повелителю поклон. Скажите ему, что все мы с нетерпением ждем его брошюрку. Если здесь не удастся тиснуть, отпечатаем за границей… Соскучились небось? – спросил он, не выпуская ее руки и с фамильярным ласковым лукавством заглядывая ей в глаза.
Елена улыбнулась.
– Да. Есть немножко.
– То-то. Я уж вижу. Шутка ли, помилуйте – десять дней не видались! Ну, addio, mio carissimo amico [1]1
Прощайте, мой дорогой товарищ – итал.
[Закрыть]. Всем знакомым ялтинцам привет. Чудесная вы, ей-богу, человечица. Прощайте. Всего хорошего.
Он сошел на мол и стал как раз напротив того места, где стояла Елена, облокотившаяся на буковые перила борта. Ветер раздувал его серую крылатку, и сам он, со своим высоким ростом и необычайной худобой, с остренькой бородкой и длинными седеющими волосами, которые трепались из-под широкополой, черной шляпы, имел в наружности что-то добродушно комично-воинственное, напоминавшее Дон-Кихота, одетого по моде радикалов семидесятых годов.
И когда Елена, глядя на него сверху вниз, подумала о бесконечной доброте и душевной детской чистоте этого смешноватого человека, о долгих годах каторги, перенесенной им; о его стальной непоколебимости в деле, о его безграничной вере в близость освобождения, о его громадном влиянии на молодежь – она почувствовала в этой комичности что-то бесконечно ценное, умиляющее и прекрасное. Васютинский был первым руководителем ее и ее мужа на революционном поприще. И теперь, улыбаясь ему сверху и кивая головой, она жалела, что не поцеловала на прощанье у него руку и не назвала его учителем. Как бы он сконфузился, бедный!
Кран паровой лебедки поднялся в последний раз кверху, точно гигантская удочка, таща на конце цепи раскачивающуюся и вращающуюся массу чемоданов и сундуков.
– Все готово! – крикнули снизу.
– Убирай сходни! – ответили наверху из рубки и засвистали.
Носильщики в синих блузах подняли с обеих сторон сходню на плечи и отнесли ее в сторону. Под пароходом что-то забурлило и заклокотало.
По молу проходила грязнолицая, оборванная девочка с корзиной цветов, которые она тоном нищенки предлагала провожающим:
– Бя-я-рин, купите цветучков!
Васютинский выбрал у нее небольшой букетик полуувядших фиалок и бросил его кверху, через борт, задев по шляпе почтенного седого господина, который от неожиданности извинился. Елена подняла цветы и, глядя с улыбкой на Васютинского, приложила их к губам.
А пароход, повинуясь свисткам и команде и выплевывая из боковых нижних отверстий каскады пенной воды, уже заметно отделился от пристани. Он, точно большое мудрое животное, сознающее свою непомерную силу и боящееся ее, осторожно, боком отваливал от берега, выбираясь на свободное пространство. Елена долго еще видела Васютинского, возвышавшегося головой над соседями. Он ритмически подымал и опускал над головой свою бандитскую шляпу. Елена отвечала ему, размахивая платком., Но мало-помалу все люди на пристани слились в одну темную, сплошную массу, над которой, точно рой пестрых бабочек, колебались платки, шляпы и зонтики.
В Ялте теперь был разгар пасхального сезона, и поэтому с пароходом ехало необыкновенно много народа. Вся корма, все проходы между бортами и пассажирскими помещениями, все скамейки и шпили, все коридоры и диваны в салонах были завалены и затисканы людьми, тюками, чемоданами, верхней одеждой. Назойливо и скучно кричали грудные дети, пароходные официанты увеличивали толкотню, носясь по пароходу взад и вперед без всякой нужды; женщины, как и всегда они делают в публичных местах, застревали со своей болтовней именно там, где всего сильнее кипела суета, – в дверях, в узких переходах; они заграждали общее движение и упорно не давали никому дороги. Трудно было себе вообразить, как разместится вся эта масса. Но мало-помалу все утолклось, улеглось, пришло в порядок, и когда пароход, выйдя на середину гавани и не стесняясь больше своей осторожностью, взял полный ход, – на палубе уже стало просторно.
II
Травина стояла на корме, глядя назад, на уходящий город, который белым амфитеатром подымался вверх по горам и венчался полукруглой беседкой из тонких колонн. Глазу было ясно заметно то место, где спокойный, глубокий синий цвет моря переходил в жидкую и грязную зелень гавани. Далеко у берега, как голый лес, возвышались трубы, мачты и реи судов. Море зыбилось. Внизу, под винтом, вода кипела белыми, как вспененное молоко, буграми, и далеко за пароходом среди ровной широкой синевы тянулась, чуть змеясь, узкая зеленая гладкая дорожка, изборожденная, как мрамор, пенными, белыми причудливыми струйками. Белые чайки, редко и тяжело маша крыльями, летели навстречу пароходу к земле.
Еще не качало, но Елена, которая не успела пообедать в городе и рассчитывала поесть на пароходе, вдруг почувствовала, что потеряла аппетит. Тогда она спустилась вниз, в глубину каютных отделений, и попросила у горничной дать ей койку. Оказалось, однако, что все места заняты. Краснея от стыда за себя и за другого человека, она вынула из портмоне рубль и неловко протянула его горничной. Та отказалась.
– Я бы, барышня, с моим удовольствием, только, ей-богу, ни одного местечка. Даже свое помещение уступила одной даме. Вот в Севастополе будет посвободнее.
Елена опять вышла на палубу. Сильный ветер, дувший навстречу пароходу, облеплял вокруг ее ног платье и заставлял ее нагибаться вперед и придерживать рукой край шляпы.
Старый, маленький, красноносый боцман прилаживал к правому борту кормы какой-то медный цилиндрический инструмент с циферблатом и стрелкой. В левой руке у него был бунт из белого плотного шнура, свернутого Старый, маленький, красноносый боцман прилаживал к правому борту кормы какой-то медный цилиндрический инструмент с циферблатом и стрелкой. В левой руке у него был бунт из белого плотного шнура, свернутого правильными спиралями и оканчивавшегося медной гирькой с лопастями по бокам.
Прикрепив прочно медный инструмент к борту, боцман пустил гирьку на отвес, быстро развертел ее правой рукой, так что она вместе с концом шнура образовала сплошной мреющий круг, и вдруг далеко метнул ее назад, туда, куда уходила зелено-белая дорожка из-под винта. И в том, как гирька со свистом описывала длинную дугу, в той скорости, с которой потом сбегали с левой руки боцмана свернутые круги, а главное – в деловой небрежности, с какой он это делал, Елена почувствовала особенное, специальное морское щегольство. У нее был необыкновенно зоркий глаз на эти мелочи.
Затем, когда гирька, скрывшись из глаз, бултыхнула далеко за пароходом. в воду, боцман вставил оставшийся у него в руке свободный конец с крючком в заднюю стенку инструмента.
– Что это такое? – спросила Травина.
– Лаг! – сердито ответил боцман. Но, обернувшись и увидев ее милое детское лицо, он добавил мягче:
– Это лаг, барышня. Стало быть, перо в воде вертится, потому как с крыльями, стало быть, и лаглинь вертится. А тут вот жубчатки и стрелка. Мы, стало быть, смотрим на стрелку и знаем, сколько узлов прошли. Потому как этот берег скроем, а тот откроем только утром. Это у нас называется лаг, барышня.
Елена была уже два года замужем, но ее очень часто называли барышней, что иногда льстило ей, а иногда причиняло досаду. Она и в самом деле была похожа на восемнадцатилетнюю девушку со своей тонкой, гибкой фигурой, маленькой грудью и узкими бедрами, в простом костюме из белой, чуть желтоватой шершавой кавказской материи, в простой английской соломенной шляпе с черной бархаткой.
Помощник капитана, коренастый, широкогрудый, толстоногий молодой брюнет в белом коротком кителе с золотыми пуговицами, проверял билеты. Елена за– метила его, еще входя на пароход. Он тогда стоял на палубе по одну сторону сходни, а по другую стоял юнга, ученик мореходных классов, тонкий, ловкий и стройный в своей матросской курточке мальчишка, подвижной, как молодая обезьянка. Они оба– провожали глазами всех подымавшихся женщин и делали за их спинами друг другу веселые гримасы, кивая головами, дергая бровями в их сторону и прищуривая один глаз. Елена еще издали заметила это. Она до дрожи отвращения ненавидела такие восточные красивые лица, как у этого помощника капитана, очевидно, грека, с толстыми, почти не закрывающимися, какими-то оголенными губами, с подбородком, синим от бритья и сильной растительности, с тоненькими усами колечком, с глазами черно-коричневыми, как пережженные кофейные зерна, и притом всегда томными, точно в любовном экстазе, и многозначительно бессмысленными. Но она также считала для себя унизительным проходить в таких случаях мимо незнакомых мужчин, опустив глаза, краснея и делая вид, что ничего не замечает. И потому, когда Елена переступила со сходни на палубу и ей загородили дорогу – с одной стороны этот самый моряк, а с другой толстая старая женщина с кульками в обеих руках, которая, задохнувшись от подъема, толклась и переваливалась на одном месте, она равнодушно поглядела на победоносного брюнета и сказала, как говорят нерасторопной прислуге:
– Потрудитесь посторониться.
И она с удовольствием увидела, как игривая молодцеватость мгновенно слиняла с его лица от ее уверен ого пренебрежительного тона и как он суетливо, без всякого ломанья, отскочил в сторону.
Теперь он подошел к Елене, которая стояла, прислонившись к борту, и, возвращая ей билет, нарочно – это она сразу поняла – прикоснулся горячей щекочущей кожей своих пальцев к ее ладони и задержал руку, может быть, только на четверть секунды долее, чем это было нужно. И, переведя глаза с ее обручального кольца на ее лицо и искательно улыбаясь, он спросил с вежливостью, которая должна была быть светской:
– Виноват-с. Вы, кажется, с супругом изволите ехать?
– Нет, я одна, – ответила Елена и отвернулась от него к борту, лицом в море.
Но в этот момент у нее слегка закружилась голова, потому что палуба под ее ногами вдруг показалась ей странно неустойчивой, а собственное тело необыкновенно легким. Она села на край скамейки.
Город едва белел вдали в золотисто-пыльном сиянии, и теперь уже нельзя было себе представить, что он стоит на горе. Налево плоско тянулся и пропадал в море низкий, чуть розоватый берег.
III
Помощник капитана несколько раз проходил мимо нее, сначала один, потом со своим товарищем, тоже моряком, в кителе с золотыми пуговицами. И хоть она не глядела на него, но каждый раз каким-то боковым чутьем видела, как он закручивал усы и подолгу оглядывал ее тающим бараньим взглядом черных глаз. Она даже услышала раз его слова, сказанные, наверное, в расчете, чтобы она услышала:
– Черт! Вот это женщина! Это я понимаю!
– Да-а, бабец! – сказал другой.
Она встала, чтобы переменить место и сесть напротив, но ноги плохо ее слушались, и ее понесло вдруг вбок, к запасному компасу, обмотанному парусиной. Она еле-еле успела удержаться за него. Тут только она заметила, что началась настоящая, ощутимая качка. Она с трудом добралась до скамейки на противоположном борту и упала на нее.
Стемнело. На самом верху мачты вспыхнул одинокий желтый электрический свет, и тотчас же на всем пароходе зажглись лампочки. Стеклянная будка над салоном первого класса и курительная комната тепло и уютно засияли огнями. На палубе сразу точно сделалось прохладнее. Сильный ветер дул с той стороны, где сидела Елена, мелкие соленые брызги изредка долетали до ее лица и прикасались к губам, но вставать ей не хотелось.
Мучительное, долгое, тянущее чувство какой-то отвратительной щекотки начиналось у нее в груди и в животе, и от него холодел лоб и во рту набиралась жидкая щиплющая слюна. Палуба медленно-медленно поднималась передним концом кверху, останавливалась на секунду в колеблющемся равновесии и вдруг, дрогнув, начинала опускаться вниз все быстрее и быстрее, и вот, точно шлепнувшись о воду, шла опять вверх. Казалось, она дышала – то распухая, то опадая, и в зависимости от этих движений Елена ощущала, как ее тело то становилось тяжелым и приплюскивалось к скамейке, то вслед затем приобретало необычайную, противную легкость и неустойчивость. И эта чередующаяся перемена была болезненнее всего, что Елене приходилось испытывать в жизни.
Город и берег давно уже скрылись из виду. Глаз свободно, не встречая препятствий, охватывал кругообразную черту, замыкавшую небо и море. Вдали бежали неровными грядами белые барашки, а внизу, около парохода, вода раскачивалась взад и вперед длинными скользящими ямами и, взмывая наверх, заворачивалась белыми пенными раковинами.
– Пардон, мадам, – услышала Елена над собою голос.
Она оглянулась и увидела все того же черномазого помощника капитана. Он глядел на нее сладкими, тающими, закатывающимися глазами и говорил:
– Извините, если я вам позволю дать совет. Не глядите вниз, это гораздо хуже, от этого происходит кружение головы. Лучше всего глядеть на какую-нибудь неподвижную точку. Например, на звезду. А лучше бы всего вам лечь.
– Благодарю вас, мне ничего не нужно, – сказала Елена, отвернувшись от него.
Но он не уходил и продолжал заискивающим, изнеженным голосом, в котором слышался привычный тон пароходного соблазнителя:
– Вы меня простите, пожалуйста, что я так подошел к вам, не имея чести… Но мне необыкновенно знакома ваша личность. Позвольте узнать, вы не ехали ли прошлым рейсом с нами до Одессы? Э-э-э… можно – Вы меня простите, пожалуйста, что я так подошел к вам, не имея чести… Но мне необыкновенно знакома ваша личность. Позвольте узнать, вы не ехали ли прошлым рейсом с нами – до Одессы? Э-э-э… можно присесть?
– Благодарю вас, – сказала она, подымаясь с места и не глядя на него. – Вы очень заботливы, но предупреждаю вас: если вы еще хоть один раз попробуете предложить мне ваши советы или услуги, я тотчас же по приезде в Севастополь телеграфирую Василию Эдуардовичу, чтобы вас немедленно убрали из Русского общества пароходства и торговли. Слышали?
Она назвала первое попавшееся на язык имя и отчество. Это был старый, уморительный прием, «трюк», которым когда-то спасся один из ее друзей от преследования сыщика. Теперь она употребила его почти бессознательно, и это подействовало ошеломляющим образом на первобытный ум грека. Он поспешно вскочил со скамейки, приподнял над головой белую фуражку, и даже при слабом свете, падавшем сквозь стекла над салоном, она увидела, как он быстро и густо покраснел.
– Ради бога… Не истолкуйте превратно… Честное слово… Вы, может быть, подумали? Ей-богу…
Но в эту секунду палуба, начавшая скользить вниз, вдруг круто качнулась вбок, налево, и Елена, наверно, упала бы, если бы моряк вовремя ловко и деликатно не подхватил ее за талию. В этом объятии не было ничего умышленного, и она сказала ему несколько мягче:
– Благодарю вас, но только оставьте меня. Мне нехорошо.
Он приложил руку к козырьку, сказал по-морскому: «Есть!» – и поспешно ушел.
Елена забралась с ногами на скамейку, положила локти на буковые перила и, угнездив между ними голову, закрыла глаза. Моряк вдруг стал в ее глазах ничуть не опасным, а смешным и жалким трусом. Ей вспомнились какие-то глупые куплеты о пароходном капитане, которые пел ее брат, студент Аркадий – «сумасшедший студент», как его звали в семье. Там что-то говорилось о даме, плывшей на пароходе в Одессу, о внезапно поднявшейся буре и морской болезни.
Но. кап-питан любезный был,
В каюту пригласил,
Он лечь в постель мне дал совет
И расстегнуть корсет…
Шик, блеск, иммер элеган…
Ей уже вспомнился мотив и серьезное длинное лицо Аркадия, произносившего говорком дурацкие слова. В другое время она рассмеялась бы воспоминанию, но теперь ей было все равно, все в мире для нее было как-то скучно, неинтересно, вяло. Чтобы испытать себя, она нарочно подумала о Васютинском и его кружке, о муже, о приятной работе для него на ремингтоне, старалась представить давно жданную радость свидания с ним, которая казалась такой яркой и сладостной там, на берегу, – нет, все выходило каким-то серым, далеким, равнодушным, не трогающим сердца. Во всем ее теле и в сознании осталось только тягучее, раздражающее, расслабленное состояние полуобморока. Ее кожа с ног до головы обливалась липким холодным потом. Невозможно было сжать влажных, замиравших пальцев в кулак – так они обмякли и обессилели. Казалось, что вот-вот сейчас наступит полный обморок и забвение. Она ждала этого и боялась.
Но вдруг в глазах ее стало мутно и зелено, раздражающая щекотка подступила к горлу, сердце бессильно затрепыхалось где-то глубоко внизу, в животе. Елена едва успела вскочить и наклониться над бортом.
IV
На минуту ей стало как будто легче.
– Вы бы лучше походили, сударыня, – сказал ей участливо тот самый старичок, которого Васютинский задел цветами по шляпе.
Он сидел на соседней скамье и видел, как Елене сделалось дурно.
– Вы походите по воздуху и старайтесь дышать как можно реже и глубже. Это помогает.
Но она только покачала отрицательно головой и опять, улегшись лицом на локоть, закрыла глаза.
Ей с трудом удалось заснуть. Проспала она, должно быть, часа два и проснулась от внезапного всплеска пенной воды, которая, взмыв из-за борта, окатила ей волосы и шею. Была глубокая ночь – темная, облачная, Ей с трудом удалось заснуть. Проспала она, должно быть, часа два и проснулась от внезапного всплеска пенной воды, которая, взмыв из-за борта, окатила ей волосы и шею. Была глубокая ночь – темная, облачная, безлунная и ветреная. Пароход валяло с носа на корму и с боку на бок. Шел мелкий косой дождь. На палубе было пусто, только в проходах у стен рубок, куда не достигали брызги, лежали спящие люди.








![Книга Предыстория [СИ] автора Екатерина Тюрина](http://itexts.net/files/books/110/no-cover.jpg)