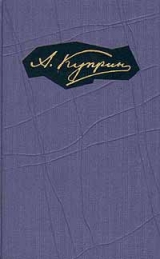
Текст книги "Том 5. Произведения 1908-1913"
Автор книги: Александр Куприн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 26 страниц)
Начальница тяги
Самый правдоподобный святочный рассказ
Этот рассказ, который я сейчас попробую передать, был как-то рассказан в небольшом обществе одним знаменитым адвокатом. Имя его, конечно, известно всей грамотной России. По некоторым причинам я, однако, Этот рассказ, который я сейчас попробую передать, был как-то рассказан в небольшом обществе одним знаменитым адвокатом. Имя его, конечно, известно всей грамотной России. По некоторым причинам я, однако, не могу и не хочу назвать его фамилии, но вот его приблизительный портрет: высокий рост, низкий и очень широкий лоб, как у Рубинштейна; бритое, точно у актера, лицо, но ни за актера, ни за лакея его никто не осмелился бы принять; седеющая грива, львиная голова, настоящий рот оратора, – рупор, самой природой как будто бы созданный для страстных, потрясающих слов.
Среди нашего разговора он вдруг расхохотался. Так искренно расхохотался, как даже старые люди смеются своим юношеским воспоминаниям.
– Ну, конечно, господа, – сказал он, – так пародировать святочные рассказы, как мы сейчас делаем, можно до бесконечности. Не устанешь смеяться… А вот я вам сейчас, если позволите, расскажу, как мы однажды втроем… нет, виноват, вчетвером… нет, даже и не вчетвером, а впятером встречали рождество… Уверяю вас, что это будет гораздо фантастичнее всех святочных рассказов. Видите ли: жизнь в своей простоте гораздо неправдоподобнее самого изощренного вымысла…
Мы трое были приглашены на елку к владельцу меднопрокатного завода Щекину, в окрестностях Сиверской. Наутро нам обещали облаву на лисиц и на волков с обкладчиками-костромичами, а если бы не удалось, то простую охоту с гончими. В этом приглашении было много соблазнительного. Елку предполагали устроить в лесу, – настоящую живую елку, но только с электрическим освещением. Кроме того, там была целая орава очаровательных детишек – милых, свободных, ничем не стесненных, – таких, с которыми себя чувствуешь в сто раз лучше, чем со взрослыми, и сам, незаметно для себя, становишься мальчуганом двенадцати лет. А еще, кроме того, у Щекиных в эти дни собиралось все, что только бывало в Петербурге талантливого и интересного.
А мы трое были: ваш покорный слуга, тогда помощник присяжного поверенного, один начинающий бас – теперь он мировая известность – и третий, ныне покойник, – он умер четыре года тому назад или, вернее, не умер, а его съела служебная карьера.
Ехали мы в самом блаженном, в самом радужном настроении. Накупили конфет, тортов, волшебных фонарей, фейерверков, лыж, микроскопов, коньков и прочей дряни. Были похожи на дачных мужей. Но настроение наше начало портиться уже на вокзале. Огромная толпища стояла у всех дверей, ведущих на платформу, – едва-едва ее сдерживали железнодорожные сторожа. И. уже чувствовалась между этими людьми та беспричинная взаимная ненависть, которую можно наблюдать только в церквах, на пароходах и на железной дороге.
По второму звонку все это стадо ринулось на дебаркадер. Опасаясь за наши покупки, мы вышли последними. Мы прошли весь поезд насквозь, от хвоста до головы. Мест не было. В третьем классе нас встретили сравнительно спокойно какие-то добродушные мужички, даже потеснились, чтобы дать нам место. Но было совсем стыдно злоупотреблять их гостеприимством. Они и так сидели друг у друга на головах. Во втором классе было почти то же самое, но уж с оттенком недружелюбия. Например: один чиновник ехал явно по бесплатному билету; я попробовал намекнуть ему, что железнодорожный устав строго требует, чтобы лица, едущие по бесплатному билету, уступали свои места пассажирам по первому требованию. Но он почему-то назвал меня нахалом и дураком и сказал: «Вы сами не знаете, с кем имеете дело». Я подумал, что это переодетый министр, и мы перешли в первый класс.
Тут нам сразу повезло. Конечно, все купе были закрыты, как это и всегда бывает, но случайно одна дверка отворилась, и один из нас, именно третий товарищ, успел просунуть руку в створку, помешав двери захлопнуться. Оказывается, в купе сидела дама, так лет тридцати – тридцати двух, прехорошенькая, но в ту секунду очень озлобленная и похожая на пороховую бочку, под которую только что подложили фитиль.
– Куда вы лезете, разве вы не видите, что это купе занято?
Ах, боже мой, все мы хорошо знаем, как нелепо, нетактично и жестоко ведут себя дамы, а особенно чиновные, в первых двух классах поездов и пароходов. Они занимают вдвоем полвагона с надписью: «Дамское отделение», в то время когда в следующей половине мужчины стиснуты, как сардины в нераскупоренной коробке. Но попробуйте попросить у них гостеприимства для больного старика или утомленного дорогой шестилетнего мальчика, – сейчас же крики, скандал, «полное право» и так далее. Однако такая же дама способна влезть со своими баулами, картонками, зонтиками и всякой дрянью в соседнее «мужское отделение», стеснить всех своим присутствием, заявить: «Я, знаете, не переношу дамского общества», и завести на целую ночь утомительную трескотню, с визгами, игривым хохотом, ахами, ломаньем и кокетством, от которых наутро– чувствуешь себя разбитым гораздо больше, чем тряской и бессонницей. В сопровождении бонны, кормилицы и четырех орущих чад она входит в купе, где вы сидите тихонько, с послушным, скромным ребенком, останавливается на пороге и с отвращением фыркает: «Фу! И здесь каких-то детей напихали!» Словом, все это и многое другое мы прекрасно изучили и были уверены, что никакие меры кротости, увещевания и логика не помогут, но, как и всегда, в пятисотый раз пробовали тронуть сердитую даму.
– Федор Иванович приложил руку к сердцу и на самой обольстительной ноте своего изумительного голоса сказал:
– Прелестная синьора… нам только три станции… если прикажете, мы будем сидеть у ваших ног.
Это оперное вступление нас и погубило. Почем знать, если бы он был один?.. Может, она и смилостивилась бы. Но нас было трое. И, вероятно, поэтому фитиль достиг своей цели, и бочка разорвалась. Откровенно говоря, я никогда не слышал ни раньше, ни позже такой ругани. В продолжение двух минут она успела нас назвать: железнодорожными ворами, безбилетными зайцами, убийцами, которые в своих гнусных целях прибегают к хлороформу, и даже… простите, барыня… поставщиками живого товара в Константинополь.
Потом, в своем гневе, она закричала:
– Кондуктор!
Но разве мог прийти ей на помощь кондуктор? Вероятно эту минуту он с трудом прокладывал себе дорогу в самом заднем вагоне по человеческим головам.
Тогда, ошеломленный ее бурным натиском, я позволил себе робко спросить:
– Сударыня, вы едете одни… Может быть, вы знаете случайно, кому принадлежат вот эти вещи: четыре картонки, два чемодана, плетеная корзина, деревянная лошадь почти в натуральную величину, вот эти – Сударыня, вы едете одни… Может быть, вы знаете случайно, кому принадлежат вот эти вещи: четыре картонки, два чемодана, плетеная корзина, деревянная лошадь почти в натуральную величину, вот эти горшки с гиацинтами, игрушечные ружья, барабаны и сабли, этот порт-плед, наконец, этот торт и банки с вареньем?
– Не знаю, – сухо ответила она и отвернулась к окну.
– Сударыня, – продолжал я тоном рабской мольбы, – вы сами видите, что мы нагружены, как верблюды. Мы падаем с ног от усталости… Мы не обеспокоим вас долго своим присутствием. Всего лишь три станции… Не позволите ли вы положить эти чужие вещи наверх, в сетки? Ну, хотя бы из христианского милосердия.
– Не позволю… – ответила дама.
– Но ведь все равно вещи не ваши. Не так ли? Если бы мы сами попробовали их переместить.
Опять на нас повернулось красное, пылающее лицо.
– Ого! Попробуйте. Попробуйте только! Да вы знаете, с кем имеете дело? Нахалы! Вы сами не знаете, к кому пристаете. Я – начальница тяги! Я вас в двадцать четыре часа…
Мы не дослушали. Мы вышли в коридор для небольшого совещания. К нам присоединился какой-то милый, чистенький, маленький, серебряный старичок в золотых очках. Он все время был свидетелем наших перекоров. Он-то нам и дал один очень простой, но ехидный совет.
Когда поезд стал замедлять ход перед второй станцией и дама начала суетиться, мы торжественно вошли в купе. Старичок злорадно шел за нами.
– Итак, сударыня, вы все-таки подтверждаете, что эти вещи вам не принадлежат? – спросил третий, умерший.
– Дурак! Я вам сказала, что эти вещи не мои.
– Позвольте узнать, – а чьи? – спросил старичок голосом малиновки.
– Не твое дело.
В это время поезд остановился. Вбежали носильщики. Дама велела одному из них, – она даже назвала его Семеном, – взять вещи.
Ну, уж тут мы горячо вступились за чужую собственность! Мы все четверо были свидетелями того, что вещи принадлежат вовсе не даме, а какой-то забывчивой пассажирке. Конечно, это дело нас не касается, Ну, уж тут мы горячо вступились за чужую собственность! Мы все четверо были свидетелями того, что вещи принадлежат вовсе не даме, а какой-то забывчивой пассажирке. Конечно, это дело нас не касается, но принципиально и так далее. Вчетвером мы проследовали в жандармскую контору. Дама извивалась, как уж, но мы ее взяли в настоящие тиски. Она говорила «Да! Вещи мои!» Тогда мы отвечали: «Не угодно ли вам заплатить за все места, которые вы занимали? Железной дороге убыток, а мы, как честные люди, этого не можем допустить». Тогда она кричала: «Нет, эти вещи не мои! А вы – хулиганы!» Тогда мы говорили: «Сударыня, вы на наших глазах хотели присвоить эти вещи». – «Повторяю же вам, болваны, что это мои собственные вещи… а вы обращались с беззащитной женщиной, как свиньи!» Но тут уже выступал ядовитый старичок, пел соловьем и в качестве беспристрастного свидетеля удостоверял наше истинно джентльменское поведение, а также и то, что мы два часа с лишком стояли на ногах (воображаю, как ему в его долгой жизни насолили дамы первых двух классов!).
Кончилось тем, что она растерялась и заплакала. Ну, тут уж и мы размякли. Дали ей воды, бас проводил ее до извозчика, и дурацкий протокол был очень легко и быстро уничтожен. Один только старичок покачал Кончилось тем, что она растерялась и заплакала. Ну, тут уж и мы размякли. Дали ей воды, бас проводил ее до извозчика, и дурацкий протокол был очень легко и быстро уничтожен. Один только старичок покачал укоризненно на каждого из нас головою и безмолвно испарился в темноте.
Но когда мы опять сошлись втроем на платформе и поглядели на часы, то убедились в том, что если и поспеем к Щекиным, то только к девяти часам утра. Это уже выходило за пределы нашей шутки. Стали расспрашивать Но когда мы опять сошлись втроем на платформе и поглядели на часы, то убедились в том, что если и поспеем к Щекиным, то только к девяти часам утра. Это уже выходило за пределы нашей шутки. Стали расспрашивать у сторожа, какая здесь лучшая гостиница, то есть где меньше клопов.
И вдруг слышим знакомый, но уже теперь славный, теплый голос:
– Господа, куда вы собираетесь? Оглядываемся. Смотрим – наша дама. И совсем новое лицо: милое русское лицо.
– Если вы не побрезгуете, поедемте ко мне на елку… Вы на меня не сердитесь… я все-таки женщина… А с этими железными дорогами просто голову растеряешь.
Скажу по правде, никогда мне не было так весело, как в этот вечер. Даже фейерверки, против обыкновения, горели чудесно. И ребята там попались чудесные. А с Анной Федоровной мы и до сих пор закадычные Скажу по правде, никогда мне не было так весело, как в этот вечер. Даже фейерверки, против обыкновения, горели чудесно. И ребята там попались чудесные. А с Анной Федоровной мы и до сих пор закадычные друзья.
Он нагнулся, чтобы его глазам не мешала тень, и спросил:
– Правда, Анна Федоровна?
Густой смеющийся голос из темноты ответил:
– Бесстыдник. Язык у вас, у адвокатов, так уж подвешен, что не можете не переврать!..
<1911>
Чужой петух
Из записной книжки
У меня в Житомире было два знакомых пса. Одного из них звали Негодяй. Но об этой прелестной собачонке я так много писал, что, кажется, она должна была бы быть известна всей читающей публике. А другого кобеля звали Мистер Томсон. Должен сознаться, что я его похитил из одного очень почтенного семейства. Я его не увлекал ни колбасой, ни ветчиной, ни сыром, ни другими собачьими соблазнами, которые рассчитаны на ихний голод. Просто-напросто я ему сказал:
– Мистер Томсон, не угодно ли вам прогуляться?.. По пути мы можем встретить маленькую беленькую домашнюю кошечку. Попробуем ее укусить. А если это нам не удастся, и в особенности если она будет с котятами, то мы с тобой убежим… (И надо сознаться, что мы с ним очень часто пускались в постыдное бегство.) Мистер Томсон на это предложение охотно согласился, хотя сначала не доверял мне, потягивался, облизывался, выгибал спину и визжал.
Но поистине, в г. Житомире мы за очень короткое время сделали много веселых приключений…
Давно известно, что собаку ничто так не увлекает, как бродячая жизнь.
На театральных представлениях в ложе Мистер Томсон дремал у меня на коленях, но Негодяй почему-то считал нужным вмешиваться в актерскую игру, и, главное, в самые неподходящие, в самые трогательные моменты. Он не мог терпеть, ежели кто-нибудь кого-нибудь обижал. Он считал своим долгом вступиться за слабого. Но тогда приходил господин околоточный надзиратель и говорил:
– Господин полицмейстер просит уйти Негодяя, а вместе с ним и его хозяина. Обыкновенно Негодяй бежал впереди извозчика и старался укусить лошадь за ноздрю.
В то же время он каким-то чудом успевал забежать во все соседние дворы, успевал перессорить всех собак между собою и разнести по всему городу всякие собачьи сплетни.
Бывали у него и критические моменты.
Иногда выскакивал из подворотни огромный старый, опытный бульдог и показывал Негодяю такие клыки, от которых прямо становилось страшно. Тогда Негодяй делал вид, что он пришел в чужой двор только из праздного любопытства и что он вообще очень порядочный молодой человек из хорошего семейства.
Тогда уже в дело ввязывался Мистер Томсон.
Я помогал ему слезть с подножки экипажа, он подходил к бульдогу и говорил ему на собачьем языке, к сожалению нам непонятном, несколько таких слов, после которых бульдог извинялся, краснел, опускал уши и обрубок хвоста… и с визгом уходил к себе обратно в подворотню.
Но, представьте себе, чужой петух оказался сильнее их обоих. Повадился к нам ходить с соседнего двора большой, жирный петух, фунтов около одиннадцати весом и самого неприличного поведения. Это бы еще ничего, если бы он приходил один, но он приводил с собою своих детей, внуков, правнуков и, кроме того, весь свой гарем. Более наглого петуха я никогда не встречал в своей жизни. Он точно нарочно издевался надо мною и над всеми моими цветоводными и сельскохозяйственными затеями.
Возмущенные его образом жизни, Мистер Томсон и Негодяй устроили на него правильную охоту. К сожалению, их усилия не сходились: у Мистера Томсона глаза становились рыжими и огненными, и он мчался за петухом со всей жалкой скоростью своих искривленных ног, но, конечно, никогда не мог догнать бедного петушка. Зато Негодяй, наоборот, все время старался загнать петуха на дерево, чтобы вдосталь полаять на него. Ничего не поделаешь – щенок.
И вот однажды Мистер Томсон, который давно уже глядел на чужого петуха огненными от злости глазами, сказал что-то Негодяю. И сейчас же Негодяй помчался с бешеной скоростью за петухом. Взволнованный петух кричал то женским, то мужским голосом, махал крыльями, подобно авиатору. Его ничто не спасло.
В нужный, точно определенный момент Мистер Томсон с непостижимой для него ловкостью выскочил из жасминового куста, где он устроил западню, – и… белый петушок уже более не существовал. Мистер Томсон поймал его на лету, не на очень высоком расстоянии, но очень основательно. Бедный чужой петушок… Понятно, что на другой же день к нам явились соседи и с той и с другой стороны дачи – и обе стороны уверяли, что петух принадлежит именно им… Но я притворился, что петух умер естественной смертью, и заплатил той и другой стороне по-царски.
А бедного чужого белого петуха я отнес в ресторан и продал за пятнадцать копеек.
Путешественники
Пахнет весной. Даже в большом каменном городе слышится этот трепетный, волнующий запах тающего снега, красных древесных почек и размякающей земли. По уличным стокам вдоль тротуаров бегут коричневые стремительные ручьи, неся с собою пух и щепку и отражая в себе по-весеннему прозрачно-голубое небо. И где-то во дворах старинных деревянных домов без умолку поют очнувшиеся от зимы петухи.
Околоточный надзиратель Ветчина пришел домой поздним вечером. Всю ночь он провел в участке на ночном дежурстве, принимая пьяных окровавленных гуляк, проституток и воришек, выслушивал их лживые, бессмысленные, путаные, подлые показания, перемешанные со слезами, божбой, криками, земными поклонами и руганью, писал протоколы, приказывал обыскивать и нередко, озлобленный этим непрерывным пьяным бредом, удрученный бессонницей, раздраженный тесным воротником мундира, он сам выкрикивал страшным голосом дикие угрозы и колотил кулаком по столу.
А днем он должен был еще обходить не в очередь, в виде наказания, наложенного полицмейстером, свои посты и торчать в лакированных сапогах и белых перчатках посередине самого людного перекрестка.
Спать ему приходилось только урывками, минутками, не раздеваясь, корчась на жестком и узком клеенчатом диване или сидя за столом, опустив голову на сложенные руки.
Даже и теперь, хотя он, придя домой, переоделся и умылся, от него пахнет улицей, навозом и тем отвратительным запахом ретирадного места, карболки и скверного табаку, которым пропитаны все помещения участка.
Он сидит один в маленькой столовой и вяло ест невкусный разогретый обед. Жены нет дома. Она отправилась сегодня к жене помощника пристава, чтобы вместе с нею идти в оперетку на бесплатные места. Сын-гимназист за стеною зубрит вслух французские слова. Мысли околоточного текут скучно и тяжело. Собачья служба. Ночи без сна. Омерзительные сцены в участке. Наряды на дежурство не в очередь. Нервы, как разбитое фортепиано. Вечные приступы беспричинной злобы, от которой точно захлебываешься, трясешься всем телом и так бледнеешь, что чувствуешь, как холодеет лицо и мгновенно высыхают губы. Общество сторонится. Приходится вести знакомство только между своими, а там вечный разговор о службе, о нарядах, о грабежах, о сыскной полиции, а в промежутках – винт и выпивка. Жалованье – гроши. Поневоле берешь праздничные или вымогаешь провизией. Другим легче. У других все-таки хоть в семье наладилось что-то вроде уюта и спокойного отдыха. У Ветчины и этого нет… Жена дома ходит неряхой, распустехой, но для гостей и для театра шьет дорогие платья, поглощающие все жалованье. Ни семья, ни кухня, ни служба мужа, ни ученье сына ее не интересуют. Придешь со службы усталый, весь разломанный, точно коночная лошадь, а жены нет дома, или она в старом капоте валяется часами на диване с переводным романом в руках и с коробкой шоколада рядом, на стуле. Была она когда-то институткой, тоненькой, наивной девочкой, верившей, что французские булки растут на деревьях и что у каждого человека стоят сзади два ангела, справа белый, а слева черный. Теперь она растолстела и огрубела, хотя все еще красива грузной и яркой красотой тридцатипятилетней женщины; она перестала верить в булки и в двух ангелов, но каждый день кричит мужу, что он испортил ее жизнь и теперь пусть достает деньги где хочет и как хочет.
Испортил жизнь! Это еще вопрос, кто кому испортил. Благодаря ее глупой, корыстной и скандальной связи с инженером, строившим полковые казармы, Ветчину, по приговору общества офицеров, попросили уйти из пехотного полка, в котором он служил. Куда было идти, кроме полиции, если у человека нет ни влиятельной родни, ни денег? И мужа она давно не любит. Если он порою разнежничается или попробует пожаловаться на тернии полицейской службы, она, не отрываясь от книжки, тянет брезгливо: «Ах, да оставьте вы меня, ради бога, в покое. Минуты от вас нет свободной». И под предлогом каких-то вечных женских болезней, утомления или того, что от мужа всегда пахнет участком и конюшней, она уже давно изгнала Ветчину из спальни в кабинет, где ему стелют на оттоманке. И всегда у нее увлечения. О жизни в полку – нечего говорить. Потом студент, Колин репетитор. Он, Ветчина, только хлопал тогда глазами, ревнуя, мучась и сам стараясь не верить своим подозрениям. Теперь-то он хорошо знает о прошлом, потому что ту же самую игру томными глазами, те же длинные рукопожатия, те же самые нервные, вибрирующие интонации в голосе он наблюдает сейчас между Верой и помощником пристава, бароном фон Эссе.
Что поделаешь? Надо терпеть. Фон Эссе перешел в полицию из гвардии, теперешняя должность только для вида, через год он будет приставом, а года через два полицмейстером в большом торговом университетском городе, а там, почем знать, и градоначальником. Связи у него громадные, и, конечно, он потянет за собою Ветчину. Ну что же, и будем терпеть, ослепнем, оглохнем на время. И все это ради него, ради милого Коленьки. Куда же пойдешь из полиции? И пусть ему, Ветчине, служить тяжело, оскорбительно и противно, пусть от ревности и злобы у него ходят в глазах радужные круги и скрипят зубы. Все перетерпим. Но зато Коля вырастет настоящим человеком, а Ветчина пробьет ему своим телом и своей душой широкую дорогу в жизнь. Коля трудолюбив, замкнут, серьезен, горд и знает цену деньгам. Без денег разве человек – человек? Коля будет доктором с громадной практикой или знаменитым адвокатом, из тех, что загребают стотысячные куши и ездят в собственных экипажах. Никого нет у Ветчины, кроме обожаемого Коли, – никого: ни жены, ни родни, ни дружбы, ни увлечений, ни мелких страстишек, и ради Коли он пойдет на все: нужно будет убить – убьет, прикажут истязать кого-нибудь – будет истязать, с усердием пойдет на подлость и на предательство, проглотит молча жгучее оскорбление… Он и Коля. Больше никого нет на свете. Ко всему остальному живущему сердце Ветчины ожесточилось и окаменело.
– Коля, иди чай пить! – кричит околоточный надзиратель.
Коля, волоча ноги, приходит с учебником. Отец и сын очень похожи друг на друга. Оба они длинноногие, длинноносые и угрюмые, у обоих худые белые лица в веснушках и светлые, жидкие, мягкие волосы. Между ними – глубокая, нежная, но в то же время серьезная и молчаливая привязанность.
Коля пьет чай и с сухарем во рту рассказывает об уроках в гимназии. Говорит деловито и толково, как взрослый, голос у него по-мальчишески басистый с неожиданными петухами. Ветчина слушает и из хлебных крошек вырисовывает на скатерти звездочки и орнаменты. В комнате жарко от лампы и самовара. В открытую форточку тянет вкрадчивый пьяный весенний воздух. Сердце надзирателя мякнет и улыбается.
– Ничего, ничего, Коляшка, потерпи, – говорит он, глядя на сына запавшими, усталыми глазами и улыбаясь печально-нежной улыбкой. – Потерпи немножко. Вот выдержишь экзамены и будешь вольный казак. А я к тому времени получу двухмесячный отпуск, и мы с тобой вдвоем дернем куда-нибудь на лоно природы. Возьмем ружья, кодак, удочки и айда по способу пешего хождения.
– Не отпустят тебя, папа, – слабо возражает мальчик.
– Ну, как же так не отпустят? Четыре года я не пользовался отпуском. Да мне уж и помощник пристава дал слово…
– Денег нет свободных…
– Деньги – это пустое, мой милый.
– Положим, у меня от уроков накопилось тридцать четыре рубля, – начинает сдаваться Коля.
– Вот видишь! Считай еще мои наградные на пасху.
– Мама отнимет…
– Ничего. Половину мы с тобой отстоим. Да ты не бойся, достанем как-нибудь. Наконец, не все же нас судьба будет по темени кокать. Может быть, в мае наш билет и выиграет каким-нибудь чудом. Другие же выигрывают? Наконец, отчего бы мне и не получить командировку в Финляндию для изучения полицейского дела? В этом году будут посылать туда, и мне барон фон Эссе почти обещал это дело устроить.
– Ах, папа, в Финляндию бы! – восклицает мальчик, и его зеленые, маленькие, всегда хмурые глаза расширяются и сияют. – Я читал на днях описание. Как чудесно! Шлюзы, водопады, озера…
– А леса-то, леса какие там… Поохотимся, брат Коля, лососину половим. Ты вот что, милый, поди-ка принеси карту России, карандаш и бумагу. А я достану путеводитель!
И через несколько минут они сидят под лампой, коленями на стульях, низко и тесно склонившись над картой. Весенний ветер, этот вечный друг и соблазнитель бродяг, цыган, странников и путешественников, врывается в открытую форточку и своим свежим, пряным, глубоким дыханием кружит им головы. Все забыто: бедность, унижения, тягость службы, недоброжелательство Колиных товарищей, изводящих его службою отца и смешною фамилией… Теперь обе души – изъеденная жизнью, испакощенная, попранная душа полицейского и скрытная, уже озлобленная, засыхающая душа мальчика – раскрылись и цветут. Путешествие по карте, разукрашенной бедной фантазией, так живо и увлекательно!
– Из Выборга по Сайменскому каналу, по шлюзам, – говорит Ветчина, отмечая путь красным карандашом. – Потом Сайменское озеро. Вокруг – погляди на карту – все зеленое – это леса, леса. Сан-Михель, Куопио… Оттуда по железной дороге до Каяны, а оттуда опять озерами и рекой до Улеаборга. Оттуда в Торнео пароходом… Граница Швеции. Огромный порт… Океанские корабли… Дешевизна поразительная, потому что нет пошлины… Накупим всякой всячины… А потом – знаешь куда?
– Куда? – спрашивал Коля охрипшим от волнения голосом.
– Из Торнео мы с тобой повернем на восток, и вот, видишь, Кемь? Так мы с тобой до Кеми пешком. Через горы, мимо озера… Как его?., не разберешь… Озеро Мансельское, между Топозеро и озеро Кунто прямо к Белому морю, к Онежской губе. А оттуда в Соловецкий монастырь, поклонимся святым угодникам Зосиме и Савватию, затем Архангельск и – домой.
– Пешком до Кеми? – переспрашивает Коля и глотает от восторга слюну. – Через лес, через болото? С ружьями?
– А что же, мы с тобою разве не мужчины? Конечно, пешком. Питаться будем дичью, рыбой… Там, я тебе скажу, дичи – видимо-невидимо. Так и кишит!.. Хлеб вот только… Но, знаешь, эти чухны, хоть они и сволочь и бунтуют там чего-то постоянно, но они замечательно гостеприимны. Хлебом мы будем запасаться от жилья до жилья. А ночевать в лесу! Подожди-ка, возьми бумагу. Сейчас мы с тобой все это рассчитаем. Начнем с чего? Начнем с двух бурок – тебе и мне. Мне большую, тебе поменьше. Пиши. Все запишем. Самое необходимое и кому что нести.
Он диктует, а мальчик записывает на аккуратно разграфленном листике.

Во время составления списка оба великодушничают и любовно перекоряются. Коля хочет нести поклажу поровну. Но отец настаивает на том, что ему, как более сильному и привычному, следует взять груз несколько потяжелее. Список много раз проверяют. Наконец кажется, что взято все необходимое. Коля рассчитывает циркулем по масштабной линейке расстояние. От Торнео до озера Кунто около трехсот пятидесяти верст. Считая в день по семнадцать верст, – сущий пустяк для привычного пешехода, – они в двадцать дней пройдут это расстояние. Озеро Кунто, длиною сто двадцать верст. Его надо проплыть на парусной лодке. Если считать по десять верст в час, то за один длинный летний день можно пройти все озеро в длину. А там рукой подать до реки Кеми…
– Только вот комаров там очень много… Беда, – озабоченно кивает головой надзиратель.
Но Коля недаром читал описание Финляндии.
– Местные жители, – замечает он важно, – имеют обыкновение защищаться от комариных укусов тем, что замазывают глиной шею и лицо, оставляя незакрытыми только глаза и дыхание.
– И гвоздичное масло хорошо помогает, – вспоминает отец.
– Да, и масло. А на ночлегах мы будем разводить костры и жечь хвою. Душистый дым. Они не любят этого. И обоим рисуется белая, тихая ночь в лесу. Над головами меж кустов пахучего можжевельника протянуты, на случай дождя, резиновые плащи, на земле разостланы бурки с изголовьями из молодых ветвей. Горит яркий костер, и в котелке, подвешенном на треножнике, булькает вода, в которой варится дикая утка или глухарь. Грезятся ранние туманные и розовые утра на берегу никому не известной лесной речонки, плеск большой рыбы в озере, туго натянутая леса удочки…
Бьет одиннадцать. У отца и Коли тяжелеют и слипаются глаза, и они с трудом отрываются от волшебного путешествия к северным лесам. Обоих, несмотря на возбуждение, томит невольная зевота. Прощаются они смягченные, ласковые, с теплыми, доверчивыми глазами.
Поздно ночью возвращается домой Вера Ивановна. На цыпочках проходит она через комнату мужа и с отвращением слышит его бред: «Вот так рыба! Десять фунтов!»
От madame Ветчины пахнет духами «Coeur de Janette» и шампанским. Фон Эссе провожал ее домой из театра. По дороге они заехали на полчаса в кабинет ресторана «Версаль» и очень весело провели время. Полураздетая, стоя перед зеркалом, она прижимает руки к груди, делает сама себе страстные глаза и шепчет: «М-мил-лый».
Коля во сне плавает по озерам и пробирается сквозь лесные чащи. Подымается из берлоги потревоженный медведь. Красная пасть раскрыта, сверкают страшные зубы, маленькие глаза злобно блестят. «Ба-ах!» – гремит по лесу выстрел. Это Коля стрелял, и медведь всей своей громадной массой падает к его ногам. Крепко спят путешественники. Завтра ждут их всегдашние будни: Ветчину – служба, привычное озлобление, ругань и брань, ежеминутное ожидание от сослуживцев какого-нибудь пакостного подвоха и – что всего хуже – преувеличенно ласковое обращение и дружески покровительственный тон фон Эссе, а Колю – утомительная зубрежка и презрительное отчуждение товарищеского кружка. И только вечером они с отцом опять отправятся в очаровательное странствование по карте, куда-нибудь на Кавказ, или на Урал за золотом, или в Сибирь за пушным зверем, или в Тибет вместе с географической экспедицией. Эти фантастические путешествия составляют единственную, большую и чистую радость в их усталой, скучной, вымороченной жизни.








![Книга Предыстория [СИ] автора Екатерина Тюрина](http://itexts.net/files/books/110/no-cover.jpg)