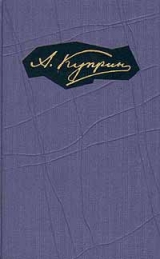
Текст книги "Том 5. Произведения 1908-1913"
Автор книги: Александр Куприн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 26 страниц)
Слоновья прогулка
Слону Зембо было около двухсот девяноста лет, может быть, немного больше, может быть, немного меньше. Во всяком случае, он лишь изредка в дремоте по утрам вспоминал, как его ловили в Индии, как его перевозили на пароходе, по железным дорогам и в громадных железных клетках на колёсах; как приучали к тому, чтобы кончиком хобота брать хлеб из рук человека, подымать с земли мелкие монеты и сажать осторожно к себе на спину сторожа, и как, наконец, опять морем и сухопутьем привезли его сюда, на окраину просторной, холодной Москвы, и поместили в сарае за железную решётку, напротив слонихи, шагах в двадцати от её решётки. Самка Нелли, которая была моложе его лет на пятьдесят – семьдесят пять, была вывезена из Замбези, но она сдохла от тяжёлого климата, а может быть, и от невнимательного ухода. Прожила она в заключении около пятидесяти лет. Приплода у них не было, потому что в неволе слоны никогда не размножаются.
Надо сказать, что людей, особенно после смерти Нелли, Зембо не любил. Нередко в булках, которые ему давали, попадались булавки, гвозди, шпильки и осколки стекла; праздные шалопаи пугали его внезапно раскрытыми зонтиками, дули ему нюхательным табаком в глаза. Очень часто жалкий чиновник, водя в праздник свою жену, детей, свояченицу и племянницу по зоологическому саду, отличался пред ними храбростью: щёлкал бедного Зембо ногтем по концу хобота или совал ему в ноздри зажжённую сигару, но благополучно и поспешно отступал, когда Зембо высовывал из загородки свой хобот, которым он мог бы убить не только человека, но и льва. Как часто без нужды и смысла бывает человек жесток к животным!
Однако исполинская, великодушная слоновья натура Зембо не выходила из равновесия. Он лишь запоминал со свойственной слонам остротой памяти своих мучителей, прекращал с ними всякое знакомство и никогда в присутствии их не тянулся хоботом за решётку.
Зато были у него и настоящие друзья, особенно из детей. Их он принимал радостно, трубил им навстречу, разевал широко свой смешной треугольный мохнатый рот и дул им в лицо из ноздрей своим тёплым, сильным, приятным сенным дыханием.
Он был бесконечно кроток и вежлив ко всему маленькому: к насекомым, к зверькам. Кто-то однажды догадался пустить к нему в клетку кроликов, которые не замедлили расплодиться в несметном количестве. Эти маленькие грызуны крали у него траву, зерно, хлеб и сено, грязнили его питьевую воду и часто, взбираясь своими цепкими лапками на его ноги, щекотали громадного Зембо до судорог. Однажды они до такой степени расщекотали его самое чувствительное место под коленом правой ноги, что он сделал ею нечаянное неловкое движение и наступил на кролика. Вместо белого зверька осталось на земле круглое красное пятно. И слон двое суток волновался, беспокойно трубил и фыркал, пока служащий не замыл пятно из пожарной трубы.
Привязан был он к маленькой тумбочке небольшой цепью. Ухаживал за ним татарин Мемет Камафутдинов, и они были настоящие друзья.
Но вот как-то ему пришло в голову прогуляться. В Москве наступила весна. Расцвели в зоологическом саду на лужайках жёлтые одуванчики, золотые лютики, синяя вероника. В это время во всём зоологическом саду был беспорядок. Хорьки, львы, орлы, барсуки, дикобразы, куницы, пумы – все жаждали свободы и страстно метались в своих клетках. Запахло землёй, берёзовым листом и травами.
И тогда-то, жадно принюхиваясь несколько дней к воздуху, Зембо вдруг догадался, что цепь на его задней правой ноге совсем его не связывает. Он потянул ногу и разрушил сразу всё человеческое сооружение. Разорвал цепь, опрокинул тумбочку, к которой был привязан, разбил головой клетку и ушёл.
Он обошёл вокруг весь зоологический сад победной, торжествующей походкой. И всё время высоко поднятый хобот Зембо трубил радостную песню, понятную каждому животному: «Празднуйте, веселитесь, играйте друг с другом, славьте песнями и плясками весну!» И в ответ ему взволнованно рычали львы, клектали орлы, гоготали и свистели в гнёздах птицы, мычали буйволы и грациозные, нежные лани, дрожа, провожали его влажными глазами.
Медленно, вежливо вышло это огромное животное из зверинца и прошло в открытые двери, стараясь никого не раздавить. В это время цвела сирень, её нежный, сладкий запах делал людей и животных как пьяными. Но мудрого Зембо не покидала привычная кроткая осторожность. Он деликатно перешагнул через целую компанию красных в чёрных крапинках букашек, связавшихся цепью по дорожке, не тронув из них ни одной, а столкнувшись в воротах сада с барышней-кассиршей, учтиво дал ей дорогу и в знак приветствия так сильно дохнул ей в лицо, что совсем сбил и растрепал её модную причёску.
Слону хотелось только размяться. Он подошёл к будке городового (а в то время в Москве ещё были на площадях будки для городовых, отчего и сами городовые прозывались будочниками). Из открытой форточки уютно и мирно пахло хлебом, чаем, махоркой и вином. Добродушно, со свойственной ему привычной ловкостью, он просунул хобот в форточку, взял со стола тёплый филипповский калач и проглотил его.
Дальше его приключения мало достоверны. Утверждают, что на Тверском бульваре от него бежали гурьбой студенты; говорят, что он взвалил себе на спину маленькую девочку, и она от радости хохотала; говорят, что, искусно обвивши хоботом какого-то гимназиста-приготовишку, он посадил его на самый верх липы, к его необузданному восторгу; говорят, что он хоботом вырвал с корнем молодое деревцо, сделав из него себе опахало… Может быть, это всё правда, а может быть – неправда, за истину я ручаться не могу.
Но уже о необыкновенном путешествии слона было дано знать полиции.
Тверская часть примчалась в полном составе. Бедного Зембо, который никому не делал зла, начали поливать из брандспойта. Он этому очень обрадовался, потому что всегда любил купание. С искренней радостью он поворачивался то левым, то правым боком, и его маленькие глаза ласково щурились. «Чудесная погода, отличный воздух и… какой славный душ!» – добродушно ворчал Зембо, свивая и развивая свой хобот.
Но всё гуще и гуще собиралась около него толпа, Зембо уже начал чувствовать смутное беспокойство. Вдруг выступил господин в чёрном сюртуке и блестящей чёрной шляпе. Зембо давно его знал и благоволил к нему за ласковое отношение: это был директор зоологического сада. В руках он держал такую большую булку, какой слон ещё никогда не видывал, и от неё чертовски вкусно пахло душистым перцем и крепким ромом.
– О-о-ого, Зембо, – вкрадчиво приговаривал директор и совал ему на вытянутой руке большой кусок лакомства.
Слон, наконец, решился попробовать и, отправив булку в рот, признательно закивал головой; «необыкновенно вкусная штука, – сказал он, – я ничего подобного не ел в жизни». Но за вторым куском ему пришлось пройти шагов тридцать, за третьим – перейти через улицу, а четвёртым его заманили в какой-то длинный узкий проход без окошек и без дверей. И тут он ещё не успел прийти в себя от изумления, как почувствовал, что его хобот, шея и все четыре ноги были уже обхвачены, скручены и связаны стальными и пеньковыми канатами. Он рухнул на землю. Пять пар бесившихся, вспененных лошадей выволокли его из тупика опять на мостовую. Сотни людей и десятки лошадей заставили его подняться, и, весь скованный, обессиленный, он покорно вернулся в свою тюрьму. Только теперь железная решётка была вдвое толще, и уж не одна, а две массивных якорных цепи привязывали его за одну переднюю и за одну заднюю ногу.
С этого дня кротость, великодушие, вежливость совсем покинули слона, и в нём жили только гнев и мщение. Теперь он поистине стал страшен. Его маленькие кровавые глаза горели бешенством. Днём и ночью, почти не переставая, он ревел, и к этим крикам негодующего царя в молчании и с ужасом прислушивался весь зверинец. Публику уже перестали пускать в сарай, потому что вид людей приводил Зембо ещё в большую ярость. Один Мемет Камафутдинов отваживался входить к нему, чтобы переменить воду и дать нового корма. Но дружба между ними окончилась. Слон только презрительно терпел Мемета; на все его нежные, трогательные и убедительные разговоры он отвечал отрывистым и почти враждебным криком: «Уйди, сделал своё дело и уйди, не хочу тебя: ты тоже человек!»
С каждым днём его ярость росла. Ничто не помогало: ни холодные души, ни мешки со льдом на затылок, ни бром, примешиваемый к питью. Однажды, в жаркий полдень, слону удалось, наконец, расшатать и вырвать из стены огромное кольцо, прикреплявшее цепью его заднюю ногу. Испуганный Мемет побежал доложить об этом по начальству, и через несколько минут перед решёткой собралась густая толпа народу. Слон, обвившись хоботом вокруг железных брусьев и передав своё исполинское тело на левый бок, делал неимоверные усилия, чтобы вырвать из стены второе кольцо, удерживавшее его правую ногу. Его тотчас же окатили из рукава холодной водой: это на минуту укротило его свирепость. Он оставил в покое решётку и, насторбучив свои аршинные уши, внимательно и злобно глядел на людей.
– Другого средства я не вижу, – сказал дежурный ветеринар и тотчас же очень ловко проделал в французской булке маленькую дырочку и быстро указательным пальцем вытащил из неё почти весь мякиш. Потом он всыпал в отверстие около четверти фунта цианистого кали, заделал дырку и полил булку патокой с вином.
– Ну, бедный Мемет, – сказал директор, – знаю, что тебе нелегко, а ничего не поделаешь. Иди, угости слона в последний раз.
– Вашам приасходительствам! Она, даст бог, будет здорова. Зачем? – говорит Мемет, и по его сморщенному, старушечьему, бритому лицу покатились слёзы.
– Иди, иди. Нечего миндальничать.
Слон не сразу взял булку. Он долго недоверчиво обнюхивал, но всё-таки взял. Кругом защёлкали кодаки и затрещал кинематограф. Минуты с четыре Зембо стоял неподвижно, точно изумляясь чему-то, потом вдруг издал резкий крик отчаяния, боли и смерти.
Он долго неустойчиво качался, передавая свой громадный вес с передних ног на задние. И вдруг повалился на левый бок, увлекая в своём падении цепь от передней ноги и вырванное из стены тяжёлое кольцо с полуаршинным болтом.
Тем и кончилась его прогулка.
<1912>
Жидкое солнце
Я, Генри Диббль, приступаю к правдивому изложению некоторых важных и необыкновенных событий моей жизни с большой осторожностью и вполне естественной робостью. Многое из того, что я нахожу необходимым записать, без сомнения, вызовет у будущего читателя моих записок удивление, сомнение и даже недоверие. К этому я уже давно приготовился и нахожу заранее такое отношение к моим воспоминаниям вполне возможным и логичным. Да и надо признаться, мне самому часто кажется, что годы, проведенные мною частью в путешествиях, частью на высоте шести тысяч футов на вершине вулкана Каямбэ в южноамериканской республике Эквадор, не прошли в реальной действительной жизни, а были лишь странным фантастическим сном или бредом мгновенного потрясающего безумия.
Но отсутствие четырех пальцев на левой руке, но периодически повторяющиеся головные боли и то поражение зрения, которое называется в простонародье «куриной слепотой», каждый раз своей фактической неоспоримостью вновь заставляют меня верить в то, что я был на самом деле свидетелем самых удивительных вещей в мире. Наконец, вовсе уж не бред, и не сон, и не заблуждение те четыреста фунтов стерлингов, что я получаю аккуратно по три раза в год из конторы «Э. Найдстон и сын», Реджент-стрит, 451. Это пенсия, которую мне великодушно оставил мой учитель и патрон, один из величайших людей во всей человеческой истории, погибший при страшном крушении мексиканской шхуны «Гонзалес».
Я окончил математический факультет по отделу физики и химии в Королевском университете в тысяча… Вот, кстати, и опять новое и всегдашнее напоминание о пережитых мною приключениях. Кроме того, что каким-то блоком или цепью мне отхватило во время катастрофы пальцы левой руки, кроме поражения зрительных нервов и прочего, я, падая в море, получил, не знаю, в какой момент и каким образом, жестокий удар в правую верхнюю часть темени. Этот удар почти не оставил внешних следов, но странно отразился на моей психике: именно на памяти. Я прекрасно припоминаю и восстановляю воображением слова, лица, местность, звуки и порядок событий, но для меня навеки умерли все цифры и имена собственные, номера домов и телефонов и историческая хронология; выпали бесследно все годы, месяцы и числа, отмечающие этапы моей собственной жизни, улетучились все научные формулы, хотя любую я могу очень легко вывести из простейших последовательным путем, исчезли фамилии и имена всех, кого я знал и знаю, и это обстоятельство для меня очень мучительно. К сожалению, я не вел тогда дневника, но две-три уцелевшие записные книжки и кое-какие старые письма помогают мне до известной степени ориентироваться. Словом, я окончил курс и получил звание магистра физики за два, три, четыре года, а может быть, даже и за пять лет до начала XX столетия. Как раз к этому времени разорился и умер муж моей старшей сестры Мод, фермер из Норфолька, который нередко поддерживал меня во время моего студенчества материально, а главное – нравственно. Он твердо верил, что я останусь для продолжения ученой карьеры при одном из английских университетов и со временем воссияю яркой звездой просвещения, от которой падет луч славы и на его скромное семейство. Это был здоровый, крепкий весельчак, сильный, как бык, не дурак выпить, спеть куплет и побоксировать – совсем молодчина в духе доброй, старой, веселой Англии. Он умер от апоплексического удара, ночью, объевшись за ужином четвертью беркширской баранины, которую он заправил крепкой соей, бутылкой виски и двумя галлонами шотландского светлого пива.
Его предсказания и пожелания не исполнились. Я не попал в комплект будущих ученых. Еще больше: мне не посчастливилось даже достать место преподавателя или тутора в каком-нибудь из лицеев или в средней школе: я попал в какую-то заколдованную, неумолимую, свирепую, равнодушную, длительную полосу неудачи. Ах, кто, кроме редких баловней судьбы, не знает и не нес на своих плечах этого безрассудного, нелепого, слепого ожесточения судьбы? Но меня она била чересчур упорно.
Ни на заводах, ни в технических конторах – нигде я не мог и не умел пристроиться. Большей частью я приходил слишком поздно: место уже бывало занято.
Во многих случаях мне почти сразу приходилось убеждаться, что я вхожу в соприкосновение с темной, подозрительной компанией. Еще чаще мне ничего не платили за мой двух-трехмесячный труд и выбрасывали на улицу, как котенка. Нельзя сказать, чтобы я был особенно нерешителен, застенчив, ненаходчив или, наоборот, обидчив, самолюбив и строптив. Нет, просто обстоятельства жизни складывались против меня.
Но я был прежде всего англичанином и уважал себя, как джентльмена, представителя величайшей нации в мире. Мысль о самоубийстве в этот ужасный период жизни никогда не приходила мне в голову. Я боролся против несправедливости рока с холодным, трезвым упорством и с твердой верой в то, что никогда, никогда англичанин не будет рабом. И судьба наконец сдалась перед моим англосаксонским мужеством.
Я жил тогда в самом грязнейшем из грязных переулков Бетналь Грина, в забытом богом Ист Энде и ютился за ситцевой перегородкой у портового рабочего, носильщика угля. За квартиру я платил ему четыре шиллинга в месяц и, кроме того, должен был помогать стряпать его жене, учить читать и писать трех его старших детей, а также мыть кухню и черную лестницу. Хозяева всегда радушно приглашали меня обедать, но я не решался обременять их нищенский бюджет. Я обедал напротив, в мрачном подвале, и бог ведает, сколько кошачьих, собачьих и конских существовании лежит невольно на моей мрачной совести. Но за эту естественную деликатность мастер Джон Джонсон, мой хозяин, платил мне большим вниманием. Когда в доках Ист Энда случалось много работы и не хватало рук, а цена на них поднималась страшно высоко, он всегда умудрялся устраивать меня на не особенно тяжелую разгрузку или нагрузку, где я шутя мог зарабатывать восемь – десять шиллингов в сутки. Жаль только, что этот прекрасный, добрый и религиозный человек по субботам аккуратно напивался, как язычник, и имел в эти дни большую склонность к боксу.
Кроме обязательных кухонных занятий и случайной работы в порту, я перепробовал множество смешных, тяжелых и оригинальных профессий. Помогал стричь пуделей и обрезать хвосты фокстерьерам, торговал в колбасной лавке во время отсутствия ее владельца, приводил в порядок запущенные библиотеки, считал выручку в скаковых кассах, давал урывками уроки математики, психологии, фехтования, богословия и даже танцев, переписывал скучнейшие доклады и идиотские повести, нанимался смотреть за извозчичьими лошадьми, пока кучера ели в трактире ветчину и пили пиво; иногда, одетый в униформу, скатывал ковры в цирке и выравнивал граблями тырсу манежа во время антрактов, служил сандвичем, а иногда выступал на состязаниях в боксе, в разряде среднего веса, переводил с немецкого языка на английский и наоборот, писал надгробные эпитафии, и мало ли чего я еще не делал! По совести говоря, благодаря моей неистощимой энергии и умеренности я не особенно нуждался.У меня был желудок, как у верблюда, сто пятьдесят английских фунтов весу без одежды, здоровые кулаки, крепкий сон и большая бодрость духа. Я так приспособился к бедности и к необходимым лишениям, что мог не только посылать время от времени кое-какие гроши моей младшей сестре Эсфири, которую бросил в Дублине с двумя детьми муж-ирландец, актер, пьяница, лгун, бродяга и развратник, – но и следить напряженно за наукой и общественной жизнью, читал газеты и ученые журналы, покупал у букинистов книги, абонировался в библиотеке. В эту пору мне даже удалось сделать два незначительных изобретения: очень дешевый прибор, механически предупреждающий паровозного машиниста в тумане или в снежную бурю о закрытом семафоре, и особую, почти неистощимую паяльную лампу, дававшую водородный пламень. Надо сказать, что не я воспользовался плодами моих изобретений – ими воспользовались другие. Но я оставался верен науке, как средневековый рыцарь своей даме, и никогда не переставал верить, что настанет миг, когда возлюбленная призовет меня к себе светлой улыбкой.
Эта улыбка озарила меня самым неожиданным и прозаическим образом. В одно осеннее туманное утро мой хозяин, добрый мастер Джонсон, побежал в лавку напротив за кипятком для чая и за молоком для детей. Вернулся он с сияющим лицом, с запахом виски изо рта и с газетой в руках. Он сунул мне под нос газету, еще сырую и пахнувшую типографской краской, и, указывая на место, отчеркнутое краем грязного ногтя, воскликнул:
– Поглядите-ка, старик. Пусть я не разберу антрацита от кокса, если эти строки не для вас, парень.
Я прочитал не без интереса следующее (приблизительно) объявление: «Стряпчие «Э. Найдстон и сын», Реджент-стрит, 451, ищут человека для путешествия к экватору, до места, где ему придется остаться не менее трех лет для научных занятий. Условия: возраст от 22 до 30 лет, англичанин, безукоризненно здоровый, неболтливый, смелый, трезвый и выносливый, знающий один, а лучше два европейских языка (французский и немецкий), несомненно холостой и по возможности без больших фамильных или иных связей на родине. Первоначальное жалованье – 400 фунтов стерлингов в год. Желательно университетское образование, в частности же больше шансов на получение службы имеет джентльмен, знающий теоретически и практически химию и физику. Являться ежедневно от 9 до 10 часов». Я потому так твердо цитирую это объявление, что в моих немногих бумагах сохранился до сих пор его текст, хотя и очень небрежно записанный и смытый морской водою. – Тебе природа дала длинные ноги, сынок, и хорошие легкие, – сказал Джонсон, одобрительно хлопнув меня по спине. – Разводи же машину и давай полный ход. Теперь там, наверно, набралось молодых джентльменов безупречного здоровья и честного поведения гораздо больше, чем их бывает на розыгрыше Дэрби. Анна, сделай ему сандвичи с мясом и вареньем. Почем знать, может быть, ему придется ждать очереди часов пять. Ну, желаю успеха, мой друг. Вперед, храбрая Англия! На Реджент-стрит я попал как раз в обрез. И я мысленно поблагодарил природу за свой хороший шаговой аппарат. Отворяя мне дверь, слуга сказал с небрежной фамильярностью: «Ваше счастье, мистер. Вы как раз захватили последний номер». И тотчас же укрепил на дверях, снаружи, роковой анонс: «Прием по объявлению окончен».
В полутемной, тесной и достаточно грязной приемной – таковы почти все приемные этих волшебников из Сити, ворочающих миллионными делами, – дожидалось человек десять, пришедших раньше. Они сидели вдоль стен на деревянных, потемневших, засаленных и блестевших от времени скамьях, над которыми, на высоте человеческих затылков, старые обои хранили грязную широкую полосу. Боже мой, какой жалкий сброд, голодный, оборванный, загнанный вконец нуждою, больной и забитый, собрался здесь, как на выставку уродов! Невольно мое сердце защемило от жалости и оскорбленного самолюбия. Землистые лица, косые и злобно-ревнивые, подозрительные взгляды исподлобья, трясущиеся руки, лохмотья, запах нищеты, скверного табака и давнишнего алкоголя. Иные из этих молодых джентльменов не достигли еще семнадцатилетнего возраста, а другим давно перевалило за пятьдесят. Один за другим они бледными тенями проскальзывали в кабинет и возвращались оттуда с видом утопленников, только что вытащенных из воды. Мне как-то болезненно стыдно было сознавать себя бесконечно более здоровым и сильным, чем все они, взятые вместе.
Наконец дошла очередь до меня. Кто-то приотворил изнутри кабинетную дверь и, невидимый за нею, крикнул отрывисто и брезгливо, кислым голосом:
– Номер восемнадцатый, и, слава аллаху, последний! Я вошел в кабинет, почти такой же запущенный, как и приемная, с тою только разницей, что он украшался облупленной клеенчатой мебелью: двумя стульями, диваном и двумя креслами, в которых сидели два пожилых господина, по-видимому, одинакового, небольшого роста, но старший из них, в длинном рабочем вестоне [8]8
Пиджаке (от фр. veston)
[Закрыть], был худ, смугл, желтолиц и суров с виду, а другой, одетый в новенький с шелковыми отворотами сюртук, наоборот, был румян, пухл, голубоглаз и сидел, небрежно развалившись и положив нога на ногу.
Я назвал себя и сделал неглубокий, но довольно почтительный поклон. Затем, видя, что мне не предлагают места, я сел было на диван.
– Подождите, – сказал смуглый. – Сначала снимите ваш пиджак и жилет. Вот доктор, он вас выслушает.
Я вспомнил тот пункт объявления, где говорилось о безукоризненном здоровье, и молча скинул с себя верхнюю одежду. Румяный толстяк лениво выпростался из кресла и, обняв меня, прилип ухом к моей груди.
– Наконец-то хоть один в чистом белье, – сказал он небрежно.
Он прослушал мои легкие и сердце, постучал пальцами по спине и грудной клетке, потом посадил меня и проверил коленные рефлексы и, наконец, сказал лениво:
– Здоров, как живая рыба. Немного недоедал в последнее время. Это пустяки, вопрос двух недель хорошего питания. Даже, к его счастью, я не заметил у него никаких следов обычного у молодежи переутомления от спорта. Словом, мистер Найдстон, я передаю вам джентльмена, как удачный, почти совершенный образчик здоровой англосаксонской расы. Я думаю, что я вам более не нужен?
– Вы свободны, доктор, – сказал стряпчий. – Но вы, конечно, позволите известить вас завтра утром, если мне понадобится ваша компетентная помощь?
– О, мистер Найдстон, я всегда к вашим услугам. Когда мы остались одни, стряпчий уселся против меня и внимательно взглянул мне в переносицу. У него были маленькие зоркие глаза цвета кофейных зерен и совсем желтые белки. Когда он глядел пристально, то казалось, что из его крошечных синих зрачков время от времени выскакивают тоненькие, острые, блестящие иголочки.
– Поговорим, – сказал он отрывисто. – Ваше имя, фамилия, происхождение, место рождения?
Я отвечал ему в таком же сухом и кратком тоне…
– Образование?
– Королевский университет.
– Специальность?
– Математический факультет. В частности, физика.
– Иностранные языки?
– Немецким владею довольно свободно. По-французски понимаю, когда говорят раздельно, не торопясь, могу и сам слепить десятка четыре необходимых фраз, читаю без затруднения.
– Родственники и их социальное положение?
– Это разве вам не безразлично, мистер Найдстон?
– Мне? Совершенно все равно. Я действую в интересах третьего лица.
Я рассказал ему сжато о положении моих двух сестер. Он во время моего доклада внимательно разглядывал свои ногти, потом бросил в меня две иглы из своих глаз и спросил:
– Пьете? И сколько?
– Иногда во время обеда полпинты пива.
– Холост?
– Да, сэр.
– Собираетесь сделать эту глупость? Жениться?
– О нет.
– Мимолетная любовь?
– Нет, сэр.
– Гм… Чем теперь занимаетесь?
Я и на этот вопрос ответил коротко и правдиво, опустив ради экономии времени пять или шесть моих случайных профессий.
– Так, – сказал он, когда я окончил. – Нуждаетесь сейчас в деньгах?
– Нет. Я сыт и одет. Всегда нахожу работу. Слежу по возможности за наукой. Верю твердо, что рано или поздно выплыву.
– Не хотите ли денег вперед? В задаток?
– Нет, это не в моих правилах. Брать деньги ни с того ни с сего… Да мы еще не покончили.
– Правила ваши недурны. Очень может быть, что мы и сойдемся с вами. Запишите вот здесь ваш адрес. Я вас извещу. И вероятно, очень скоро. Доброго пути.
– Простите, мистер Найдстон, – возразил я. – Я только что отвечал вам с полной искренностью на все ваши вопросы, порою даже несколько щекотливые. Надеюсь, вы и мне позволите задать вам один вопрос?
– Прошу вас.
– Цель поездки?
– Эге! Разве вам не все равно?
– Предположим, что нет.
– Цель чисто научная.
– Этого мало.
– Мало? – вдруг закричал на меня мистер Найдстон, и из его кофейных глаз посыпались снопы иголок. – Мало? Да неужели у вас хватает дерзости предполагать, что фирма «Найдстон и сын», существующая уже полтораста лет и пользующаяся уважением всей коммерческой и деловой Англии, может вам предложить что-нибудь бесчестное или просто компрометирующее вас? Или что мы возьмемся за какое-нибудь дело, не имея в руках верных гарантий его безусловной законности?
– О сэр, я не сомневаюсь, – возразил я сконфуженно.
– Хорошо, – прервал он, мгновенно успокаиваясь, точно бурное море, в которое вылили несколько тонн масла. – Но видите ли, во-первых, я связан условием не сообщать вам существенных подробностей до тех пор, пока вы не сядете на пароход, отходящий от Саутгемптона…
– Куда? – спросил я быстро.
– Пока этого я не могу сказать вам. А во-вторых, цель вашей поездки (если она вообще состоится) для меня самого не совсем ясна.
– Странно, – сказал я.
– Удивительно странно, – охотно подхватил стряпчий. – И даже, если угодно, я вам скажу больше: это фантастично, грандиозно, неслыханно, великолепно и смело до безумия!
Теперь была моя очередь сказать «гм», и я это сделал с некоторою осторожностью.
– Подождите, – воскликнул с внезапной горячностью мистер Найдстон. – Вы молоды. Я старше вас лет на двадцать пять – тридцать. Вы уже многим великим завоеваниям человеческого гения совершенно не удивляетесь. Но если бы мне в ваши годы кто-нибудь предсказал, что я сам буду заниматься по вечерам при свете невидимого электричества, текущего по проволоке, или что я буду разговаривать с моим знакомым за восемьдесят миль расстояния, что я увижу на полотне экрана двигающиеся, смеющиеся, нарисованные образы людей, что можно телеграфировать без проволоки и так далее и так далее, – то я бы поставил свою честь, свободу, карьеру против одной пинты плохого лондонского пива за то, что со мной говорит сумасшедший.
– Значит, дело заключается в каком-нибудь новейшем изобретении или величайшем открытии?
– Если хотите, – да. Но, прошу вас, не глядите на меня с недоверием или подозрением. Ну, что вы сказали бы, например, если бы к вашей молодой энергии, силе и знаниям обратился великий ученый, который, положим, работает над проблемой – из простых элементов, входящих в воздух, составить вкусное, питательное и съедобное, почти бесплатное вещество? Если бы вам предложили работать ради будущего устроения и украшения земли? Посвятить свое творчество и душевную мощь счастию будущих поколений? Что вы сказали бы? Да вот вам живой пример. Поглядите в окно.
Я невольно привстал, повинуясь его властному резкому жесту, и посмотрел в мутные стекла. Там, на улицах, висел от неба до земли густой, как грязная вата, черно-ржаво-серый туман. И в нем едва-едва намечались мутно-желтые расплывчатые пятна фонарей. Это было в одиннадцать часов дня.
– Да, да, поглядите, – произнес мистер Найдстон, – поглядите внимательно. Теперь предположите, что гениальный самоотверженный человек зовет вас на великое дело оздоровления и украшения земли. Он говорит вам, что все, что есть на земле, зависит от ума, воли и рук человека. Он говорит, что если бог в своем справедливом гневе отвернулся от человечества, то человеческий необъятный ум сам придет себе на помощь. Этот человек скажет вам, что туманы, болезни, крайности климатов, ветры, извержения вулканов – все подвержено влиянию и контролю человеческой воли, что, наконец, можно сделать земной шар настоящим раем и продлить его существование на несколько сотен тысяч лет. Что вы сказали бы этому человеку?
– Но что, если тот, кто предлагает мне эту радужную мечту, сам ошибается? Если я окажусь невольной игрушкой в руках мономана? Капризного безумца? Мистер Найдстон встал и, протягивая мне руку в знак прощания, сказал твердо:
– Нет. На борту парохода, месяца через два-три (если, понятно, мы сговоримся), я скажу вам имя этого ученого и смысл его великой задачи, и вы снимете вашу шляпу в знак величайшего благоговения перед человеком и идеей. Но я, к сожалению, профан, мистер Диббль. Я только стряпчий – хранитель и представитель чужих интересов.
После этого приема я почти не сомневался в том, что судьбе наконец надоело мое неизменное созерцание ее непреклонной спины и что она решилась показать мне свое таинственное лицо. Поэтому в тот же вечер я устроил на остаток моих скудных сбережений неслыханно роскошное пиршество, которое состояло из вареного окорока, пунша, пломпудинга и горячего шоколада и в котором принимала участие, кроме меня, почтенная чета старых Джонсонов и, не помню, – человек шесть или семь Джонсонов-младших. Левое плечо у меня совсем посинело и отвисло от дружеских шлепков доброго хозяина, сидевшего рядом со мною, слева.








![Книга Предыстория [СИ] автора Екатерина Тюрина](http://itexts.net/files/books/110/no-cover.jpg)