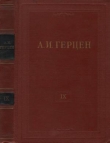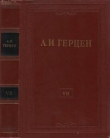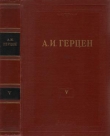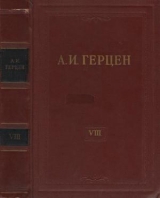
Текст книги "Том 8. Былое и думы. Часть 1-3"
Автор книги: Александр Герцен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 35 страниц)
В нескольких верстах от Вяземы князя Голицына дожидался Васильевский староста, верхом, на опушке леса, и провожал проселком. В селе, у господского дома, к которому вела длинная липовая аллея, встречал священник, его жена, причетники, дворовые, несколько крестьян и дурак Пронька, который один чувствовал человеческое достоинство, не снимал засаленной шляпы, улыбался, стоя несколько поодаль, и давал стречка, как только кто-нибудь из городских хотел подойти к нему.
Я мало видал мест изящнее Васильевского. Кто знает Кунцево и Архангельское Юсупова или именье Лопухина против Саввина монастыря, тому довольно сказать, что Васильевское лежит на продолжении того же берега верст тридцать от Саввина монастыря. На отлогой стороне – село, церковь и старый господский дом. По другую сторону – гора и небольшая деревенька, там построил мой отец новый дом. Вид из него обнимал верст пятнадцать кругом; озера нив, колеблясь, стлались без конца; разные усадьбы и села с белеющими церквами видны были там-сям; леса разных цветов делали полукруглую раму, я черезо все – голубая тесьма Москвы-реки. Я открывал окно рано утром в своей комнате наверху и смотрел, и слушал, и дышал. При всем том мне было жаль старый каменный дом, может, оттого, что я в нем встретился в первый раз с деревней; я так любил длинную, тенистую аллею, которая вела к нему, и одичалый сад возле; дом разваливался, и из одной трещины в сенях росла тоненькая, стройная береза. Налево по реке шла ивовая аллея, за нею тростник и белый песок до самой реки; на этом песке и в этом тростнике игрывал я, бывало, целое утро – лет одиннадцати, двенадцати. Перед домом сиживал почти всегда сгорбленный старик-садовник, троил мятную воду, отваривал ягоды и тайком кормил меня всякой овощью. В саду было множество ворон; гнезда их покрывали макушки деревьев, они кружились около них и каркали; иногда, особенно к вечеру, они вспархивали целыми сотнями, шумя и поднимая других; иногда одна какая-нибудь перелетит наскоро с дерева на дерево и все затихнет… А к ночи издали где-то сова то плачет, как ребенок, то заливается хохотом… Я боялся этих диких, плачевных звуков, а все-таки ходил их слушать.
Каждый год или по крайней мере через год ездили мы в Васильевское. Я, уезжая, метил на стене возле балкона мой рост и тотчас отправлялся свидетельствовать, сколько меня прибыло. Но я мог деревней мерить не один физический рост, периодические возвращения к тем же предметам наглядно показывали разницу внутреннего развития. Другие книги привозились, другие предметы занимали. В 1823 я еще совсем был ребенком, со мной были детские книги, да и тех я не читал, а занимался всего больше зайцем и векшей, которые жили в чулане возле моей комнаты. Одно из главных наслаждений состояло в разрешении моего отца каждый вечер раз выстрелить из фальконета, причем, само собою разумеется, вся дворня была занята и пятидесятилетние люди с проседью так же тешились, как я. В 1827 я привез с собою Плутарха и Шиллера; рано утром уходил я в лес, в чащу, как можно дальше, там ложился под дерево и, воображая, что это богемские леса, читал сам о себе вслух; тем не меньше еще плотина, которую я делал на небольшом ручье с помощью одного дворового мальчика, меня очень занимала, и я в день десять раз бегал ее осматривать и поправлять. В 1829 и 30 годах я писал философскую статью о Шиллеровом Валленштейне – и из прежних игр удержался в силе один фальконет. Впрочем, сверх пальбы, еще другое наслаждение осталось моей неизменной страстью – сельские вечера; они и теперь, как тогда, остались для меня минутами благочестия, тишины и поэзии. Одна из последних кротко-светлых минут в моей жизни тоже напоминает мне сельский вечер. Солнце опускалось торжественно, ярко в океан огня, распускалось в нем… Вдруг густой пурпур сменился синей темнотой; все подернулось дымчатым испарением, – в Италии сумерки начинаются быстро. Мы сели на мулов; по дороге из Фраскати в Рим надобно было проезжать небольшою деревенькой; кой-где уже горели огоньки, все было тихо, копыта мулов звонко постукивали по камню, свежий и несколько сырой ветер подувал с Апеннин. При выезде из деревни, в нише, стояла небольшая мадонна, перед нею горел фонарь; крестьянские девушки, шедшие с работы, покрытые своим белым убрусом на голове, опустились на колена и запели молитву, к ним присоединились шедшие мимо нищие пиферари. Я был глубоко потрясен, глубоко тронут. Мы посмотрели друг на друга… и тихим шагом поехали к остерии[42]42
ресторану (итал. osteria). – Ред.
[Закрыть], где нас ждала коляска. Ехавши домой, я рассказывал о вечерах в Васильевском. А что рассказывать?
Деревья сада
Стояли тихо. По холмам
Тянулась сельская ограда,
И расходилось по домам
Уныло медленное стадо.
(«Юмор»)
…Пастух хлопает длинным бичом да играет на берестовой дудке; мычание, блеянье, топанье по мосту возвращающегося стада, собака подгоняет лаем рассеянную овцу, и та бежит каким-то деревянным курц-галопом; а тут песни крестьянок, идущих с поля, все ближе и ближе – но тропинка повернула направо, и звуки снова удаляются. Из домов, скрыпя воротами, выходят дети, девочки – встречать своих коров, баранов; работа кончилась. Дети играют на улице, у берега, и их голоса раздаются пронзительно-чисто по реке и по вечерней заре; к воздуху примешивается паленый запах овинов, роса начинает исподволь стлать дымом по полю, над лесом ветер как-то ходит вслух, словно лист закипает, а тут зарница, дрожа, осветит замирающей, трепетной лазурью окрестности, и Вера Артамоновна, больше ворча, нежели сердясь, говорит, найдя меня под липой:
– Что это вас нигде не сыщешь? И чай давно подан, и все в сборе, я уже искала, искала вас, ноги устали, не под лета мне бегать; да и что это на сырой траве лежать?.. Вот будет завтра насморк, непременно будет.
– Ну, полноте, полноте, – говорил я, смеясь, старушке, – и насморку не будет, и чаю я не хочу, а вы мне украдьте сливок получше, с самого верху.
– В самом деле, уж какой вы, на вас и сердиться нельзя… Лакомство какое! Сливки-то я уж и без вашего спроса приготовила. А вот зарница… хорошо! Это к хлебу зарит.
И я, подпрыгивая и посвистывая, отправлялся домой.
После 1832 года мы не ездили больше в Васильевское. В продолжение моей ссылки мой отец продал его. В 1843 году мы жили в другой подмосковной, в Звенигородском уезде, верст двадцать от Васильевского. Как же было не съездить на старое пепелище. И вот мы опять едем тем же проселком; открывается знакомый бор и гора, покрытая орешником, а тут и брод через реку, – этот брод, приводивший меня двадцать лет тому назад в восторг, – вода брызжет, мелкие камни хрустят, кучера кричат, лошади упираются… Ну вот и село, и дом священника, где он сиживал на лавочке в буром подряснике, простодушный, добрый, рыжеватый, вечно в поту, всегда что-нибудь прикусывавший и постоянно одержимый икотой; вот и канцелярия, где земский Василий Епифанов, никогда не бывавший трезвым, писал свои отчеты, скорчившись над бумагой и держа перо у самого конца, круто подогнувши третий палец под него. Священник умер, Василий Епифанов пишет отчеты и напивается в другой деревне. Мы остановились у старостихи, муж ее был на поле.
Что-то чужое прошло тут в эти десять лет; вместо нашего дома на горе стоял другой, около него был разбит новый сад. Возвращаясь мимо церкви и кладбища, мы встретили какое-то уродливое существо, тащившееся почти на четвереньках; оно мне показывало что-то, я подошел – это была горбатая и разбитая параличом полуюродивая старуха, жившая подаянием и работавшая в огороде прежнего священника; ей было тогда уже лет около семидесяти, и ее-то именно смерть и обошла. Она узнала меня, плакала, качала головой и приговаривала:
– Ох, уже и ты-то как состарился, я по поступи тебя только узнала – а я – уж я-то – о-о-ох – и не говори!
Когда мы ехали назад, я увидел издали на поле старосту, того же, который был при нас; он сначала не узнал меня, но когда мы проехали, он, как бы спохватившись, снял шляпу и низко кланялся. Проехав еще несколько, я обернулся: староста Григорий Горский все еще стоял на том же месте и смотрел нам вслед; его высокая бородатая фигура, кланяющаяся середь нивы, знакомо проводила нас из отчуждившегося Васильевского.
Глава IVНик и Воробьевы горы
«Напиши тогда, как в этом месте (на Воробьевых горах) развилась история нашей жизни, т. е. моей и твоей».
Письмо 1833.
Года за три до того времени, о котором идет речь, мы гуляли по берегу Москвы-реки в Лужниках, т. е. по другую сторону Воробьевых гор. У самой реки мы встретили знакомого нам француза-гувернера в одной рубашке, он был перепуган и кричал: «Тонет! тонет!» Но прежде нежели наш приятель успел снять рубашку или надеть панталоны, уральский казак сбежал с Воробьевых гор, бросился в воду, исчез и через минуту явился с тщедушным человеком, у которого голова и руки болтались, как платье, вывешенное на ветер; он положил его на берег, говоря: «Еще отходится, стоит покачать».
Люди, бывшие около, собрали рублей пятьдесят и предложили казаку. Казак без ужимок очень простодушно сказал: «Грешно за эдакое дело деньги брать, и труда, почитай, никакого не было, ишь какой, словно кошка. А впрочем, – прибавил он, – мы люди бедные, просить не просим, ну, а коли дают, отчего не взять, покорнейше благодарим». Потом, завязавши деньги в платок, он пошел пасти лошадей на гору. Мой отец спросил его имя и написал на другой день о бывшем Эссену. Эссен произвел его в урядники. Через несколько месяцев явился к нам казак и с ним надушенный, рябой, лысый, в завитой белокурой накладке немец; он приехал благодарить за казака, – это был утопленник. С тех пор он стал бывать у нас. Карл Иванович Зонненберг оканчивал тогда немецкую часть воспитания каких-то двух повес, от них он перешел к одному симбирскому помещику, от него – к дальнему родственнику моего отца. Мальчик, которого физическое здоровье и германское произношение было ему вверено и которого Зонненберг называл Ником, мне нравился, в нем было что-то доброе, кроткое и задумчивое; он вовсе не походил на других мальчиков, которых мне случалось видеть; тем не менее сближались мы туго. Он был молчалив, задумчив; я резов, но боялся его тормошить.
Около того времени, как тверская кузина уехала в Корчеву, умерла бабушка Ника, матери он лишился в первом детстве. В их доме была суета, и Зонненберг, которому нечего было делать, тоже хлопотал и представлял, что сбит с ног; он привел Ника с утра к нам и просил его на весь день оставить у нас. Ник был грустен, испуган; вероятно, он любил бабушку. Он так поэтически вспомнил ее потом:
И вот теперь в вечерний час
Заря блестит стезею длинной,
Я вспоминаю, как у нас
Давно обычай был старинный,
Пред воскресеньем каждый раз
Ходил к нам поп седой и чинный
И перед образом святым
Молился с причетом своим.
Старушка бабушка моя,
На креслах опершись, стояла,
Молитву шопотом творя,
И четки все перебирала;
В дверях знакомая семья
Дворовых лиц мольбе внимала,
И в землю кланялись они,
Прося у бога долги дни.
А блеск вечерний по окнам
Меж тем горел…
По зале из кадила дым
Носился клубом голубым.
И все такою тишиной
Кругом дышало, только чтенье
Дьячков звучало, и с душой
Дружилось тайное стремленье,
И смутно с детскою мечтой
Уж грусти тихой ощущенье
Я бессознательно сближал
И все чего-то так желал.
(«Юмор»)
…Посидевши немного, я предложил читать Шиллера. Мена удивляло сходство наших вкусов; он знал на память гораздо больше, чем я, и знал именно те места, которые мне так нравились; мы сложили книгу и выпытывали, так сказать, друг в друге симпатию.
От Мёроса, шедшего с кинжалом в рукаве, «чтоб город освободить от тирана», от Вильгельма Телля, поджидавшего на узкой дорожке в Кюснахте Фогта, переход к 14 декабря и Николаю был легок. Мысли эти и эти сближения не были чужды Нику, ненапечатанные стихи Пушкина и Рылеева были и ему известны; разница с пустыми мальчиками, которых я изредка встречал, была разительна.
Незадолго перед тем, гуляя на Пресненских прудах, я, полный моим бушотовским терроризмом, объяснял одному из моих ровесников справедливость казни Людовика XVI.
– Все так, – заметил юный князь О., – но ведь он был помазанник божий!
Я посмотрел на него с сожалением, разлюбил его и ни разу потом не просился к ним.
Этих пределов с Ником не было, у него сердце так же билось, как у меня, он также отчалил от угрюмого консервативного берега; стоило дружнее отпихиваться, и мы, чуть ли не в первый день, решились действовать в пользу цесаревича Константина!
Прежде мы имели мало долгих бесед. Карл Иванович мешал, как осенняя муха, и портил всякий разговор своим присутствием, во все мешался, ничего не понимая, делал замечания, поправлял воротник рубашки у Ника, торопился домой, словом, был очень противен. Через месяц мы не могли провести двух дней, чтоб не увидеться или не написать письмо; я с порывистостью моей натуры привязывался больше и больше к Нику, он тихо и глубоко любил меня. Дружба наша должна была с самого начала принять характер серьезный. Я не помню, чтоб шалости занимали нас на первом плане, особенно, когда мы были одни. Мы, разумеется, не сидели с ним на одном месте, лета брали свое, мы хохотали и дурачились, дразнили Зонненберга и стреляли на нашем дворе из лука; но основа всего была очень далека от пустого товарищества; нас связывала, сверх равенства лет, сверх нашего «химического» сродства, наша общая религия. Ничего в свете не очищает, не облагороживает так отроческий возраст, не хранит его, как сильно возбужденный общечеловеческий интерес. Мы уважали в себе наше будущее, мы смотрели друг на друга, как на сосуды избранные, предназначенные.
Часто мы ходили с Ником за город, у нас были любимые места – Воробьевы горы, поля за Драгомиловской заставой. Он приходил за мной с Зонненбергом часов в шесть или семь утра и, если я спал, бросал в мое окно песок и маленькие камешки. Я просыпался, улыбаясь, и торопился выйти к нему.
Ранние прогулки эти завел неутомимый Карл Иванович.
Зонненберг в помещичье-патриархальном воспитании Огарева играет роль – Бирона. С его появлением влияние старика-дядьки было устранено; скрепя сердце молчала недовольная олигархия передней, понимая, что проклятого немца, кушающего за господским столом, не пересилишь. Круто изменил Зонненберг прежние порядки, дядька даже прослезился, узнав, что немчура повел молодого барина самого покупать в лавки готовые сапоги. Переворот Зонненберга, так же как переворот Петра I, отличался военным характером в делах самых мирных. Из этого не следует, чтобы худенькие плечи Карла Ивановича когда-нибудь прикрывались погоном или эполетами, – но природа так устроила немца, что если он не доходит до неряшества и sans-gêne[43]43
бесцеремонности (франц.). – Ред.
[Закрыть] филологией или теологией, то, какой бы он ни был статский, все-таки он военный. В силу этого и Карл Иванович любил и узкие платья, застегнутые и с перехватом, в силу этого и он был строгий блюститель собственных правил и, положивши вставать в шесть часов утра, поднимал Ника в 59 минуту шестого, и никак не позже одной минуты седьмого, и отправлялся с ним на чистый воздух. Воробьевы горы, у подножия которых тонул Карл Иванович, скоро сделались нашими «святыми холмами».
Раз после обеда отец мой собрался ехать за город. Огарев был у нас, он пригласил и его с Зонненбергом. Поездки эти были не шуточными делами. В четвероместной карете «работы Иохима», что не мешало ей в пятнадцатилетнюю, хотя и покойную службу состареться до безобразия и быть попрежнему тяжелее осадной мортиры, до заставы надобно было ехать час или больше. Четыре лошади разного роста и не одного цвета, обленившиеся в праздной жизни и наевшие себе животы, покрывались через четверть часа потом и мылом; это было запрещено кучеру Авдею, и ему оставалось ехать шагом. Окна были обыкновенно подняты, какой бы жар ни был; и ко всему этому рядом с равномерно гнетущим надзором моего отца беспокойно суетливый, тормошащий надзор Карла Ивановича, – но мы охотно подвергались всему, чтоб быть вместе.
В Лужниках мы переехали на лодке Москву-реку на самом том месте, где казак вытащил из воды Карла Ивановича. Отец мой, как всегда, шел угрюмо и сгорбившись; возле него мелкими шажками семенил Карл Иванович, занимая его сплетнями и болтовней. Мы ушли от них вперед и, далеко опередивши, взбежали на место закладки Витбергова храма на Воробьевых горах.
Запыхавшись и раскрасневшись, стояли мы там, обтирая пот. Садилось солнце, купола блестели, город стлался на необозримое пространство под горой, свежий ветерок подувал на нас, постояли мы, постояли, оперлись друг на друга и, вдруг обнявшись, присягнули, в виду всей Москвы, пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу.
Сцена эта может показаться очень натянутой, очень театральной, а между тем через двадцать шесть лет я тронут до слез, вспоминая ее, она была свято искренна, это доказала вся жизнь наша. Но, видно, одинакая судьба поражает все обеты, данные на этом месте; Александр был тоже искренен, положивши первый камень храма, который, как Иосиф II сказал, и притом ошибочно, при закладке какого-то города в Новороссии, – сделался последним. Мы не знали всей силы того, с чем вступали в бой, но бой приняли. Сила сломила в нас многое, но не она нас сокрушила и ей мы не сдались, несмотря на все ее удары. Рубцы, полученные от нее, почетны, – свихнутая нога Иакова была знамением того, что он боролся ночью с богом.
С этого дня Воробьевы горы сделались для нас местом богомолья, и мы в год раз или два ходили туда, и всегда одни. Там спрашивал меня Огарев, пять лет спустя, робко и застенчиво, верю ли я в его поэтический талант, и писал мне потом (1833) из своей деревни: «Выехал я, и мне стало грустно, так грустно, как никогда не бывало. А всё Воробьевы горы. Долго я сам в себе таил восторги; застенчивость или что-нибудь другое, чего я и сам не знаю, мешало мне высказать их, но на Воробьевых горах этот восторг не был отягчен одиночеством, ты разделял его со мной, и эти минуты незабвенны, они, как воспоминания о былом счастье, преследовали меня дорогой, а вокруг я только видел лес; все было так синё, синё, а на душе темно, темно».
«Напиши, – заключал он, – как в этом месте (на Воробьевых горах) развилась история нашей жизни, т. е. моей а твоей».
Прошло еще пять лет, я был далеко от Воробьевых гор, но возле меня угрюмо и печально стоял их Прометей – А. Л. Витберг. В 1842, возвратившись окончательно в Москву, я снова посетил Воробьевы горы, мы опять стояли на месте закладки, смотрели на тот же вид и также вдвоем, – но не с Ником.
С 1827 мы не разлучались. В каждом воспоминании того времени, отдельном и общем, везде на первом плане, он с своими отроческими чертами, с своей любовью ко мне. Рано виднелось в нем то помазание, которое достается немногим, – на беду ли, на счастие ли, не знаю, но наверное на то, чтоб не быть в толпе. В доме у его отца долго потом оставался большой писанный масляными красками портрет Огарева того времени (1827-28 года). Впоследствии часто останавливался я перед ним и долго смотрел на него. Он представлен с раскинутым воротником рубашки; живописец чудно схватил богатые каштановые волосы, отрочески неустоявшуюся красоту его неправильных черт и несколько смуглый колорит; на холсте виднелась задумчивость, предваряющая сильную мысль; безотчетнаа грусть чрезвычайная кротость просвечивали из серых больших глаз, намекая на будущий рост великого духа; таким он и вырос. Портрет этот, подаренный мне, взяла чужая женщина – может, ей попадутся эти строки и она его пришлет мне.
Я не знаю, почему дают какой-то монополь воспоминаниям первой любви над воспоминаниями молодой дружбы. Первая любовь потому так благоуханна, что она забывает различие полов, что она – страстная дружба. С своей стороны, дружба между юношами имеет всю горячность любви и весь ее характер: та же застенчивая боязнь касаться словом своих чувств, то же недоверие к себе, безусловная преданность, та же мучительная тоска разлуки и то же ревнивое желание исключительности.
Я давно любил, и любил страстно, Ника, но не решался назвать его «другом», и когда он жил летом в Кунцеве, я писал ему в конце письма: «Друг ваш или нет, еще не знаю». Он первый стал мне писать ты и называл меня своим Агатоном по Карамзину, а я звал его моим Рафаилом по Шиллеру[44]44
«Philosophische Briefe».
[Закрыть].
Улыбнитесь, пожалуй, да только кротко, добродушно, так, как улыбаются, думая о своем пятнадцатом годе. Или не лучше ли призадуматься над своим «Таков ли был я, расцветая?» и благословить судьбу, если у вас была юность (одной молодости недостаточно на это); благословить ее вдвое, если у вас был тогда друг.
Язык того времени нам сдается натянутым, книжным, мы отучились от его неустоявшейся восторженности, нестройного одушевления, сменяющегося вдруг то томной нежностью, то детским смехом. Он был бы смешон в тридцатилетнем человеке, как знаменитое «Bet awillschlafen»[45]45
«Беттина хочет спать» (нем.). – Ред.
[Закрыть], но в свое время этот отроческий язык, этот jargon de la puberté[46]46
жаргон возмужалости (франц.). – Ред.
[Закрыть], эта перемена психического голоса – очень откровенны, даже книжный оттенок естественен возрасту теоретического знания и практического невежества. Шиллер остался нашим любимцем[47]47
Поэзия Шиллера не утратила на меня своего влияния; несколько месяцев тому назад я читал моему сыну «Валленштейна», это, гигантское произведение! Тот, кто теряет вкус к Шиллеру, тот или стар или педант, очерствел или забыл себя. Что же сказать о тех скороспелых altkluge Burschen <молодых старичках>, которые так хорошо знают недостатки его в семнадцать лет?..
[Закрыть]; лица его драм были для нас существующие личности, мы их разбирали, любили и ненавидели не как поэтические произведения, а как живых людей. Сверх того, мы в них видели самих себя. Я писал к Нику, несколько озабоченный тем, что он слишком любит Фиеско, что за «всяким» Фиеско стоит свой Веринна. Мой идеал был Карл Моор, но я вскоре изменил ему и перешел в маркиза Позу. На сто ладов придумывал я, как буду говорить с Николаем, как он потом отправит меня в рудники, казнит. Странная вещь, что почти все наши грезы оканчивались Сибирью или казнью и почти никогда – торжеством. Неужели это русский склад фантазии или отражение Петербурга с пятью виселицами и каторжной работой на юном поколении?
Так-то, Огарев, рука в руку входили мы с тобою в жизнь! Шли мы безбоязненно и гордо, не скупясь отвечали всякому призыву, искренно отдавались всякому увлечению. Путь, нами избранный, был не легок, мы его не покидали ни разу; раненые, сломанные, мы шли, и нас никто не обгонял. Я дошел… не до цели, а до того места, где дорога идет под гору, и невольно ищу твоей руки, чтоб вместе выйти, чтоб пожать ее и сказать, грустно улыбаясь: «Вот и все!»
А покамест в скучном досуге, на который меня осудили события, не находя в себе ни сил, ни свежести на новый труд, записываю я наши воспоминания. Много того, что нас так тесно соединяло, осело в этих листах, я их дарю тебе. Для тебя они имеют двойной смысл – смысл надгробных памятников, на которых мы встречаем знакомые имена[48]48
Писано в 1853 году.
[Закрыть].
…А не странно ли подумать, что умей Зонненберг плавать или утони он тогда в Москве-реке, вытащи его не уральский казак, а какой-нибудь апшеронский пехотинец, я бы и не встретился с Ником, или позже, иначе, не в той комнатке нашего старого дома, где мы, тайком куря сигарки, заступали так далеко друг другу в жизнь и черпали друг в друге силу.
Он не забыл его – наш «старый дом».
Старый дом, старый друг! посетил я,
Наконец, в запустенье тебя,
И былое опять воскресил я,
И печально смотрел на тебя.
Двор лежал предо мной неметеный,
Да колодезь валился гнилой,
И в саду не шумел лист зеленый,
Желтый, тлел он на почве сырой.
Дом стоял обветшалый уныло,
Штукатурка обилась кругом,
Туча серая сверху ходила
И все плакала, глядя на дом.
Я вошел. Те же комнаты были,
Здесь ворчал недовольный старик,
Мы беседы его не любили,
Нас страшил его черствый язык.
Вот и комнатка: с другом, бывало,
Здесь мы жили умом и душой,
Много дум золотых возникало
В этой комнатке прежней порой.
В нее звездочка тихо светила,
В ней остались слова на стенах:
Их в то время рука начертила,
Когда юность кипела в душах.
В этой комнате счастье былое,
Дружба светлая выросла там;
А теперь запустенье глухое,
Паутины висят по углам.
И мне страшно вдруг стало. Дрожал я,
На кладбище я будто стоял,
И родных мертвецов вызывал я,
Но из мертвых никто не восстал.