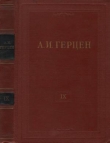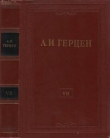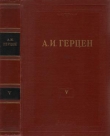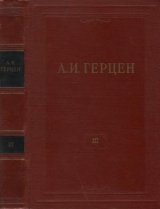
Текст книги "Том 3. Дилетантизм в науке. Письма об изучении природы"
Автор книги: Александр Герцен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 25 страниц)
В следующем письме поговорим о Греции. Эпиграфом к греческому мышлению прекрасно служит известное изречение Протагора: «Человек – мерило всем вещам: в нем определение, почему сущее существует и несущее не существует».
Село Покровское.
Август 1844 г.
Прилагаю к этому письму небольшую статейку Гёте; она писана в 1780 году; лет через двадцать Гёте замечает, что мысли, изложенные в ней, слишком юны; ему, охлажденному летами, не нравился более восторженный язык, необузданность некоторых выражений… Именно эта восторженность заставила меня избрать ее образцом художественного глубокомыслия Гёте: трепет сочувствия к жизни, к живому пробегает по всем строкам, каждое слово дышит любовью к бытию, упоением от него. Судите сами.
«Природа! Окруженные и охваченные ею, мы не можем ни выйти из нее, ни глубже в нее проникнуть. Непрошенная, нежданная, захватывает она нас в вихрь своей пляски и несется с нами, пока, утомленные, мы не выпадаем из рук ее.
Она творит вечно новые образы; что есть в ней, того еще не было; что было, не будет; все ново, – а все только старое. Мы живем посреди ее, но чужды ей. Она вечно говорит с нами, но тайн своих не открывает. Мы постоянно действуем на нее, но нет у нас над нею никакой власти.
Кажется, все основывает она на личности, но ей дела нет до лиц. Она вечно творит и вечно разрушает, но мастерская ее недоступна. Она вся в своих чадах, а сама матерь, где же она? Она единственный художник: из простейшего вещества творит она противоположнейшие произведения, без малейшего усилия, с величайшим совершенством, и на все кладет какое-то нежное покрывало. У каждого ее создания особенная сущность, у каждого явления отдельное понятие, а все едино.
Она дает дивное зрелище: видит ли она его сама, не знаем, но она дает для нас, – а мы, незамеченные, смотрим из-за угла. В ней все живет, совершается, движется, но вперед она не идет. Она вечно меняется, и нет ей ни на мгновение покоя. Что такое остановка – она не ведает, она положила проклятие на всякий покой. Она тверда, шаги ее измерены, уклонения редки, законы непреложны. Она беспрерывно думала и мыслит постоянно – но не как человек, а как природа. У ней свой собственный, всеобъемлющий смысл, но никто его не подметит.
Все люди в ней, и она во всех. Со всеми дружески ведет она игру, и чем больше у ней выигрывают, тем больше она радуется. Со многими так скрытно она играет, что незаметно для них кончается игра.
Даже в неестественном есть природа, на самом грубом филистерстве лежит печать ее гения. Кто не видит ее повсюду, тот нигде не видит ее лицом к лицу. Она любит себя бесчисленными сердцами и бесчисленными очами глядит на себя. Она расчленилась для того, чтоб наслаждаться собою. Ненасытимо стремясь передаться, осуществиться, она производит все новые и новые существа, способные к наслаждению.
Она радуется мечтам. Кто разбивает их в себе или в других, того наказывает она, как страшного злодея. Кто ей доверчиво следует, того она прижимает, как любимое дитя, к сердцу.
Нет числа ее детям. Ко всем она равно щедра; но у нее есть любимцы, которым много она расточает, много приносит в жертву. Великое принимает она под свой покров. Из ничтожества выплескивает она свои создания и не говорит им, откуда они пришли и куда идут. Они должны идти: дорогу знает она.
У ней мало стремлений, но они вечно деятельны, вечно разнообразны.
Зрелище ее вечно ново, ибо она непрестанно творит новых созерцателей. Жизнь – ее лучшее изобретение; смерть для нее средство для большей жизни.
Она окружает человека мраком и гонит его вечно к свету. Она приковывает его к земле и отрывает его снова.
Она дает потребности, ибо любит движение, и с непонятною легкостью возбуждает его. Каждая потребность есть благодеяние, быстро удовлетворяется и быстро опять возникает. Много новых источников наслаждения в лишних потребностях, которые дает она; но все опять приходит в равновесие. Каждое мгновение она употребляет на достижение далекой цели, и каждую минуту она у цели. Она – само тщеславие, но не для нас – для нас она святыня.
Она позволяет всякому ребенку мудрить над собою; каждый глупец может судить о ней; тысячи проходят мимо ее и не видят; всеми она любуется и со всеми ведет свой расчет. Ее законам повинуются даже и тогда, когда им противоречат; даже и тогда действуют согласно с ней, когда хотят действовать против нее. Всякое ее даяние благо, ибо всякое необходимо; она медлит, чтоб к ней стремились; она спешит, чтоб ею не насытились.
У ней нет речей и языка; но она создает тысячи языков и сердец, которыми она говорит и чувствует.
Венец ее – любовь. Любовью только приближаются к ней. Бездны положила она между созданиями, и все создания жаждут слиться в общем объятии. Она разобщила их, чтоб опять соединить. Одним прикосновением уст к чаше любви искупает она целую жизнь страданий.
Она все. Она сама себя и награждает, и наказывает, и радует, и мучит. Она сурова и кротка, любит и ужасает, немощна и всемогуща. Все в ней непрестанно. Она не ведает прошедшего и будущего; настоящее ее – вечность. Она добра. Я славословлю ее со всеми ее делами. Она премудра и тиха. Не вырвешь у ней признания в любви, не выманишь у ней подарка, разве добровольно подарит она. Она хитра, но только для доброй цели, и всего лучше не замечать ее хитрости. Она целостна и вечно недокончена. Как она творит, так может творить вечно.
Каждому является она в особенном виде. Она скрывается под тысячью имен и названий и все одна и та же.
Она ввела меня в жизнь, она и уведет. Я доверяю ей. Пусть она делает со мной что хочет. Она не возненавидит своего творения. Я ничего не сказал о ней. Она уже сказала, что истинно и что ложно. Все ее вина и ее заслуга».
Письмо третье
Греческая философия*
Восток не имел науки; он жил фантазией и никогда не устанавливался настолько, чтоб привести в ясность свою мысль, тем менее развил ее наукообразно; он так расплывался в бесконечную ширь, что не мог дойти до какого-нибудь самоопределения. Восток блестит ярко, особенно издали, но человек тонет и пропадает в этом блеске. Азия – страна дисгармонии, противоречий; она нигде, ни в чем не знает меры, а мера есть главное условие согласного развития. Жизнь восточных народов проходила или в брожении страшных переворотов, или в косном покое однообразного повторения. Восточный человек не понимал своего достоинства; оттого он был или в прахе валяющийся раб, или необузданный деспот; так и мысль его была или слишком скромна, или слишком высокомерна; она – то перехватывала за пределы себя и природы, то, отрекаясь от человеческого достоинства, погружалась в животность. Религиозная и гностическая жизнь азиатцев полна беспокойным метаньем и мертвой тишиною; она колоссальна и ничтожна, бросает взгляды поразительной глубины и ребяческой тупости. Отношение личности к предмету провидится, но неопределенно; содержание восточной мысли состоит из представлений, образов, аллегорий, из самого щепетильного рационализма (как у китайцев) и самой громадной поэзии, в которой фантазия не знает никаких пределов (как у индийцев). Истинной формы Восток никогда не умел дать своей мысли и не мог, потому что он никогда не уразумевал содержания, а только различными образами мечтал о нем. Об естествоведении и думать нечего: его взгляд на природу приводил к грубейшему пантеизму или к совершеннейшему презрению природы. Среди хаоса иносказаний, мифов, чудовищных фантазий блестят по временам яркие мысли, захватывающие душу, и образы чудного изящества; они искупляют многое и надолго держат душу под своими чарами. К числу их принадлежит превосходное место, избранное нами эпиграфом[106]106
В начале всех писем.
[Закрыть]. Его приводит Колебрук из индусских философских книг. Что может быть грациознее этого образа пестрой, страстной баядеры, отдающейся очам зрителя? Она невольно, напоминает иную баядеру, пляшущую и увлекающую Магадеви. Стихи, выписанные нами из Гёте, будто замыкают первый образ; но индийское воззрение до этого не дошло бы: оно остановилось в своем мифе, на том, что определенное, сущее только назначено миновать; оно не увлекло ни Магадеви, ни брамина какого-нибудь – баядера показалась и ушла; у Гёте она исторгнута во всей блестящей красоте своей от гибели; в вечной мысли есть место и временному –
Первый свободный шаг в элементе мышления совершился, когда человек стал на благородную европейскую почву, когда он выдвинулся из Азии: Иония – начало Греции и конец Азии. Лишь только люди устроились на этой новой земле, как начали порывать пеленки, связывавшие их на Востоке; мысль стала сосредоточиваться из фантастической распущенности, искать выхода из смутного стремления самоопределением, самообузданием. В Греции человек ограничивается для того, чтоб развить всю безграничность своего духа, делается определенным для того, чтоб выйти из неопределенного состояния дремоты, в которое повергает человека бесхарактерная многосторонность. Вступая в мир Греции, мы чувствуем, что на нас веет родным воздухом, – это Запад, это Европа. Греки первые начали протрезвляться от азиатского опьянения и первые ясно посмотрели на жизнь, нашлись в ней; они совершенно дома на земле – покойны, светлы, люди. В «Илиаде», в «Одиссее» мы можем узнать знакомое, родственное, а не в «Магабгарате», не в «Саконтале». Мне всякий раз становится тяжко и неловко, когда читаю восточные поэмы: это не та среда, в которой свободно дышит человек; она слишком просторна и в то же время слишком узка; их поэмы – давящие сновидения, после которых человек просыпается, задыхаясь в лихорадочном состоянии, и все еще ему кажется, что он ходит по косому полу, около которого вертятся стены и мелькают чудовищные образы, не несущие ничего утешительного, ничего родного. Чудовищные фантазии восточных произведений были так же противны грекам, как чудовищные размеры каких-нибудь Мемнонов в семьдесят метров ростом; греки никогда не смешивали высокого с огромным, изящного с подавляющим; греки везде побеждали отвлеченную категорию количества – на полях марафонских, в статуях Праксителя, в героях поэм и в светлых образах олимпийцев. Они постигли, что тайна изящного – в высокой соразмерности формы и содержания, внутреннего и внешнего; они поняли, что в природе все развитое блестит не огромностию чрева, а, совсем напротив, сосредоточивается до крайне необходимого соответствия наружного внутреннему; где наружное слишком велико – внутреннее бедно: моря, горы, степи велики, а конь, олень, голубь, райская птичка малы. Мысль высокой, музыкальной, ограниченной и именно потому бесконечной соразмерности – чуть ли не главная мысль Греции, руководившая ее во всем; она-то проявилась в том изящном созвучии всех сторон афинской жизни, которое поражает нас своею художественною прелестью. Идея красоты была для греков безусловною идеею; она снимала в самом деле противоположность духа и тела, формы и содержания, иссекая свои статуи, грек всякий раз иссекал примирительное сочетание тех начал, которые необузданно поддавались распаленной фантазии на Востоке. Мир греческий, в известном очертании, из которого он не мог выйти, не перейдя себя, был чрезвычайно полон; у него в жизни была какая-то слитность, то неуловимое сочетание частей, та гармония их, пред которыми мы склоняемся, созерцая прекрасную женщину; до этой слитности, до этой виртуозности в жизни, науке, учреждениях новый мир не дошел: это тайна, которую он не умел похитить из греческих саркофагов. Есть люди, которым греческая жизнь кажется, именно по соразмерности своей, по родству с природой, по юношеской ясности, плоскою и неудовлетворительною; они пожимают плечами, говоря о веселом Олимпе и его разгульных жителях; они презирают греков за то, что греки наслаждались жизнию в то время, когда надобно было млеть и мучить себя мнимыми страданиями; они не могут забыть, что греки равно поклонялись светлому челу красавицы и циническому поступку гражданина, телесной ловкости атлета и диалектике софиста; они ставят гораздо выше их мрачных египтян, даже персов; об Индии и говорить нечего: с Шлегелевой легкой руки лет двадцать не знали границ индопочитанию. Это ничего не доказывает; вы можете еще таких людей найти, которым вообще все здоровое противно, – такие искаженные организации, которые только неестественное наслаждение считают за истинное; это – дело психической патологии. Для нас, напротив, все величие греческой жизни – в ее простоте, скрывающей глубокое понимание жизни; она спокойно у них течет между двумя крайностями – между погружением в чувственную непосредственность, в которой теряется личность, и потерею действительности во всеобщих отвлечениях. Воззрение греков нам кажется материальным в сравнении с схоластическим дуализмом и с трансцендентальным идеализмом немцев; в сущности, его скорее должно назвать реализмом (в широком смысле слова), и этот реализм у них является прежде всех мудрецов и учений. Вера в предопределение, в судьбу есть вера эмпирии, реализма; она основана на безусловном признании действительности мира, природы, жизни: «то, что есть, не случайно; оно предопределено, оно неминуемо, оно должно быть». Такая вера в судьбу есть с тем вместе вера в событие, в разум внешнего. Мысль (легко освободившаяся от мифов политеизма) с первых шагов должна была дойти до созерцания судьбы законом животворящим, началом (нус) всего сущего, а на этом начале легко воздвигалась вся великая наука их. Мышление греков, никогда не доходившее до последней крайности распадения с природой или существующим, до непримиримого противоречия безусловного с условным, не имело зато в себе ничего судорожного; оно не считало своего дела святотатственным обличением тайны, преступным питанием заповедного, чернокнижием, нечистой связью с темной силою; напротив, оно походило на ясный взгляд проснувшегося человека, который радостно приводит в сознание окружающий мир и с первого шага понимает, что он для того и призван, чтоб понять и возвести в мысль; интерес его бескорыстен, чист, и потому он смел, горд; он не трепещет, как адепт средних веков – этот тать, подсматривающий тайну природы; самые цели их розны: один хочет знать, хочет истины, другой – власти над естеством; для одного природа имеет объективное значение, а другой только того и добивается, чтоб переделать ее, чтоб из камня было золото, чтоб земля была прозрачна. Разумеется, в этом себялюбивом притязании видно свое величие эпохи, и в уродливой форме средневековой алхимии есть сторона, по которой адепт выше грека. Дух не стал еще сам предметом для грека; он еще не довлел себе без природы, и, стало быть, он ее не ставил, а принимал ее как роковое событие; ключ к истине не лежал внутри человека; этим-то ключом и считал себя алхимик. Грек не мог отделаться от внешней необходимости; он нашел средство быть нравственно свободным, признавая ее; этого мало: надобно было самую судьбу превратить в свободу, надобно было все победить разуму; надобно было выстрадать эту победу; но греки не умели страдать; они принимали легко самые тяжелые вопросы. Неоплатоники поняли это и пошли по иному пути; то, чего недоставало греческому воззрению, сделалось началом и точкою отправления, – но уж было поздно. С неоплатоников начался идеализм как господствующее направление, как единое истинное мышление; мысль стала иначе, утратила действительность и реализм истинно греческой философии. Соединение этих сторон, быть может, важнейшая задача грядущей науки[108]108
Излагая главные моменты греческой философии, я следовал лекциям Гегеля об истории древней философии. Все места, цитованные мною из Платона, Аристотеля, взяты оттуда. История древней философии у него отделана до высокого художественного совершенства; кажется, нельзя того же сказать об его истории новой философии: она бедна и местами одностороння, даже пристрастна (напр<имер>, как мало оценен подвиг Канта!). Знакомые с германской философией увидят в самом изложении древней философии некоторые довольно важные отступления от «Лекций об истории философии». Я во многих случаях не хотел повторять чисто абстрактных и пропитанных идеализмом мнений германского философа, тем более что в этих случаях он был неверен себе и платил дань своему веку.
[Закрыть]. Начало знания есть сознательное противоположение себя предмету и стремление снять эту противоположность мыслию. Ионийская философия представляет нам в богатом и широком развитии этот момент. Пробужденное сознание останавливается пред природой и ищет подчинить ее многоразличие единству, чему-нибудь всеобщему, царящему над частным. Это первая потребность человека, когда он просыпается от неопределенных сновидений чувственно-непосредственного воззрения, когда он перестает удовлетворяться фантазиями и, недовольный, жаждет не образов, а понимания; но этого всеобщего единства человек не ищет сначала ни в себе, ни в духовном элементе вообще, а в самом предмете, и притом как сущего, – он еще так привык к непосредственности, что не может разом оторваться от нее. Предмет его знания также непосредственный, данный эмпирией, – природа. Для того, чтоб себя поставить предметом, надобно много прожить мыслию, надобно, между прочим, усомниться в полной действительности природы. Практически, бессознательно человек поступал, как власть имущий над окружающим миром или, лучше, над окружающими его частностями, – отрицал их самобытность; но теоретически, общим образом, сознательно он не совершил еще этого шага. Напротив, у человека есть врожденная вера в эмпиризм и в природу, так, как врожденная вера в мысль; отдаваясь этой вере в физический мир, человек в нем ищет «начала всех вещей», т. е. единства, из которого все проистекает, к которому все стремится, – всеобщее, обнимающее все частности. Откуда было ионийцам взять такую дерзость, чтоб обратиться к груди своей и в ней искать этого начала? Вспомните, что едва Гёте чрез тысячелетие осмелился сделать вопрос: «зерно природы не лежит ли в сердце человека?» – и его не поняли современники! Ионийцы с отроческою простотою в самой природе искали начала; они его искали как сущее между существующим, как высшую вещественность, составляющую основу прочих вещей; их не привыкнувший к отвлечениям ум не мог иначе удовлетворяться, как естественною видимостью начала. Ни знание, ни мышление никогда не начинаются с полной истины, – она их цель; мышление было бы ненужно, если б были готовые истины, – их нет; но развитие истины составляет ее организм, без которого она недействительна. Мышлением истина развивается из бедного, отвлеченного, одностороннего определения до самого полного, конкретного, многостороннего, достигая этой полноты рядом самоопределений, беспрерывно углубляющихся в разум предмета. Первое, начальное определение, самое внешнее, самое неразвитое – зерно, возможность, тесная сосредоточенность, в которой потеряны различия; но с каждым шагом дальнейшего самоопределения истина находит более и более органов для своего идеального бытия; так разум в новорожденном становится действительностью только тогда, когда органы младенца достаточно разовьются, окрепнут, возмужают, когда его мозг сделается способен вынести разум. Но где же в природе, в этом беспрерывном круговороте изменений, в котором двух раз не встретим одни и те же черты, где в ней найти всеобщее начало, по крайней мере, такую сторону ее, которая всего ближе выражала бы мысль единства и покоя в беспокойном многоразличии физического мира? Ничего не могло быть естественнее, как принятие воды за это начало: она не имеет определенной, стоячей формы; она везде, где есть жизнь; она – вечное движение и вечное спокойствие.
Без сомнения, Фалес, признавая началом всему воду, видел в ней более, нежели эту воду, текущую в ручьях. Для него вода не только вещество, отличное от других веществ земли, воздуха, но вообще текучий раствор, в котором все распускается, из которого все образуется; в воде оседает твердое, из нее испаряется легкое; для Фалеса она, вероятно, была и образ мысли, в которой снято и хранится все сущее: только в этом значении, широком, полном мысли, эмпирическая вода как начало получает истинно философский смысл. Вода Фалеса – существующая стихия и вместе с тем мысль – представляет первое мерцание и просвечивание идеи сквозь грубую физическую кору, от которой она еще не освободилась. Это детское провидение единства бытия и мышления, это фетишизм в сфере логики и фетишизм превосходный. Вода – спокойная, глубокая среда вечно деятельная раздвоением (сгущаясь, испаряясь), – вернейший образ понятия, расторгающегося на противоположные определения и служащего связью им. Само собою разумеется, что вода не соответствует тому понятию всеобщей сущности, которое с нею сопрягал Фалес; но здесь не так важно истинное понятие воды, как именно его понятие о воде; из его понятия о воде мы узнаем его понятие о начале. Во время неразвитости мышления, методы, языка, под односторонними определениями кроется несравненно более, нежели сколько лежит в строгом прозаическом смысле высказанных слов. Мы часто будем видеть, как из-за неловкого выражения проглядывает глубокое созерцание, и потому весьма важно усвоить себе смысл, в котором сама система понимала свои начала. Сказать просто: «Фалес считает всему началом воду, а Пифагор – число», не заботясь о том, что для одного представляла вода, а для другого число, значит выдать их за полусумасшедших или за тупоумных. Выражение «глоссология» изменяет им; они более мысли хотят втеснить в образ, ими избранный, нежели он может впитать в себя; но от этого нельзя отрицать или пренебрегать тою стороною их мысли, которая, если не нашла достодолжного выражения, то, наверное, оставила мощный след. Так, в животных низшей организации замечаем мы указания, намеки, так сказать, на те части и органы, которые вполне развиваются только в высших животных; ненужная, повидимому, неразвитость есть непреложное условие будущего совершенства. Каждая школа под своим началом разумела более формально высказанного и потому считала свое начало безусловным, себя в обладании всею истиною – и была отчасти права; напротив, следующее за ней воззрение видит обыкновенно только формально высказанное и стремится снять односторонность, изъявляющую притязание на всеобщность, какой-нибудь новой односторонностью с тем же притязанием; завязывается беспощадная борьба, и нападающий тупо не догадывается, что в самом деле проходящий момент обладал истиною, но в несоответственной форме; недостатки же формы заменял живым духом своим. С своей стороны, проходящий момент также мало понимает, что выталкивающий его имеет права на то во имя той стороны истины, которою он обладает. Эмпирическим носителем ионийской мысли о единстве не была одна вода; она так резко индивидуальна, что не может удовлетворять всем требованиям всеобщего начала. Воздух, как по превосходству безвидный, разреженный был также принимаем некоторыми из ионийцев за начало. Наконец, они сделали попытку совсем оторваться от естественной сущности и перейти в сферу тех отвлечений, которые составляют пропилеи логики; они отрицали прямо конечное в пользу бесконечной основы вроде материи, вещества нынешних физиков; бесконечное Анаксимандра было именно вещество, лишенное всякого качественного определения; таков был первый, полудетский, но твердый шаг науки. Расходящиеся геометрические представления приводятся к единству, единство это ищется в природе, самобытность частного не признается состоятельной пред всеобщим началом, как бы это начало ни было определено; такое подчинение единству и всеобщему – настоящий элемент мышления. Не много дальновидности надобно было иметь, чтоб понять, что против этого единства политеизм не устоит. Судьба Олимпа была решена в ту минуту, как Фалес обратился к природе; отыскивая в ней истину, он, как и другие ионийцы, выразил свое воззрение независимо от языческих представлений. Жрецы поздно выдумали наказывать Анаксагора и Сократа; в элементе, в котором двигались ионийцы, лежал зародыш смерти элевзинских и всех языческих таинств. Кто упрекнет ионийцев в том, что они, принимая за начало эмпирическую стихию, показали недостаточное понятие об элементе мысли, – будет прав; но, с другой стороны, пусть он оценит чисто реальный греческий такт, заставивший их искать свое начало в самой природе, а не вне ее, искать бесконечное в конечном, мысль в бытии, вечное во временном. Почва наукообразная была приобретена ими, сущее начало не могло на ней удержаться; но она была способна к развитию; это была начальная ступень: ступившему на нее раскрывалась целая лестница.
Прежде, нежели мышление перешло от чувственных и сущих определений безусловного к определениям отвлеченно-логическим, оно естественным образом должно было попытаться выразить безусловное промежуточным моментом, найти истину между крайностями сущего и отвлеченного. Эта готовность осуществить всякую возможность принадлежит беспокойному и вечно деятельному характеру жизни, как в историческом мире, так и в физическом; органическое развитие вещества не оставляет втуне ни одной возможности, не призвав ее к жизни. Между чувственными определениями и определениями чисто логическими Пифагор нашел нечто постоянное, связующее их, принадлежащее им обоим, не чувственное и не мысль, – число. Смелость и, следственно, крепость мысли пифагорейской очевидна; все сущее, принимаемое обыкновенно за действительность, опрокинуто, и на место эмпирического существования поднято и признано за истину нечто невещественное, мыслимое, но притом далеко не субъективное, а, так сказать, мыслимое, снимаемое с вещественного. «Пифагорейцы, – говорит Аристотель, – принимали устройство вселенной за согласную систему чисел и их отношений». Они исторгли постоянное отношение из вечной переменяемости феноменального бытия, и оно в самом деле царит над всем сущим. Математическое миросозерцание, основанное пифагорейцами и получившее богатое развитие в новейшие времена, потому и сохранилось чрез все века, что в нем есть сторона глубоко истинная; математика стоит между логикой и эмпирией, в ней уже признана объективность мысли и логичность события; ее враждебное отношение к философии формально не имеет никакого основания. Само собою разумеется, что отношение предметов, моментов, фаз, гармонические законы, их связующие, ряды, которыми они развиваются, не исчерпывают всего содержания ни природы, ни мысли. Пифагорейцы не замечали, что под числом разумели несравненно более, нежели сколько лежало в понятии числа; они не замечали, что в числе остается нечто мертвое, бесстрастное, пренебрегающее конкретным содержанием, равнодушная мера. Для них порядок, согласие, гармоническое числовое сочетание удовлетворяли всем требованиям, но удовлетворяли потому, что они, собственно, не останавливались на чисто математических определениях; гениальность учителя и пламенная фантазия учеников привносили всю полноту содержания, недостававшего началам. Это иллогическое дополнение мы постоянно будем встречать во всей греческой философии; это, так сказать, перехватывающая субъективность гения греков, а с другой стороны – неспособность их к чистым отвлечениям. На этой неотрешимости греков от реализма и на провидении истины более, нежели на сознании, основана полнота распадения личности с природой в древнем мире. Число, оставленное само на себя, не могло удержаться на той высоте, на которую его поставили пифагорейцы: «оно не носило в себе начала самодвижения», как заметил Аристотель. Но для них единица была не только арифметическая единица, первый член, ключ, ряд, мера, – для них она была, вместе с тем, безусловным единством, могуществом и возможностию самораздвоения, животворящей монадой, гермафродитом, в себе хранящим свое раздвоение и не теряющим своего единства при развитии в многоразличие. Они были так проникнуты порядком, согласием, гармониею, числовым сочетанием, вездесущим ритмом, что для них вселенная представлялась статико-музыкальным целым. И кто откажет в величии их представлению десяти небесных сфер, расположенных по строгому порядку, не только в известном отношении к величине и скорости, но и в музыкальном отношении; ринутые в свое вечное движение, обтекая орбиты свои, они издают согласные звуки, сливающиеся в один величественный вселенский хорал. Повидимому, удаленное от всего поэтического, воззрение математики очень близко ко всему фантастическому и мистическому. Безумнейшие мистики всех веков опирались на Пифагора и создавали свою науку чисел; в математическом воззрении есть что-то сумрачно величавое, аскетическое, плотоумерщвляющее: оно-то вместо реальных страстей и располагает фантазию к астрологии, каббалистике и проч.
Еще шаг мысли по этому пути обобщения – и она должна была порвать последние путы и явиться в своей области, т. е. оторваться не токмо от чувственного, от числового, но и вообще от всякого действительного определения, – пожертвовать полнотою многоразличия отвлеченному единству всеобщего. Такой шаг, с одной стороны, освобождает мысль от всего, ограничивающего ее, с другой – ведет к величайшим отвлеченностям, в которых все пропадает, в которых потому и свободно, что пусто. Отрешать предмет от односторонности реальных определений значит с тем вместе делать его неопределенным; чем общéе сфера, тем она кажется ближе к истине, тем более устранено усложняющих односторонностей, – на самом деле не так: сдирая плеву за плевой, человек думает дойти до зерна, а между тем, сняв последнюю, он видит, что предмет совсем исчез; у него ничего не остается, кроме сознания, что это не ничего, а результат снятия определений. Очевидно, что таким путем до истины не дойдешь. По несчастию, этой очевидности не хотели видеть; напротив, обобщая категории, очищая предмет от всех его определений, качественных и количественных, с торжеством останавливаются на отвлеченнейшем признании тождества его с собою, и призрак чистого бытия принимают за истину действительно сущего; чистое бытие становится вроде духа, улетевшего из усопшего и витающего над трупом без силы его оживить. Для логического процесса, для феноменологического движения мысли не может быть лучшего предположения, лучшей точки отправления, как чистое бытие, – начало не может быть ни определенным, ни имеющим посредства: чистое бытие – именно неопределенная непосредственность, – наконец, в начале не может быть действительной истины, а одна возможность ее. Дайте какое хотите определение, какое хотите развитие чистому бытию, – оно сделается бытием определенным, действительным и изменит характеру начала, возможности. Чистое бытие – пропасть, в которой потонули все определения действительного бытия (а между тем они-то одни и существуют), – не что иное, как логическая абстракция, так, как точка, линия – математические абстракции; в начале логического процесса оно столько же бытие, сколько небытие. Но не надобно думать, что бытие определенное возникает в самом деле из чистого бытия, – разве из понятия рода возникает существующий индивид? Мысль начинает с этих абстракций, и движение ее необходимо обличает отвлеченность их и отказывается от них всем дальнейшим движением. Мысль в начале логического процесса – именно способность отвлеченного обобщения; конечное и определенное достигает в мысли бесконечности, неопределенной сначала, но определяющейся целым рядом форм, которые, наконец, получают полную определительность и таким образом замыкают бесконечное и конечное сознательным единством.