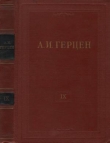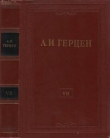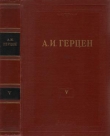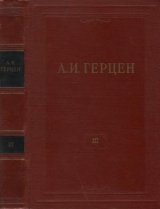
Текст книги "Том 3. Дилетантизм в науке. Письма об изучении природы"
Автор книги: Александр Герцен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 25 страниц)
Но не будем забегать в будущее и возвратимся. Философы Германии как-то провидели, что деяние, а не наука – цель человека. Это была часто гениальная пророческая непоследовательность, насильно врывавшаяся в бесстрастные и суровые логические построения. Сам Гегель более намекнул, нежели развил мысль о деянии. Это дело не его эпохи, – дело эпохи, им порожденной. Гегель, раскрывая области духа, говорит о искусстве, науке и забывает практическую деятельность, вплетенную во все события истории. Но ряд мыслителей Германии, замыкающийся Гегелем, не должно ставить на одну доску с настоящими формалистами. Они не имели иных требований, кроме потребности вéдения, но это было своевременно; они труженически разработали для человечества путь науки; для них примирение в науке было наградой; они имели право, по историческому месту своему, удовлетвориться во всеобщем; они были призваны свидетельствовать миру о совершившемся самопознании и указать путь к нему: в этом состояло их деяние. Мы совсем не в том положении; для нас жизнь в отвлеченно-всеобщих сферах – несвоевременность, личная охота. Всякая восходящая сфера имеет притязание на исключительное господство и безусловное значение; вера в него – главнейшее условие успеха, но дальнейшее развитие во времени необходимо переходит мнимо безусловную сферу, и эта необходимость перехода гораздо с большей справедливостью может казаться безусловной. Гегель чрезвычайно глубокомысленно сказал: «Понять то, что есть – задача философии, ибо то, что есть – разум. Как всякая личность – произведение своего времени, так философия есть в мыслях схваченная эпоха; нелепо предположить, что какая-нибудь философия переходила свой современный мир»[52]52
«Philos, des Rechts», Vorrede. Курсивом напечатанное подчеркнуто в тексте.
[Закрыть]. Задача реформационного мира была понять, но понятием не замыкается воля. Философы забыли о положительной деятельности. Беды в этом не было. Практические сферы вовсе не лишены языка; они заявили свой голос, когда время пришло. Оно пришло быстро; человечество несется теперь, как по железной дороге. Годы – века. Едва прошло десять лет после смерти Гёте и Гегеля, величайших представителей искусства и науки, как самый Шеллинг, увлеченный новым направлением, стал делать совершенно иные требования, нежели с которыми явился проповедовать науку в начале XIX века. Ренегатство Шеллинга – во всяком случае событие важное и многозначительное. Шеллинг более обладает поэтическим созерцанием, чем диалектикой, и именно как vates[53]53
поэт (лат.). – Ред.
[Закрыть] он испугался океана всеобщего, готовившегося поглотить весь поток умственной деятельности; он пошел вспять, не сладивши с последствиями своих начал, и вышел из современности, указывая на больное место. Во всей германской атмосфере носятся новые вопросы о жизни и науке, это – очевидный факт в журналистике, в изящных произведениях, в книгах. Забытая в науке личность потребовала своих прав, потребовала жизни, трепещущей страстями и удовлетворяющейся одним творческим, свободным деянием. После отрицания, совершенного в сфере мышления, она захотела отрицаний в других сферах: необходимость личности обличилась. Человек требует ее, а наука, взявшая все, признает это право; она не удерживает, она благословляет в жизнь личную, в жизнь свободного деяния во имя абсолютной безличности.
Да, наука есть царство безличности, успокоенное от страстей, почившее в величавом самопознании, озаренное всепроникающим светом разума – царство идеи. Не мертвое, не остылое, как труп, но покойное в самом движении своем, как океан. В науке сонм олимпийцев, а не люди; матери, к которым ходил Фауст. В науке истина, облеченная не в вещественное тело, а в логический организм, живая архитектоникой диалектического развития, а не эпопеей временного бытия; в ней закон – мысль исторгнутая, спасенная от бурь существования, от возмущений внешних и случайных; в ней раздается симфония сфер небесных, и каждый звук ее имеет в себе вечность, потому что в нем была необходимость, потому что случайный стон временного не достигает так высоко. Мы согласны с формалистами: наука выше жизни, но в этой высоте свидетельство ее односторонности; конкретно истинное не может быть ни выше, ни ниже жизни, оно должно быть в самом средоточии ее, как сердце в средине организма. Оттого, что наука выше жизни, ее область отвлеченна, ее полнота не полна. Живая целость состоит не из всеобщего, снявшего частное, но из всеобщего и частного, взаимно друг в друга стремящихся и друг от друга отторгающихся; ее нет ни в каком моменте, ибо все моменты – ее; как бы ни казались самобытны и исчерпывающи иные определения, они тают от огня жизни и вливаются, теряя односторонность свою, в широкий, всепоглощающий поток… Разум сущий прояснил для себя в науке, свел свои счеты с прошедшим и настоящим, – но осуществиться будущему надобно не в одной всеобщей сфере. В ней будущности, собственно, нет, потому что она предузнана как неминуемое логическое последствие, но такое осуществление бедно своей отвлеченностью; мысль должна принять плоть, сойти на торжище жизни, раскрыться со всею роскошью и красотой временного бытия, без которого нет животрепещущего, страстного, увлекательного деяния.
Наука не только сознала свою самозаконность, но себя сознала законом мира; переводя его в мысль, она отреклась от него как от сущего, улетучила его своим отрицанием, против дыхания которого ничто фактическое не состоятельно. Наука разрушает в области положительно сущего и созидает в области логики – таково ее призвание. Но человек призван не в одну логику – а еще в мир социально-исторический, нравственно свободный и положительно-деятельный; у него не одна способность отрешающегося пониманья, но и воля, которую можно назвать разумом положительным, разумом творящим; человек не может отказаться от участия в человеческом деянии, совершающемся около него; он должен действовать в своем месте, в своем времени – в этом его всемирное призвание, это его conditio sine qua non. Личность, выходящая из науки, не принадлежит более ни частной жизни исключительно, ни исключительно всеобщим сферам; в ней сочетались частное и общее в единичности гражданского лица. Примирившись в науке – она жаждет примирения в жизни; но для этого надобно творчески одействотворить нравственную волю во всех практических сферах.
Вина буддистов состоит в том, что они не чувствуют потребности этого выхода в жизнь – действительного осуществления идеи. Они примирение науки принимают за всяческое примирение, не за повод к действованию, а за совершенное, замкнутое удовлетворение. А там хоть трава не расти за переплетом книги. Они всё снесут за пустоту всеобщности. Буддисты индийские стремятся ценою бытия купить свободу в Будде. Будда для них – именно отвлеченная бесконечность, ничего. Наука покорила человеку мир, больше – покорила историю не для того, чтоб он мог отдыхать Всеобщность, удерживаемая в своей отвлеченности, всегда ведет к сонному уничтожению деятельности – таков индийский квиетизм. – Гранитный мир событий, подвергаясь огненной струе отрицания, не имеет силы противостоять и низвергается растопленной каскадой в океан науки. Но человек должен переплыть океан для того, чтоб снова начать действование в ином свете, в обетованной Атлантиде. Начать не инстинктом, не по внешним наталкиваниям, не с скорбным метаньем во все стороны, не с темным предчувствием, а с полной нравственной свободой. Человек не может примириться, пока все окружающее не приведено в согласие с ним. Формалисты довольствуются тем, что выплыли в море, качаются на поверхности его, не плывут никуда, и оканчивают тем, что обхватываются льдом, не замечая того; наружно для них те же стремящиеся прозрачные волны – но в самом деле это мертвый лед, укравший очертания движения, живая струя замерла сталактитом, все окоченело. Формалисты сами приняли характер льда и нанесли ужасный вред науке, говоря ее языком и высказывая безжалостные приговоры свои, от которых веет полярной стужей; весь блеск их речи – блеск льда, водяной, мертвый, по которому луч солнца скользит, но не греет, который скорее уничтожится, нежели примет теплоту. Слушавшие содрогнулись, заметив отсутствие любви у большой части берлинских и иных корифеев формализма, этих талмудистов новой науки. Взяв одни буквы, одни слова, они ими заглушили всякое сострадание, всякое теплое сочувствие. Они намеренно, с усилиями поднялись на точку равнодушия ко всему человеческому, считая ее за истинную высоту; им не всегда надобно верить, что они без сердца, – они часто прикидываются такими (нового рода captatio benevolentiae[55]55
погоня за расположением (лат.). – Ред.
[Закрыть]). Формальные разрешения принимаются ими всегда и везде за действительные. Им казалось, что личность – дурная привычка, от которой пора отстать; они проповедовали примирение со всей темной стороной современной жизни, называя все случайное, ежедневное, отжившее, словом, все, что ни встретится на улице, действительным и, следственно, имеющим право на признание; так поняли они великую мысль, «что все действительное разумно»; они всякий благородный порыв клеймили названием Schönseeligkeit[56]56
прекраснодушие (нем.). – Ред.
[Закрыть], не усвоив себе смысла, в котором слово это употреблено их учителем[57]57
«Есть более полный мир с действительностию, доставляемый познанием ее, нежели отчаянное сознание, что временное дурно или неудовлетворительно, но что с ним следует примириться, потому что оно лучше не может быть». «Philos. des Rechts».
[Закрыть]. Если присовокупим к этим результатам напыщенный и нелепый язык, надменность ограниченности, то отдадим справедливость верному такту общества, смотревшего с недоверием на этих фигляров науки. Гегель где только мог просил, умолял опасаться формализма[58]58
Например, во всем предисловии в «Феноменологии».
[Закрыть], доказывал, что самое истинное определение, взятое в его завинченности, буквальности, доведет до бед, бранился наконец, – ничего не помогало. Они его-то фразы и свинтили, его-то и поняли буквально. Они не могут привыкнуть к вечному движению истины, не могут раз навсегда признать, что всякое положение отрицается в пользу высшего и что только в преемственной последовательности этих положений, борений и снятий проторгается живая истина, что это ее змеиные шкуры, из которых она выходит свободнее и свободнее. Они (несмотря на то, что толкуют о чем-то подобном) не могут привыкнуть, что в развитии науки не на что опереться, что одно спасение в быстром, стремительном движении. Они цепляются за каждый момент как за истину; какое-нибудь одностороннее определение принимают за все определения предмета; им надобно сентенции, готовые правила; пробравшись до станции, они – смешно доверчивые – полагают всякий раз, что достигли абсолютной цели и располагаются отдыхать. Они строго держатся текста – и оттого не могут усвоить себе его. Мало понимать то, что сказано, что написано; надобно понимать то, что светится в глазах, что веет между строк, надобно так усвоить себе книгу, чтоб выйти из нее. Так понимает живущий науку; пониманье есть обличение однородности, которая предсуществует. Наука живому передается жизненно, формалисту – формально. Посмотрите на Фауста и его фамулуса: Фаусту наука – жизненный вопрос «быть или не быть»; он может глубоко падать, унывать, впадать в ошибки, искать всяких наслаждений, но его натура глубоко проникает за кору внешности, его ложь имеет более истины в себе, нежели плоская, непогрешительная правда Вагнера. Трудное Фаусту легко Вагнеру. Вагнер удивляется, как Фауст не понимает простых вещей. Надо иметь много ума, чтоб не понять иного. Вагнера наука не мучит, напротив – утешает, успокоивает, отраду в скорби подает. Он покой свой купил на медные гроши, оттого, что он не беспокоился собственно никогда. Где он видел единство, примирение, разрешение и улыбался, там Фауст видел расторжение, ненависть, усложнившийся вопрос – и страдал.
Каждый занимающийся проходит через формализм, это один из моментов становленья; но имеющий живую душу проходит, а формалист остается; для одного формализм ступень, для другого цель. Так природа, достигая совершения своего в человеке, останавливается на каждой попытке, увековечивая ее родом, вечно свидетельствующим о пройденном моменте, который для него высшая, единая форма бытия. Но ни природа, ни наука не могли удовлетвориться, не дойдя до последних следствий, заключенных в их понятии. Природа перешла себя в человеке или наступила себе на грудь. Наука нынче представляет то же зрелище: она достигла высшего призвания своего; она явилась солнцем всеосвещающим, разумом факта и, следственно, оправданием его; но она не остановилась, не села отдыхать на троне своего величия; она перешла свою высшую точку и указывает путь из себя в жизнь практическую, сознаваясь, что в ней не весь дух человеческий исчерпан, хотя и весь понят. Она этим погружением в жизнь не потеряет своего трона; однажды побежденное в этих сферах – побеждено навеки; но и человек не потеряет в ней остальных обителей жизни. Правоверные буддисты больше самой науки за науку, они решились умереть, защищая единодержавное владычество ее над жизнию. «Наука есть наука, и единый путь ее – абстракция», это стих их Корана. Они на все отвечают громкими словами, и вместо того, чтоб наполнить в самом деле пропасти, делящие сферы отвлеченные от действительных, противоречия в жизни и мышлении, прикрывают их легкими тканями искусственной диалектической фиоритуры. Растягивать все сущее на одр формализма не трудно для тех, кто не внемлет никакому протесту со стороны сущего. Профаны дивятся иногда, как самые странные факты, чрезвычайные явления легко покоряются у формалистов общим законам, – дивятся – а между тем чувствуют, что при этом сделан какой-то фокус – изумительный, но неприятный для того, кто ищет добросовестного и дельного ответа. Формалистов, с грехом пополам, можно оправдать только тем, что они себя первых обманывают своими фокусами. Вольтер рассказывает, как доктор уверял зрячего, что он слеп, доказывая ему, что неразумный факт его зрения нисколько не противоречит его выводу и что он все-таки принимает его за слепого. Так новые буддисты разговаривали с германцами до тех пор, пока, несмотря на всю тихую и добрую натуру свою, немцы догадались, в чем дело. А дело в том, что факты им и не покоряются вовсе. Они, как китайский император, считают себя владетелями всего земного шара, что однакож не мешает всему земному шару, за исключением Китая, вовсе не зависеть от него.
Дилетанты, находящиеся вне науки, могут иногда образумиться и в самом деле заняться наукой, по крайней мере могут оставаться в подозрении, что с ними случится такой переворот. Формалистов в этом никак заподозрить нельзя: они удовлетворились, покойны, дальше идти не могут, они не знают и не могут себе представить, что есть дальше. Неизлечимо отчаянное положение их состоит в этом чрезвычайном довольстве; они со всем примирились; их взгляд выражает спокойствие немного стеклянное, но не возмущаемое изнутри; им осталось почивать и наслаждаться, прочее все сделано или сделается само собою. Им удивительно, о чем люди хлопочут, когда все объяснено, сознано и человечество достигло абсолютной формы бытия[59]59
Это не выдумка, а сказано в Байергофферовой «Истории философии» («Die Idee und Geschichte der Philosophie» von Bayerhoffer. Leipzig, 1838. Последняя глава).
[Закрыть], что доказано ясно тем, что современная философия есть абсолютная философия, а наука всегда является тожественною эпохе – но как ее результат, т. е. по совершении в бытии. Для них такое доказательство неопровержимо. Фактами их не смутишь – они пренебрегают ими. Спросите их, отчего при этой абсолютной форме бытия в Манчестере и Бирмингаме работники мрут в голоду или прокармливаются настолько, насколько нужно, чтоб они не потеряли сил. Они скажут, что это случайность. Спросите их, как они слово абсолютное привязывают к развивающимся событиям, к сферам, которые своим движением вперед доказывают свою неабсолютность. «Да так сказано в таком-то и таком-то параграфе». Для них и это доказательство, а в каком смысле принято слово в этих параграфах – об этом нечего и хлопотать. Раскрыть глаза формалистов трудно; они решительно, как буддисты, мертвое уничтожение в бесконечном считают свободой и целью – и чем выше поднимаются в морозные сферы отвлечений, отрываясь от всего живого, тем покойнее себя чувствуют. Так эгоисты доставляют себе своего рода спокойное счастие, заглушая все человеческие чувства, удаляя от себя все неприятное, огорчительное. Но для эгоизма, как для формализма, надобно родиться. Всякий может отвернуться от картины страданий, но не всякий перестает стонать от этого. Гегель (под фирмою которого идут все нелепости формалистов нашего времени, так, как под фирмой Фарина продается одеколон, делаемый на всех точках нашей планеты) вот как говорит о формализме[60]60
«Phenomenologie», Vorrede.
[Закрыть]: «Нынче главный труд состоит не в том, чтоб очистить от чувственной непосредственности лицо и развить его в мыслящую сущность, но более в противоположном, в одействотворении всеобщего чрез снятие отверделых, определенных мыслей. Но гораздо труднее сделать текучими твердые мысли, нежели чувственную вещественность…» Формализм принимает отвлеченную всеобщность за безусловное; он уверяет, что быть не удовлетворенным ею – доказывает неспособность подняться на безусловную точку зрения и держаться на высоте ее. Он все приписывает всеобщей идее в ее недействительной форме и принимает за спекулятивность бросанье и низверженье всего в пропасть этой страшной пустоты. Рассматривание чего-либо сущего в безусловном сводится на то, что в нем все одинаково, и безусловное делается таким образом ночью, в которой все коровы черные. Если некогда людям показалось возмутительно принять безусловное за субстанцию, то долею основа этого отвращения лежала в инстинктуальном прозрении, что самопознание потеряно, а не сохранено в субстанции; обратное воззрение, останавливающее мышление как мышление, всеобщее как таковое, есть опять безразличная, неподвижная субстанциальность. Даже если мышление соединяет бытие субстанции с собою и непосредственное воззрение (das Anschauen) постигает как мышление, то и тут все зависит от того, не впадает ли это умозрение в ленивое однообразие и не представится ли действительность недействительным образом. В философии права Гегель говорит: «Между самопознанием и действительностию всего чаще становится отвлеченность, не освободившаяся в понятие». Читая эти и подобные места, с изумлением спрашиваешь, как добрые люди всю жизнь читают Гегеля и не понимают. Человек читает книгу, но понимает собственно то, что в его голове. Это знал тот китайский император, который, учившись у миссионера математике, после всякого урока благодарил, что он напомнил ему забытые истины, которые он не мог не знать, будучи par métier[61]61
по должности (франц.). – Ред.
[Закрыть] всезнающим сыном неба. В самом деле так. Читая Гегеля, только то понимают, что он напоминает, то, что неразвито предсуществовало чтению. Дело книги, собственно, акушерское дело – способствовать, облегчить рождение, но чтó родится, за это акушер не отвечает. Не надобно, впрочем, думать, чтоб Гегель сам не впадал много раз в немецкую болезнь, состоящую в признании ведения последней целью всемирной истории. Он это где-то прямо сказал[62]62
Помнится, в «Истории философии».
[Закрыть]. Мы говорили в третьей статье о том, что Гегель часто непоследователен своим началам. Никто не может стать выше своего времени. В нем наука имела величайшего, представителя; доведя ее до крайней точки – он нанес ее могуществу как исключительному, может, нехотя, сильный удар, ибо каждый шаг вперед долженствовал быть шагом в практические сферы. Ему лично довлело знание, и потому он не сделал этого шага. Наука была для германореформационного мира то, что искусство для эллинского. Но ни искусство, ни наука в своей исключительности не могли служить полным успокоением и ответом на все требования. Искусство представило, наука поняла. Новый век требует совершить понятое в действительном мире событий. Гениальная натура Гегеля беспрерывно порывала путы, накладываемые духом времени, воспитанием, привычкой, образом жизни, званием профессора. Посмотрите, как торжественно развертывается у него философия права; не фразу, не выражение намерены мы указать, а внутреннюю настоящую мысль, душу книги. Области отвлеченного права разрешаются, снимаются миром нравственности, царством норм, правом, просветленным для себя. Но Гегель этим не оканчивает, а устремляется с высоты идеи права в поток всемирной истории, в океан истории. Наука права совершается, венчается, выходит из себя. Процесс развития личности тот же самый. Мутные индивидуальности, вырабатываясь из естественной непосредственности, туманом поднимаются в сферу всеобщего и, просветленные солнцем идеи, разрешаются в бесконечной лазури всеобщего; но они не уничтожаются в ней; приняв в себя всеобщее, они низвергаются благодатным дождем, чистыми кристальными каплями на прежнюю землю. Все величие возвращенной личности состоит в том, что она сохранила оба мира, что она род и неделимое вместе, что она стала тем, чем родилась, или, лучше, к чему родилась – сознательною связью обоих миров, что она постигла свою всеобщность и сохранила единичность. Развитая таким образом личность самое вéдение принимает за непосредственность высшего порядка, а не за совершение судеб. Возвращение есть диалектическое движение столь же необходимое, как восхождение. Пребывание во всеобщем – покой, т. е. смерть; жизнь идеи есть «вакхическое опьянение, в которое все увлечено, беспрерывное возникновение и уничтожение, никогда не останавливающееся и спокойное только в этом движении». Еще раз, всеобщее не есть полная истина, а одна фаза ее, в которой частное распустилось, а процесс перехода уже совершился. Всеобщее представляет довременный или послевременный покой, но идея не может пребывать в покое, она сама собою выходит из области всеобщего в жизнь.
Полное trio, согласное и величественное, звучит только во всемирной истории, только в ней живет идея полнотою жизни; вне ее – отвлеченности, стремящиеся к полноте, алкающие друг друга. Непосредственность и мысль – два отрицания, разрешающиеся в деянии истории. Единое для того расторгнулось в противуположное, чтоб соединиться в истории. Природа и логика сняты и осуществлены ею. В природе все частно, индивидуально, врозь суще, едва обнято вещественною связью; в природе идея существует телесно, бессознательно, подчиненная закону необходимости и влечениям темным, не снятым свободным разумением. В науке совсем напротив: идея существует в логическом организме, все частное заморено, все проникнуто светом сознания, скрытая мысль, волнующая и приводящая в движение природу, освобождаясь от физического бытия развитием его, становится открытой мыслию науки. Как бы полна ни была наука, ее полнота отвлеченна, ее положение относительно природы отрицательно; она это знала со времен Декарта, ясно противопоставившего мышление факту, дух – природе. Природа и наука – два выгнутые зеркала, вечно отражающие друг друга; фокус, точку пересечения и сосредоточенности между оконченными мирами природы и логики, составляет личность человека. Природа, собираясь на каждой точке, углубляясь более и более, оканчивает человеческим я; в нем она достигла своей цели. Личность человека, противопоставляя себя природе, борясь с естественною непосредственностью, развертывает в себе родовое, вечное, всеобщее, разум. Совершение этого развития – цель науки. Вся прошедшая жизнь человечества, сознательно и бессознательно, имела идеалом стремление достигнуть разумного самопознания и поднятия воли человеческой к воле божественной; во все времена человечество стремилось к нравственно благому, свободному деянию. Такого деяния в истории не было и не могло быть. Ему должна была предшествовать наука; без вéдения, без полного сознания нет истинно свободного деяния; но полного сознания в прошедшей жизни человеческой не было. Наука, приводя к нему, оправдывает историю и с тем вместе отрекается от нее; истинное деяние не требует для своего оправдания предыдущего события; история для него почва, непосредственность; все предшествующее необходимо в генезическом смысле, но самобытность и самоозаконение грядущее столько же будет иметь в себе, как в истории. Грядущее отнесется к былому, как совершеннолетний сын к отцу; для того, чтоб родиться, для того, чтоб сделаться человеком, ему нужен воспитатель, ему нужен отец; но, ставши человеком, связь с отцом меняется – делается выше, полнее любовью, свободнее. Лессинг назвал развитие человечества воспитанием – выражение неверное, если взять его безусловно, но в известных пределах оно удачно. В самом деле, человечество доселе имеет ясные признаки несовершеннолетия; оно мало-помалу воспитывается в сознание. Единство этой педагогии теряется для неглубокого взгляда за пышностию и многообразием, за роскошью творчества, за преизбытком форм и сил, повидимому, ненужных и противоборствующих. Но таков инстинктуальный путь развития естественного, бессознательного к сознанию, к себяобладанию. Обратимся к природе: неясная для себя, мучимая и томимая этой неясностью, стремясь к цели ей неизвестной, но которая с тем вместе есть причина ее волнения, – она тысячью формами домогается до сознания, одействотворяет все возможности, бросается во все стороны, толкается во все ворота, творя бесчисленные вариации на одну тему. В этом поэзия жизни, в этом свидетельство внутреннего богатства. Каждая степень развития в природе есть вместе и цель, относительная истина; она – звено в цепи, но кольцо для себя. Влекомая непонятной, великой тоской, природа возвышается от формы в форму; но, переходя в высшее, она упорно держится в прежней форме и развивает ее до последней крайности, как будто все спасение в этой форме. И в самом деле, достигнутая форма – великая победа, торжество и радость; она всякий раз – высшее, что есть. Природа выступает из нее во все стороны[63]63
Великая мысль Бюффона: «La nature ne fait jamais un pas qui ne soit en tous sens». <Природа не делает ни одного шага, который не был бы направлен во все стороны (франц.)>.
[Закрыть]. Оттого так тщетно искали вытянуть все произведения ее в мертвую прямолинейность; у ней нет правильной табели о рангах. Произведения природы не составляют одну лестницу; нет – они представляют лестницу и то, что идет по лестнице; каждая ступень – вместе и средство, и цель, и причина. Idemque rerum naturae opus et rerum ipsa natura[64]64
Создание природы вещей и сама природа вещей – одно и то же (лат.). – Ред.
[Закрыть], как сказал Плиний. История человечества – продолжение истории природы; многообразие, разнородность, встречаемые в истории, поразительны: область стала шире, вопрос выше, средства богаче, задняя мысль яснее – как же не усложниться путям? Развитие с каждым шагом становится глубже и с тем вместе сложнее; всего проще камень, спокойно отдыхающий на начальных ступенях. Где начинается сознание, там начинается нравственная свобода; каждая личность одействотворяет по-своему призвание, оставляя печать своей индивидуальности на событиях. Народы – эти колоссальные действующие лица всемирной драмы – исполняют дело всего человечества, как свое дело, придавая тем художническую оконченность и жизненную полноту деяниям. Народы представляли бы нечто жалкое, если б они свою жизнь считали только одной ступенью <к> неизвестному будущему; они были бы похожи на носильщиков, которым одна тяжесть ноши и труд пути, а руно несомое – другим. Природа не поступает так с своими бессознательными детьми – как мы заметили; тем более в мире сознания не может быть степени, которая не имела бы собственного удовлетворения. Но дух человечества, нося в глубине своей непреложную цель, вечное домогательство полного развития, не мог успокоиться ни в одной из былых форм; в этом тайна его трансценденции, его перехватывающей личности (übergreifende Subjectivität). Не забудем однако, что каждая из былых форм имела содержанием его, и не было духу иной формы, как той, за грани которой он перешел, только потому, что он дорос до нее, был ею и перерос ее. История деяния духа – так сказать, личность его, ибо «он есть то, что делает»[65]65
«Philos. des Rechts»
[Закрыть] – стремление безусловного примирения, осуществление всего, что есть за душою, освобождение от естественных и искусственных пут. Каждый шаг в истории, поглощая и осуществляя весь дух своего времени, имеет свою полноту – одним словом – личность, кипящую жизнию. Народы, ощущая призвание выступить на всемирно-историческое поприще, услышав глас, возвещавший, что час их настал, проникались огнем вдохновения, оживали двойною жизнию, являли силы, которые никто не смел бы предполагать в них и которые они сами не подозревали; степи и леса обстроивались весями, науки и художества расцветали, гигантские труды совершались для того, чтоб приготовить караван-сарай грядущей идее, а она – величественный поток – текла далее и далее, захваты вая более и более пространства. Но эти караван-сараи – не внешние гостиницы идеи, а ее плоть, без которой она не могла бы осуществиться, – чрево матери, принявшее прошедшее для будущего, но и живое своею жизнию; каждая фаза исторического развития имела сама в себе цель и, следственно, награду и удовлетворение. Для греческого мира его призвание было безусловно; за пределами своего мира он ничего не видал и не мог видеть, ибо тогда не было еще будущего. Будущее – возможность, а не действительность: его, собственно, нет. Идеал для всякой эпохи – она сама, очищенная от случайности, преображенное созерцание настоящего. Разумеется, чем всеобъемлемее и полнее настоящее, тем всемирнее и истиннее его идеал. Такова наша эпоха. Народы, грядя на совершение судеб человечества, не знали аккорда, связывавшего их звуки в единую симфонию; Августин на развалинах древнего мира возвестил высокую мысль о веси господней, к построению которой идет человечество, и указал вдали торжественную субботу успокоения. Это было поэтико-религиозное начало философии истории; оно очевидно лежало в христианстве, но долго не понимали его; не более, как век тому назад, человечество подумало и в самом деле стало спрашивать отчета в своей жизни, провидя, что оно недаром идет и что биография его имеет глубокий и единый всесвязывающий смысл. Этим совершеннолетним вопросом оно указало, что воспитание окончивается. Наука взялась отвечать на него; едва она высказала ответ, явилась у людей потребность выхода из науки – второй признак совершеннолетия. Но для того, чтоб своими руками растворить двери, наука должна совершить во всей полноте свое призвание; пока хоть одна твердая точка остается не покоренною самопознанием – внешнее будет противодействовать. Число неподвижных звезд становится менее и менее, но они еще есть. Воспитание предполагает внесущую, готовую истину; с того мгновения, как человек поймет истину, она будет у него в груди, и тогда дело воспитания исчерпано – дело сознательного деяния начнется. Из врат храма науки человечество выйдет с гордым и поднятым челом, вдохновенное сознанием: omnia sua secum portans[66]66
все свое неся с собой (лат.). – Ред.
[Закрыть] – на творческое создание веси божией. Примирение науки вéдением сняло противоречия. Примирение в жизни снимет их блаженством[67]67
При этом невольно вспомнилась великая мысль Спинозы: «Beatitudo non est virtutis praemium, sed ipsa virtus». <Счастье не награда за доблесть, а сама доблесть (лат.)>.
[Закрыть]. Примирение в жизни есть плод другого древа эдемского, его надобно было заслужить Адаму в кровавом поте, в тяжких трудах – и он заслужил его.