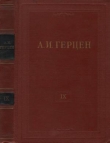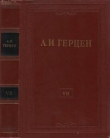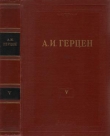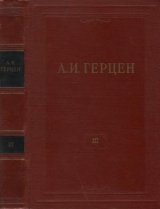
Текст книги "Том 3. Дилетантизм в науке. Письма об изучении природы"
Автор книги: Александр Герцен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 25 страниц)
Локк был робок и более добросовестен, нежели диалектик; он без логической необходимости с своей точки зрения отрекся от начала, из которого пошел. Признанием сущности за действительность он окончательно признал самозаконность разума, которая была уже отчасти признана в принятии рассуждения источником сложных идей; как скоро идея сущности получила право гражданства, то неминуемо открывалась возможность – многоразличие сущего привести к единству; бытие непосредственное находит в сущности свое посредство, явление получает причину, каузальность неразрывна с понятием сущности. Но так, как Спинозе (мы увидим это в последующих письмах), чтоб примирить картезианский дуализм с требованиями своей глубокой логической натуры, оставался один выход – погубить действительность явлений в пользу сущности, что составляло своего рода выход из дуализма, – так точно материализму надобно было последним словом своим принять не робкое и шаткое полупризнание сущности, а полное отречение от нее. Сущность – та нить, которой разум все сдерживает: перережьте ее – и все рассыплется, распадется, будут существовать одни частные явления, одни индивидуальности, мерцающие мгновенно и мгновенно тухнущие; всеобщий порядок разрушится, будут атомы, явления, груды фактов, случайности, но не будет стройного, всецелого, космоса – и все это прекрасно: когда односторонность дойдет до такой крайности, тогда она всего ближе к выходу из своей ограниченности. Нет сомнения, что первый гениальный материалист Бэконо-Локкова направления должен был дойти до этого или отречься от материализма, – этот гений был Давид Юм.
Юм принадлежит к небольшому числу мыслителей, которые покончили с собою, которые, взяв начала, имели мужество идти до последствий, не бледнея ни перед чем и твердо принимая хорошее и худое, лишь бы остаться верными точке отправления и логическому пути. Такой человек может, наконец, достигнуть успокоения, примириться в верности своих выводов с своими началами; пошлых людей, дошедших до этой невозмущаемой тишины, много; но Юм был одарен необычайным умом и необычайной диалектикой – в том-то и важность. Начал своих Юм не избирал: он их нашел готовыми в современном ему мире, в своем отечестве; он к этим началам имел симпатию как человек практический, как англичанин; самый образ жизни вел его к ним: Юм был дипломат, историк, а прежде купец, несмотря на аристократическое происхождение. Разумеется, начала бэконовской методы были ближе к душе его, нежели Спиноза и Лейбниц; но, взяв начала, мощный мыслитель вывел неумолимые последствия; он выставил то, до чего не смели касаться его предшественники; там, где они виляли, уступали, там Юм кротко и благородно, но с невероятной твердостью шел прямым путем. Он спокоен, потому что прав; его совесть чиста, он добросовестно сделал то, за что взялся. – Видали ли вы портрет Юма? Его черты поражают вас своей невозмущаемой ясностью и кротким покоем; весело сидит он в щегольском французском кафтане; лицо его полно, глаза блестят умом, все черты одушевлены, благородны, он несколько улыбается. Смотря на него, делается отрадно, вспоминается, что в жизни есть много хорошего. Обернитесь к портретам других философов, близких к нему по времени, – совсем не то. В сухо-моральном лице Локка соединяется выражение англиканского проповедника с строгостью материалиста-законодателя; лицо Вольтера выражает одну злую иронию; в нем знамение гениального разума как-то сочеталось с чертами орангутанга; Кант с своей маленькой головкой и огромным лбом делает тягостное впечатление; в лице его, напоминающем Робеспьера, есть что-то болезненное; оно говорит о беспрерывной, тяжелой работе, потребляющей все тело; вы видите, что у него мозг всосал лицо, чтоб довлеть огромному труду мысли; Лейбниц, с царственно величественным лицом, как Гёте, говорит всеми чертами: procul estote![200]200
оставайтесь вдали! (лат.). – Ред.
[Закрыть] А Юм зовет к себе. Это не только человек мысли, но человек жизни. Таков он и был; он умел с высокой нравственностью и с высоким умом сочетать качества, привязывавшие к нему всех людей, близко к нему подходивших. Он был душою небольшой кучки друзей; в их числе был и великий Адам Смит и некогда Ж.-Ж. Руссо, бежавший из веселого товарищества, гонимый раздражительной хандрой своей. Юм остался верен себе до конца; он сделал перед смертью пир и весело расстался с жизнию, сжимая замиравшей рукой своей дружеские руки, улыбаясь прощальному тосту их. Это была цельная натура!
Ни Локк, ни Кондильяк не могли сладить своего реализма с наукообразными требованиями. Юм с первого взгляда понял, что с этой точки зрения все метафизические требования, всякая догматика будут нелепостью, и высказал это прямо и не обинуясь. Мы видели выше, что он опроверг возможность определять достоверность знания критикою ума; он достоверность считает инстинктом, не подлежащим собственно умозаключению, предрассудком. Мы приводим в сознание не самые предметы, а образы их; эти образы мы считаем за действия внешних предметов; доказательств на это нет, мы принимаем такое отношение впечатлений к предметам до развития обсуживания: это вперед идет, это дано инстинктом. Источник знания – опыт, впечатления; впечатления передают нам образы и вместе с тем моральное убеждение, верование, что они соответствуют предметам сущим, возбудившим их в нашем сознании; действиями ума вывести оправдание инстинкта невозможно; у него на это нет средств; из этого никак не следует, чтоб инстинкт был неправ, а следует, что у нас ум ограничен. Чувственные впечатления, образы, собираясь в памяти, повторяясь и сочетаваясь ею различным образом, составляют то, что мы называем идеями; все идеи, все мыслимое должно быть прочувствовано. Опуская то ту, то другую сторону материалов, данных впечатлениями, сличая их, мы отвлекаем общее им, берем их соотношения и этим путем уравнений достигаем общих понятий; при этом обобщении, само собою разумеется, впечатления теряют долю живости, силы и своего индивидуального значения. Веря в свой инстинкт, храня в памяти ряды впечатлений, человек различные обобщения и следствия своих сравнений приписывает предметам, не имея ни малейшего права на то; опыт дает одни частные явления, ощущения и ничего всеобщего. Видя несколько раз подобное последующее от подобного предыдущего, человек привыкает связывать эти представления и подчинять одно другому, называя первое причиной или силой, а другое действием; ни опыт, ни умозрение не оправдывают такого произвольного принятия. Опыт дает преемственный порядок двух разных явлений, следующих во времени друг за другом, не раскрывая иного соотношения между ними; умозаключение каузальности явным образом не полно – недостает целого термина. В постоянно следует, за А, следственно, А – причина В; заключение негодное, ибо я не вижу никакого соотношения между двумя разными А и В, кроме рассказа, что сперва явилось А, а потом В и это случилось несколько раз; принимая А за причину, В за действие, мы теряем последнюю возможность их сравнить, ибо сравнивать можно одноименное, тождественное по чему-нибудь, а действие и причина – до такой степени разнородные понятия, что сравнение здесь не имеет места. Дело в том, что каузальность вовсе и не основана на умозаключении или на прямом опыте, а на привычке; человек привыкает от подобных причин ждать непременно подобных действий; если б эта непременность была разумна, то разум и в первый раз должен был ждать того же действия; но он его не ждал, а ждал во второй раз, потому что начал привыкать. То, что здесь говорится о каузальности, прилагается очень легко и к понятиям необходимости и сущности Опыт не дает нигде и ни в чем никаких необходимых соотношений, а дает совокупное и современное сосуществование многоразличия. Слово «сущность» – собирательное имя многих простых идей, совмещаемых в одно; мы никакого понятия не имеем о сущности, кроме полученного из связи разных явлений и свойств, схваченных нами; идеи, повидимому, чрез соединение по сходству, совокупности, одновременности, каузальности становятся крепче, общéе; но если вглядеться, то все эти обобщения приводят к повторению одного и того же разными образами (действие – раскрытая причина; причина закрытая – необнаруженное действие). Например, человеческое я, т. е. понятие самости, представляется вроде сущности всех явлений, составляющих жизнь человека; в основе понятия о нашем я не лежит тоже ничего действительного. Понятие я есть признание беспрерывно продолжающейся самости, стало быть, и впечатление, производящее его, должно быть беспрерывно; но такого впечатления нет: самость наша состоит из совокупности многих друг за другом следующих впечатлений; мы придаем этой совокупности вымышленную связь, называемую я. Мысль эта возникает от понятия беспрерывности предмета, с одной стороны, и от понятия последовательности разных предметов, друг за другом находящихся в соотношении; чем более мы замечаем характер постепенной последовательности, тем менее можем мы их отличать друг от друга, и чтоб скрыть противоречие, основанное на удержании беспрерывности и последовательности, человек выдумывает субстанцию или самость своего я как неведомое нечто, сохраняющее тождество с собою в перемене.
Consommatum est![201]201
Свершилось! (лат.). – Ред.
[Закрыть] Дело материализма как логического момента совершилось; далее идти теоретически было невозможно. Вселенная распалась на бездну частных явлений, наше я – на бездну частных ощущений; если между явлениями и между ощущениями раскрывается связь, то эта связь, во-первых, случайна, во-вторых, лишает полноты и жизненности то, что связывает; наконец, таутологически повторяет то же самое на другом языке. Связь эта ни логической, ни эмпирической достоверности не имеет, ее критериум – инстинкт и привычка. Ум опровергает инстинкт, но очевидность за него; инстинкт практически опровергает ум, хотя, с своей стороны, доказательств ни на что не имеет. Хотели одною чувственной достоверностью дойти до истины; Юм привел к истине чувственной достоверности, остановившейся на рефлекции, и что же случилось? Действительность разума, мысли, сущности, каузальности, сознание своего я – исчезли; Юм доказал, что этим ли путем – только до этих следствий и можно дойти. Но можно ли по крайней мере схватиться как за последний якорь спасения за инстинкт, за веру в впечатление? Ни под каким видом. Вера в действительность впечатлений – дело воображения и отличается от прочих вымыслов его только невольным чувством достоверности, основанной на большей живости впечатлений, происходящих более от действительных предметов, нежели от вымышленных. Вера эта, прибавляет Юм, точно так же принадлежит зверям, как и человеку; она не подлежит никакому оправданию умом! Что Декарт сделал в области чистого мышления своей методой, то сделал практически в сфере рассудочной науки Юм. Он очистил вход в науку от всего данного, вперед идущего; он заставил материализм сознаться в невозможности действительного мышления с его односторонней точки зрения. Пустота, к которой Юм привел, должна была сильно потрясти людское сознание, а выйти из нее нельзя было ни методою тогдашнего идеализма, ни робким Локковым материализмом. Требовалось иное решение: голос Юма вызвал Канта.
Но прежде, нежели мы займемся им и его предшественниками со стороны идеализма, взглянем, что делала Бэконова школа по ту сторону Па-де-Кале.
Реализм явным образом перешел во Францию из Англии; даже иронический тон, легкая литературная одежда мысли, теория себялюбивой полезности и дурная привычка кощунства – все это перешло из Англии. Что же сделали французы? За что в памяти нашей слова «реализм», «материализм» неразрывны с именами французских писателей XVIII века?
Если вы возьметесь за логический остов, за теоретическую мысль в ее всеобщности, – то увидите, что французы почти ничего не сделали, да и не могли собственно ничего сделать: с точки зрения реализма и эмпирии одна метода – ее изложил Бэкон; в материализме далее Гоббса идти некуда – разве броситься в скептицизм, – но и тут все было исчерпано Юмом. Между тем французы сделали действительно очень много, и в истории они недаром остались представителями науки XVIII столетия. Мы уже несколько раз имели случай заметить, что отвлеченная логическая схематика всего менее способна уловить не наукообразную по форме, но богатую по содержанию философию эмпирии. Здесь это очевидно; если вы взглянете не на несколько бедных теоретических мыслей, от которых равно отправлялись англичане и французы, но на развитие, которое эти мысли получали у англичан и французов, – тогда увидите, что Франция несравненно более совершила, нежели Англия. Британцам принадлежит только честь почина. Энциклопедисты в области науки сделали точно то же из Локка, что бретонский клуб во время революции сделал из английской теории конституционной монархии: они вывели такие последствия, которые или не приходили англичанам в голову, или от которых они отворачивались. Это совершенно сообразно национальному характеру двух великих народов.
Всякий общий вопрос делают англичане местным, национальным; всякий местный, частный вопрос становится общечеловеческим у французов. Какой бы перемены англичанин ни хотел, он хочет сохранить и былое, в то время как француз прямо и открыто требует нового; доля души англичанина в прошедшем: он человек по преимуществу исторический, он привык с детства благоговеть перед былым своей родины, уважать ее законы, ее обычаи, ее поверья; и это очень понятно: прошедшее Англии достойно уважения; оно так величаво и стройно развивалось, оно так гордо становилось стражей человеческого достоинства еще во времена мрачного бесправия, что нельзя британцу оторваться от святых воспоминаний своих; это благочестие к прошедшему кладет узду на него. Англичанину кажется неделикатным переходить некоторые пределы, касаться некоторых вопросов, и он, до педантизма строгий чтитель приличий, покоряется их условным законам. Бэкон, Локк, моралисты, политические экономы Англии, парламент, пославший Карла I на эшафот, Стаффорд, хотевший ниспровергнуть власть парламента, – все стремятся прежде всего показать себя консерваторами: все двигаются спиною вперед и не хотят сознаться, что идут по новой и неразработанной почве. В мысли островитянина есть всегда что-то ограниченное; она определенна, положительна, тверда, но с тем вместе видны берега, видны пределы. Англичанин перерывает нить своей мысли на том месте, где она отклоняется от существующего порядка, и порванная нить слабнет на всем протяжении[202]202
Только Шекспир и Гоббс не подойдут сюда; поэтическое созерцание жизни, глубина пониманья ее действительно беспредельна у Шекспира; Гоббс был до чрезвычайности смел и консеквентен, но об нем можно сказать то, что Мирабо сказал о Барнаве: «Твои глаза холодны, на тебе нет помазания». Байрон – Юм поэзии – принадлежит уже к другой Англии, к той, которая, долго не переводя духа, именно с года рождения Байрона (1788), с судорожным вниманием смотрела на революцию и, как Гаррик, одной частью лица улыбалась, а другою плакала, – к той Англии, которая, отправляя «Беллерофон», вскрикнула: «Я победила!» и сама покраснела от такой победы.
[Закрыть]. Уважения к прошедшему, обуздывавшего англичанина, не было у французов. Лудовик XIV так же мало уважал прошедшее, как Мирабо; он открыто бросил перчатку преданию. Французы узнали свою историю в нашем веке, – в прошлом они делали свою историю; но не знали, что они продолжают, они только знали историю Рима и Греции, переложенную на французские нравы, разрумяненную, натянутую. В то время, о котором мы говорим, французы хотели все вывести из разума: и гражданский быт и нравственность, – хотели опереться на одно теоретическое сознание и пренебрегали завещанием прошедшего, потому что оно не согласовалось с их a priori, потому что оно мешало каким-то непосредственным, готовым бытом их отвлеченной работе умозрительного, сознательного построения, и французы не только не знали своего прошедшего, но были врагами его. При таком отсутствии всякой узды, при пламенно-энергическом характере, при быстром соображении, при беспрерывной деятельности ума, при даре блестящего, увлекательного изложения, само собою разумеется, они должны были далеко оставить за собою англичан.
Умозрительное движение, сильно возбужденное Декартом и его последователями, потухало. Развиватели Декарта были не по характеру французам; они охотнее читали и лучше понимали Рабле и Монтеня, нежели Мальбранша. Сам Вольтер упрекает Лейбница в том, что он слишком глубокомыслен. При таком слое ума ничего не могло быть естественнее и своевременнее, как распространение во Франции английской философии в начале XVIII века. Развитие и опрощение Бэкона и Локка, развитие и опрощение самой популярной, нравоучительной философии англичан было сделано во Франции мастерскими руками; никогда такая огромная сумма всеобщих сведений не была приводима в форму более общедоступную; никакое философское учение не имело такого обширного круга применяемости, такого мощного практического влияния; труды англичан совершенно затмились изложением французов. Франция воспользовалась всем засеянным в Англии: Англия имела Бэкона, Ньютона – Франция рассказала всему миру их мысли; Англия предложила робкий материализм Локка – во Франции он развился в дерзость Ольбаха с товарищами; Англия векá жила высокой юридической жизнию – француз написал «De l'esprit des loix»; Англия векá жила в гордом сознании, что нет полнее государственной формы, как ее, а Франции достаточно было двух лет de la Constituante[203]203
Учредительного собрания (франц.). – Ред.
[Закрыть], чтоб обличить несообразности этой формы.
Когда Эльвеций издал свою известную книгу «De l'esprit», одна дама заметила: «C'est un homme qui a dit le secret de tout le monde»[204]204
Это человек, который высказал секрет, известный всем (франц.). – Ред.
[Закрыть]. Может быть, женщина, с чрезвычайной верностью определившая не только Эльвеция, но и всех французских мыслителей XVIII столетия, говоря это, не вполне оценила, что сказать то, о чем другие молчат, несравненно труднее, нежели сказать то, о чем другим в голову не приходило. Энциклопедисты действительно разболтали общую тайну, и за это их обвинили в безнравственности, а они, собственно, не были безнравственнее тогдашнего парижского общества, – они были только смелее его. Люди тогда начинают иметь секреты, когда нравственный быт их распадается; они боятся заметить это распадение и судорожною рукою держатся за формы, утратив сущность; изношенным рубищем прикрывают они раны, как будто раны заживут от того, что их не видать. В такие эпохи всего злее и ревностнее вступаются за обличение тайн нравственного быта, и надобно иметь большое мужество, чтоб высказывать громко вещи, потихоньку известные каждому, – за подобную дерзость был казнен Сократ. Гласность и обобщение – злейшие враги безнравственности; порок кроется в мраке, разврат боится света: для него темнота необходима, не только для скрытности, но для усиления нечистых упоений, жаждущих запрещенного плода; порок, вызванный на свет, теряется; ему становится неловко при открытых дверях, и он или исчезает, или очищается; та же самая гласность оправдывает многое, считавшееся порочным по сбивчивым понятиям, по искаженным преданиям, и радостно расширяет круг, скажем смело, самим страстям, когда они не противоречат призванию нравственного существа. Философы XVIII столетия раскрыли двоедушие и лицемерие современного им мира; они указали ложь в жизни, противоречие официальной морали с частным поведением. Общество толковало о строгих нравах, гнушалось всем чувственным – и предавалось самому нечистому распутству; философы сказали во всеуслышание, что чувства имеют свои права, но что одно чувственное не может удовлетворить развитого человека, что высшие интересы жизни тоже имеют свои права. Эгоизм доходил до безобразия в обществе и скрывался под личиною самоотвержения, презрения к богатству; философы доказали, что эгоизм – один из необходимых элементов всего живого, сознательного, и, оправдывая его, раскрыли, что человеческий эгоизм – не только чувство личной любви к самому себе, но, сверх того, чувство любви к роду, к человечеству, к ближнему[205]205
Надобно видеть, как живо или увлекательно делает именно этот переход от эгоизма к любви глубокомысленнейший из всех энциклопедистов, Дидро, если не ошибаюсь, в своем «Essai sur le mérite et la vertu».
[Закрыть]. Обличение всеобщей тайны и отрицание прежней морали шло быстро вперед. При Лудовике XIV Фенелонов «Телемак» считался страшной книгой; регент издал ее на свой счет. В начале своего поприща Вольтер поражает дерзостью; через двадцать лет Гримм пишет: «Патриарх наш отстал и упорно держится за детские верования свои». Вольтер и Руссо – почти современники, а какое расстояние делит их! Вольтер еще борется с невежеством за цивилизацию, – Руссо клеймит уже позором самую эту искусственную цивилизацию. Вольтер – дворянин старого века, отворяющий двери из раздушенной залы рококо в новый век; он в галунах, он придворный, он раз был на большом выходе, и, когда Лудовик XV проходил, церемониймейстер назвал по имени Франсуа-Мари-Аруэта; по другую сторону двери стоит плебей Руссо, и в нем ничего уж нет du bon vieux temps[206]206
от доброго старого времени (франц.). – Ред.
[Закрыть]. Едкие шутки Вольтера напоминают герцога Сен-Симона и герцога Ришлье; остроумие Руссо ничего не напоминает, а предсказывает остроты Комитета общественного благосостояния. В 1720 году вышли «Lettres Persannes» Монтескье, и Париж был до того скандализован смелостью этой книги, что регент, смеявшийся от души над письмами Рики, Узбека, должен был уступить общественному мнению и, для приличия, немного потеснить автора; лет через пятьдесят напечатана в Лондоне «Système de la nature» Ольбаха et Cnie и не токмо не удивила никого, но общественное мнение смеялось над гонением подобных книг. Впрочем, далее идти было некуда. Эта книга – заключение французского материализма, это лапласовское «J'ai dit tout»![207]207
Я все сказал (франц.). – Ред.
[Закрыть] После этой книги можно было делать частные приложения, можно было комментировать Système de la nature – par le Culte de la Raison[208]208
Систему природы – культом Разума (франц.). – Ред.
[Закрыть], но далее идти в дерзости отрицания невозможно. С ограниченной точки зрения рассудочной деятельности при безбоязненном и последовательном уме непременно надобно было дойти до Юма или до Ольбаха, Гримма, Дидро, т. е. до скептицизма, оставляющего вас темной ночью на краю пропасти, или до материализма, ничего не понимающего, кроме вещества и тела, и именно потому не понимающего ни вещества, ни тела в их действительном значении. Дойдя до этих пределов, мышление человеческое стало искать иных путей, но уж не англичане, не французы нашли и расчистили их, а германцы, приготовившиеся к подвигу науки постом двухвекового бездействия, – германцы, сосредоточившиеся в думе, оставившие жизнь, потому что жизнь для них в XVII и XVIII столетии была невыносима[209]209
Советую почитать, например, Шлоссера «Историю XVIII столетия».
[Закрыть], – германцы, хранившие свято книги Спинозы и книги Лейбница и приученные к страшному умственному напряжению вольфианизмом.
Энциклопедисты были односторонни до нелепости, но они не были так плоско поверхностны, как думали об них немцы, судя по общедоступному языку их. В сказках повествуют о каком-то скороходе, который, чтоб не слишком быстро бегать, привязывал себе ядра к ногам; привыкнув ходить с ядрами, я полагаю, он очень неловко ходил без них. Немцы привыкли читать в поте лица тяжелые философские трактаты. Когда им попадается в руки книга, от которой не трещит лоб, они думают (или, правильнее, думали лет двадцать тому назад), что это пошлость.
Если вы сколько-нибудь припоминаете развитие науки, изложенное нами в письмах, то вам ясна историческая необходимость Декарта и Бэкона; вы видели, что средневековый дуализм, переходя из бытового устройства в сферу теоретическую и перенося в нее двуначалье свое, пошел двумя путями – путем идеализма и путем реализма. Как скоро вы допустите необходимость Декарта и Бэкона или, лучше, их учений, то вы должны будете ждать, что и то и другое направление разовьется до последней крайности, до нелепости, если хотите. Крайность реализма выразили энциклопедисты; они так же действительно, так же верно, так же полно представляют свою сторону духа человеческого, как идеалисты свою, и так же, как они, обусловлены временем, после которого и те и другие должны потерять свои исключительные притязания и соединиться в одно стройное пониманье истины. К этому примирению, повторяем, стремился Шеллинг и все последователи его; ему-то обширные основания воздвигнул Гегель – остальное доделает время. Язык двух противоположных воззрений еще слишком разен; недостает взаимного уважения, недостает беспристрастия. Конечно, натуры сильные становятся выше личных мнений или мнений своей партии. Гегель, например, начал в своей истории говорить о бэконовском воззрении и его школе свысока; но мало-помалу, перелистывая сочинения знаменитых деятелей того времени, вживаясь в них, он воспламеняется, увлекается практическими мыслителями до того, что голос его дрожит от глубокого одушевления, речь становится восторженна, какой-то трепет пробегает по груди, и эти люди ограниченной мысли начинают ему казаться чуть ли не крестовыми рыцарями, вдохновенно идущими за развернутым знаменем разума!.. И Гегель с горькой улыбкой обращается потом к родному идеализму и говорит: «А в Германии в это время возились с лейбницо-вольфовской философией, с ее определениями, аксиомами, доказательствами»[210]210
«Geschichte der Philosophie», Т. III, p. 529.
[Закрыть].
С. Соколово.
1845. Сентябрь.