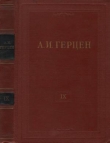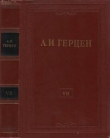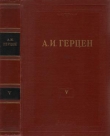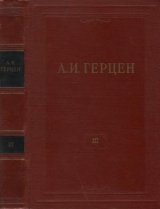
Текст книги "Том 3. Дилетантизм в науке. Письма об изучении природы"
Автор книги: Александр Герцен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 25 страниц)
Переворот, сделанный Сократом в мышлении, состоял именно в том, что мысль стала сама себе предметом; с него начинается сознание, что истина не есть сущность так, как она есть сама по себе, а так, как она в сознании; истина есть узнанная сущность. Обратите все внимание ваше на это: c'est le mot de l'énigme[113]113
это – разгадка (франц.). – Ред.
[Закрыть] всей философии. Мысль после Сократа более сосредоточивается, углубляется в себя для того, чтоб сознательно развить единство себя и своего предмета; природа перестает быть независимою от мысли. Так далеко, впрочем, взгляд самого Сократа не простирался; одна из односторонностей его, особенно бросающихся в глаза в эллинском мире, состояла в пренебрежении ко всему вне философии и особенно к естествоведению. Сократ повторял часто, а за ним выражение это обратилось в пословицу, что все его знание состоит в том, что он ничего не знает, – и был прав: мощной диалектикой он распустил все достояние преемственно образовавшихся мнений, слывших за знание; это – отрицательное освобождение мысли от сущего содержания, а еще не истинное содержание ее; он узнал в сознании и мысли живую форму истины, но она не имела еще у него действительного наполнения. Прошедшее было им побеждено, но на свежей могиле его не успело развиться новое, хотя колыбель его и была готова. От этого-то и непонятное появление демона у Сократа; он является, вызываемый неполнотою его воззрения; при действительной полноте содержания демона было бы не нужно, – ему не было бы места[114]114
Аристотель с удивительною проницательностию указал на абстрактность Сократа: «Сократ лучше Пифагора говорит о добродетели, но неправ; он считает добродетель знанием. Всякое знание имеет логос (разумное основание), логос же только в мышлении; он все добродетели полагает в ведении и снимает алогическую сторону души; именно – страстность, чувства, характер; добродетель не есть наука; Сократ сделал из добродетели логос, мы же говорим: она с логосом! Она не ведение, но и не может быть без ведения». Аристотель определил добродетель «единством разума с неразумностью».
[Закрыть].
Односторонность Сократа не восполнилась его первыми последователями; не мегарскую школу, не киренаиков звала его великая тень: она вызывала изящный, светлый образ Платона – и он явился, наконец, совершителем Сократовых начинаний. Сократ, провозглашая право самосознательного разума, понимал его сущностию и целию самосознающей воли; Платон с самого начала полагает мысль сущностию вселенной и стремится покорить ей все сущее, может быть, более, чем нужно… Я сказал выше, что камень, положенный Сократом, выходил одной стороною из древнего мира; еще более должно разуметь это о Платоновом воззрении; в нем является впервые то, что мы называем романтическим элементом; он был поэт-идеалист, в нем видна та струя, которая, при известных условиях, неминуемо должна была развиться в неоплатонизм александрийский. Платон считал духовный мир науки единственно истинным, в противоположность призрачному миру сущего; мир этот раскрывается человеку мышлением, которое рядом воспоминаний будит и развивает истину, уснувшую и забытую в душе, преданной телесному бытию; однажды приведенный в сознание, проснувшийся идеальный мир оказывается истиною мира реального, его совершением, и пребывает в величавом покое, отрешившись от сует временного бытия и сохраняя его в себе снятым; так, род – истина неделимых, всеобщее – истина частного, так, идея – истина вселенной. Платон находит временное, телесное бытие преградою безусловному знанию; говоря это, он, кажется, забывает, что с тем вместе оно есть и неминуемое условие бытия и знания. Но не подумайте, что этот романтический элемент или, лучше выразиться, элемент, имеющий в себе нечто романтическое, есть исчерпывающее определение Платоновой мысли, – далеко нет! Вспомните лучше, что древние называли его творцом диалектики: вот где его сила и мощь, вот чем дошел он до глубокомысленной спекуляции своей, которая во всем сохранила долю идеализма как печать его личности и личности возникавшей эпохи, но не стеснила им мощной, свободной мысли. Платона многие сравнивают с Шеллингом; мы сами это сделали в первом письме, – и точно, поэтическая мысль Платона, любившая облекаться в роскошные ризы аллегорий и мифов, имеет наибольше сродства в новом мире с Шеллинговым поэтическим провидением истины и его страстным придыханием к ней; но у Платона перед ним необъятный шаг: это его изумительная, всепокоряющая диалектика, еще более – сознание полное, отчетливое диалектической методы и вообще логического движения. Шеллинг готовое содержание своей мысли излагает в схоластической форме, – Платон в разговорах своих диалектикой достигает до истины: у него истина неотъемлема от методы. Он сам превосходно изложил в своей книге «О Республике» развитие знания: начальную степень, или точку отправления логического движения, составляет у него непосредственное воззрение, чувственная сознательность, переходящая в чувственное представление, в то, что называется мнением; вторая степень знания между мнением и наукой – это сфера рассуждающего познавания, рассудка, рефлексии, достижение общих и отвлеченных начал, принятие ипотез, произвольных объяснений (в этом моменте находятся все физические и вообще положительные науки в наше время). Отсюда начинается собственно наукообразное знание; но тут оно еще не может быть достигнуто: рассудочные науки никогда не достигают диалектической ясности, ибо – говорит Платон – они идут от ипотез и не восходят в своем рассматривании до безусловного начала, но рассуждают, основываясь на предположениях: у них, кажется, мысль не в предмете их, а то бы их предметы сами были мысли. Способ геометрии и близких ей наук называет он рассудочным и полагает, что рассуждение находится между разумным и чувственным созерцанием. Наконец, третья степень у него – мышление само в себе, понимающее мышление; оно принимает предположения не за начало, а за точку отправления, от которых идут пути к началу, не имеющему никаких предположений. Платон эту степень называет диалектикой. В обыкновенном сознании нашем непосредственно действительным считается данное чувственным созерцанием и рассудочные определения этого данного; Платон везде, во всех разговорах стремится раскрыть недействительность и несущественность одного чувственного и рассудочного, несостоятельность их против умозрительного и идеального. В этих борьбах вы видите, что огонь негации обращался и в его жилах, что наследие софистов оставалось и в его душе, и не только оставалось, а выросло в гигантскую силу; но характер его гения не был отвлеченно-разрушающий, – совсем напротив – примиряющий. Он исторгает из преходящего непреходящее, из частного – всеобщее, из неделимых – род, не для того только, чтоб, указав действительность и истину всеобщего над частным, разбить его ими и уничтожить индивидуальное, сущее, частное: нет, он исторгает родовое для того, чтоб спасти его от круговорота временного существования, еще более, сделать то, чего природа не может сделать без мысли человеческой, – примирить их. Здесь Платон – спекулятивный философ, а не романтик. Всеобщее, родовое, схваченное в мысли, Платон называет идеей; достигая до нее, он стремится ей дать определение, и здесь его диалектика делается примирительницей, в самой себе снимает противоречия, указанные ею. Определенность идеи состоит в том, что единое остается самим собою в многоразличии; чувственное, многоразличное, конечное, относительно существующее для других не есть истинное: оно – неразрешенное противоречие, разрешающееся только в идее; но идея не вне предмета: она – то, что стремится к себяопределению различиями, и то, что пребывает свободным и единым в этом различии. «Трудное и истинное, – говорит Платон, – состоит в том, чтоб показать в другом то же самое и в том же самом – другое, и притом так, чтоб оно в отношении к другому было то же самое». Великая мысль! А подумайте, какими свистками толпа приняла бы мыслителя, который явился бы в наше время с такою странною речью для обыкновенного сознания… Уважение, хранящееся из века в век к древним философам, основано на том, что их никто не читает; если б добрые люди когда-нибудь их развернули, они убедились бы, что Платон и Аристотель точно такие же были поврежденные, как Спиноза и Гегель, говорили темным языком и притом нелепости. Большинство нашего времени (я разумею сознающих себя грамотеями) так отвыкло или так не привыкло к определениям мысли, что оно, только бессознательно употребляя их, не возмущается. Нас не удивляет, например, что человек в физиологическом отношении – неделимое, целость, атом, а в анатомическом – многочисленная куча самых разнообразных частей; что тело наше – вместе и наше «я» и наше другое; никого не удивляет процесс возникновения, беспрерывно совершающийся около нас, эта глухая борьба бытия с небытием, без которой было бы одно безразличие; никого не удивляет эта вечность мимолетного, которою мы окружены. Назовите то, что добрые люди видят и чувствуют ежедневно, словами, – они не поймут вас и никогда не узнают в ваших словах близких знакомых. Я уверен, что многие были бы глубоко скандализованы узнав последние выводы, до которых Платон везде пробивается, вооруженный своей беспощадной диалектикой и своим гением, глубоко раскрывающим сокровенную истину. Для Платона безусловное то, что разом конечно и бесконечно, мощное, полное силы и духа, то, что может вынести в себе противоположное; тело (само по себе) гибнет, встречая противодействие, но дух может сдержать всякое противоречие; он живет в нем, он без него отвлеченен; одно бесконечное само по себе (и это прямо высказал Платон) ниже ограниченного и конечного, потому что оно неопределенно. Конечное имеет цель и меру, а бесконечно отвлеченное бытие, определенное – не есть токмо внешнее, но именно единое в многоразличии; оно одно действительно, и, приходя в сознание, оно возвышается над конечным и дает среду вечного успокоения и созерцания, далее которого Платонова мысль не идет или из которого она не хочет выйти. В этом последнем слове Платона, в этом царстве почившей и себя созерцающей идеи – все прекрасное и все одностороннее его воззрения. Он и в историческом отношении к своим предшественникам представляет светлое и покойное море, в которое все они влекут воды свои; он исполняет, так сказать, их судьбу, успокоивает их в обширных объятиях своих. Парменид, Гераклит, Пифагор, Анаксагор, софисты, Сократ равно нашли место в Платоновой мысли, и между тем его мысль была его мысль. Реки потерялись в море, хотя они в нем и хотя его не было бы без них. Но продолжим сравнение: море это бесконечно широко, берега исчезают – в этом-то вся беда; вода и воздух – такие стихии, в которых для человека чего-то недостает: он любит землю, разнообразие жизни, а не стихийную бесконечность, которая поражает, долго поражает, – но при которой остаться нельзя. В этой ширине, теряющей берега, сила Платона, но он успокоился в блаженстве созерцания и думал забыть их… Думал! А фантастические образы и представления, втесняющиеся в душу его, врывающиеся в его диалектику, выказывающие страстные черты свои в покойных волнах чистого мышления, – зачем они? Какая диалектическая необходимость в них? Не по логической необходимости всплывали они в душе Платона, так, как не по ней являлся демон Сократа; они являлись в замену утраченного временного, они носили тот лик красоты, которого не имеет отвлеченная мысль и который дорог человеку; они ими нарушили величавое спокойствие чистого мышления, и Платон радовался этому нарушению – так, как облака веселят мореходца, прерывая спокойную и вечно немую лазурь.
Воззрение Платона на природу было больше поэтико-созерцательное, нежели спекулятивно-наукообразное. Он начинает с представлений (в «Тимее»); демиург приводит в порядок и устройство хаотическое вещество, он оживляет его, дает ему мировую душу: «Желая сделать мир подобным себе, демиург в средоточии мира постановил душу мира, проникнувшую всюду»[115]115
Кстати упомянуть здесь о богопознании древнего мира: это слабейшая сторона его философии; недаром неоплатоники бросили все прежние вопросы и занялись преимущественно теодицеей. Языческий мир был в этом отношении чрезвычайно непоследователен; при представлениях политеизма мыслящему человеку остановиться было невозможно; нельзя было, в самом деле, удовлетвориться Олимпом и добрыми греками, жившими на нем. Ксенофан элеатик говорит: «Если б быки и львы имели руки, они непременно ваяли бы своих богов так, как мы, брав образец с себя». Но, отстав от традиционных представлений, греки не могли сладить философского понимания с религиозным, ни разом пожертвовать язычеством; они могли жить, оставаясь при неопределенном, шатком, колеблющемся принимании язычества суррогатом мысли; оттого ни нус, ни душа мира, ни демиург, ни самая энтелехия Аристотеля не удовлетворяют их вполне. У них религия является всякий раз случайно, deus ex machina, они вдруг делают скачок от чистого мышления в религиозное представление, оставляя их во всем непримиримом противоречии. Тут один из пределов греческого воззрения; не ждите полного ответа о божественном от язычника: признает ли он, отвергает ли – он в обоих случаях неправ. Цицерону приходила в голову мысль формально примирить древнюю религию с философией; интересы его были и не религиозные и не философские, – он был государственный человек, и для общественной пользы писал прозаические трактаты de natura deorum <о природе богов (лат.)>, и без всякой пользы излагал в дюсисовском переводе великую науку греков.
[Закрыть]. Вселенная для Платона – единое, одушевленное и умнее животное; «животное это одно; если б их было два или несколько, то они имели бы между собою соотношение, были бы части и составили бы опять одно». Первоначальными стихиями Платон принимает огонь и землю: «между ними (как совершенными противоположностями) должна быть связь, их соединяющая, но изящнейшая из всех связей – та, которая себя и то что ею соединяется, связует в одно высшее единство (как, например, умозаключение)». Вы видите, что эта высокая мысль о связи заключает в себе уже возможность развиться в понятие в идею, в субъективность. Эта мысль Платона (как и многие другие его мысли и мысли его сподвижников) до нашего времени повторялась бесплодно и не была, кажется, никем оценена, физический мир имеет своими крайними определениями твердое и живое (землю и огонь): «твердому нужны две среды, ибо оно имеет не только ширину, но и глубину; потому демиург постановил между землею и огнем воздух и воду и притом так, что огонь относится к воздуху так, как воздух к воде, а вода к земле». Эта двойственность среды дает Платону основным числом всего естественного четыре, то самое число, которое у пифагорейцев считалось действительно полным. Разумное заключение, силлогизм, имеет в себе три момента, именно потому, что среда, расходящаяся в природе, сливается в разумном единстве; примирительная среда в природе двойственна; она представляет противоречие так, как оно есть в природе, – непримиренным. «Вселенная шарообразна; элементы, ее составляющие, даны ей богами в такой соразмерности, что она никогда не может выйти из своего равновесия. Сфероидальность ее заключает в себе все формы; она гладка, ибо ничем не выходит из себя, не имеет отличия от другого». Иметь внешнее различие – характер конечного: внешность не для себя, а для другого предмета, – вселенная же – все предметы; так, в идее есть определительность, расчленение, ограничение и инобытие; но вместе с тем все это в ней распущено, снято единством и потому остается таким различием, которое не выходит из себя. «Бог сочетал взятое от сущности, вечно тождественной с собою, неделимой, со взятым от сущности телесной и делимой; в этом сочетании соединилась природа, себе тождественная, с другим, с природой себя различной, и это сочетание – живую душу – поставил он соединяющей средою между расторженным». Обратите внимание на выражение Платона: с другим; он не называет, чему оно другое, и в этом-то глубокий спекулятивный смысл его выражения; это другое не по сравнению, а само по себе. Эти три сущности обнял он еще высшим единством, в котором они сохранили свое различие, пребывая тождественными в идее. Царство идеи стоит в своей вечности недосягаемым идеалом стремящемуся миру; оно имеет образ или отпечаток свой в мире конечном и отданном времени, но этот исторгающийся чрез временное к вечности мир, в свою очередь, имеет в противоположность себе еще другой, которому переходимость и изменяемость – сущность. Итак, вечный мир, постановленный во времени, осуществляется двумя формами в мире примирения с собою и в мире блуждающего себяразличия. Мы имеем из всего этого три определенные момента: во-первых, аморфизм, безвидность, готовая принять всякий вид; вещество, материя, среда воспринимающая, питающая, всеобщая кормилица, собою выкармливающая питомца для самобытного бытия; ею одействотворяется форма, она сама переходит в нее, – это страдательная материя, всему дающая состоятельность. При ее помощи возникают явления внешнего бытия, единичности, в которых двойство непримиримо; но то, что проявляется, не есть уже чисто материальное, а всеобщее, идеальное… Рассматривая природу, Платон не смешивает в ней двух начал: «необходимого и божественного», соподчиненного и царящего, основанного на взаимодействии и на себе самом; без необходимого нельзя подняться к божественному – в этом его видимое значение, – но аутономия божественного в нем самом. Так, он и в человеке различает принадлежащее (божественное) его бессмертной душе от принадлежащего его смертной душе (необходимое); все страсти принадлежат душе смертной, и для того, «чтоб она не возмутила ими душу божественную, бог отделил ее выей от бессмертной души, этим делителем груди и головы. Сердцу он приобщил легкие, бескровные, мягкие, чтоб облегчить его, когда оно обнимается пламенем ярости; легкие ноздреваты, как губка, так устроены, чтоб вбирать в себя воздух и влагу и охлаждать ими жгучий зной сердца». Распространяясь далее об устройстве тела, Платон говорит о печени[116]116
Древние придавали печени довольно странное физиологическое значение: они ее считали источником снов, вероятно, основываясь на изобилии крови в этом органе. Здесь дело идет вовсе не о мнении Платона о печени, а о том, что он говорил по ее поводу.
[Закрыть]: «Неразумная сторона души – разума не слушает; для того создана печень, воспринимающая нисходящую силу разума и отражающая, подобно зеркалу, вместо первообразов призраки и страшные тени; цель этих видений та, чтоб неразумную сторону человека сделать чрез посредство сна соучастницей вéдения. Подобно сему боги дали душе возможность волхвования и прорицаний; что волхвование и предсказывание дано именно неразумной стороне души, ясно видно из того, что ни один человек, обладающий совершенно умом, не предсказывает, а делают это люди или в состоянии сна или когда болезнями и восторженностию человек выводится из обыкновенных) состояния. При прорицаниях надобен сознательный ум другого, чтоб понять высказанное, ибо бредящий не понимает своего бреда. Прежние мыслители справедливо говорили, что деяние и сознание принадлежат только рассуждающему человеку». Я не мог удержаться, чтоб не выписать этого места. Какой глубокий такт истины руководил мысль древних философов! Вы видите здесь, что Платон ясно и отчетливо понимал, что нормальное состояние телесно и духовно здорового человека несравненно выше, нежели всякое анормальное, каталептическое, магнетическое сознание. В наше время вы встретите множество людей, придающих себе вид глубокомыслия и притом убежденных, что ясновидение выше, чище, духовнее простого и обыкновенного обладания своими умственными способностями, так, как найдете мудрецов, считающих высшей истиной то, чего словами выразить нельзя, что, следовательно, до того лично, случайно, что утрачивается при обобщении словом.
Воззрение Платона на природу не может, впрочем, быть общим представителем древнего воззрения на естествоведение; его стремление к покоящейся идее, в которой временное потухло, романтическая струна, звучавшая в его душе, его близость к Сократу – все это вместе препятствовало ему остановиться долго на природе. Поэтому, определив самым общим образом момент, выраженный Платоном, мы перейдем к последнему и полнейшему представителю эллинской науки.
Аристотель – в высшем смысле слова эмпирик; он все берет из предлежащей, окружающей его среды, берет как частное, берет так, как оно есть; но однажды взятое из опыта не ускользает из мощной десницы его, взятое им не сохранит своей самобытности как противоречие мысли; он не оставляет предмета до тех пор, пока не выпытает все его определения, пока сокровенная сущность его не раскроется светлой, ясной мыслию, а посему эмпирик Аристотель с тем вместе – в высочайшей степени спекулятивный мыслитель. Гегель заметил, что эмпирическое, взятое в своем синтезе, есть само спекулятивное понятие: вот до этого пониманья и добивается современная наука. Но понятие не прежде раскрывается, как перейдя весь путь мысли, и Аристотель все предметы, подвергавшиеся страшной разлагательной силе его, прогнал по нем, или, говоря языком старой химии, сублимировал их в мысль. Аристотель начинает с эмпирического данного, с неотразимого фактического события – это его точка отправления; не причина, а начало (initium), первое, предшествующее, и, как первое, – оно у него необходимо, неминуемо; это эмпирическое он увлекает в процесс мышления, расплавляет его огнем своего анализа и возводит с собою на вершину самосознания; для него нет косных определений, нет ничего неподвижного, твердого, почившего, нет мертвых философем; он бежит покоя, а не жаждет его, – в этом-то и состоит его шаг вперед от Платона. Идея не могла навсегда остаться лазурью, успокоившейся от треволнений временного, созерцанием, находящим свое блаженство в отсутствии или немоте всего частного. Несмотря на свой квиетический характер у Платона, она в сущности готова была раскрыться дальнейшими самоопределениями, – но еще покоилась; Аристотель ринул ее в деятельный процесс, и все твердое или казавшееся твердым увлеклось мировым движением, ожило, снова возвратилось к временному, не утратив вечного. Идея по себе, в своей всеобщности, еще не действительна, она только всеобщность, предположение действительности, заключение ее, если хотите, – но не сама действительность. Идея, исторгнувшаяся из круговорота деятельности, помимо его представляет нечто недостаточное, косное и ленивое: одна деятельность дает полную жизнь; но она не легко уловима; понимать всеобщее отвлеченным несравненно легче; движение сложно само по себе, оно раздвоено, распадается на два противоположные момента, оно понятно одному сильному, быстрому вниманию, его надобно ловить на лету; отвлеченное покойно, покорно рассудку, оно не торопит, как все мертвое. Гамлет справедливо уверял короля, что некуда торопиться к трупу Полония, что он подождет; мертвая абстракция существует только в уме человека; самодвижения в ней нет (если мы отделим от нее неумолкаемую диалектическую потребность ума выйти из абстракции).
Аристотель ищет истину предмета в его цели; по цели стремится он определить причину; цель предполагает движение; целеобразное движение – развитие, развитие – осуществление себя наисовершеннейшим образом, «одействотворение благого, насколько можно». «Всякая вещь и вся природа имеет целью благое». Эта цель – деятельное начало, логос, беспокоящий всеобщую почву (субстанциальность); оно пробуждает ее к стремлению, оно достигает ею и в ней совершения себя, оно ринулось с ней вместе в движение, но владеет им для того, чтоб спасти всеобщее в потоке перемен; такое движение – не просто видоизменение, а деятельность; деятельность – тоже беспрерывная перемена, но сохраняющаяся в ней; в простой перемене ничего не сохраняется: там нечего беречь. Движение, перемена, деятельность предполагают поприще, страдательность, на которой они совершаются; этот субстрат – косное, отвлеченное вещество; все сущее непременно одною стороною вещественно; но вещество само по себе – только возможность, расположение, страдательная, отвлеченная, всеобщая готовность; оно дает деятельности определенную возможность, практическую состоятельность; вещество – условие, conditio sine qua non развития. Отсюда два аристотелевские момента: динамия и энергия, возможность и действительность, субстрат и форма, сливающиеся в том высшем единстве, где цель есть с тем вместе и осуществление (энтелехия). Динамия и энергия – тезис и антитезис процесса действительности; они неразрывны, они только истинны в своем сосуществовании; друг без друга они абстрактны (нельзя довольно часто повторять этого; грубейшие ошибки проистекают именно от удерживания в несвойственном разъединении материи и формы); вещество без формы, косное, отвлеченное от деятельности, – не истина, а логический момент, одна сторона истины; форма, с своей стороны, невозможна без вещества; нет действительности без возможности – иначе она была бы чистейший non-sens[117]117
бессмыслица (франц.). – Ред.
[Закрыть]. В действительности они всегда неразрывны, их нет врознь; процесс жизни состоит из взаимодействия их и из их присущности – вот в этом-то деятельном, стремящемся к самосовершению процессе и старается Аристотель уловить идею во всем ее разгаре. Идея Платона, как бы совершившаяся, окончившая в себе отрицание, примиренная, пребывает в величавом покое; Платон собственно держится сущности, но сущность сама по себе, отвлеченная от бытия, не есть еще ни действительность, ни деятельность; она точно так же влечет к проявлению, как проявление к сущности. У Аристотеля сущность неразрывна с бытием: оттого она и не покойна; у него идея, не совершившаяся в отвлеченной безусловности, а так, как она совершается в природе, в истории, т. е. в действительности. Последуем за его развитием. Полное и истинное единство деятельности и возможности – в идее; в низших сферах они разъединены, противоположны и только стремятся к своему примирению. Все осязаемое представляет конечную сущность, в которой вещество и образ разделены, внешни друг другу – в этом весь смысл конечного и вся ограниченность его; здесь сущность подавлена деятельностью, сносит ее, но не становится ею: она переходит из одной формы в другую, и постоянным остается одно вещество – почва перемен, страдательное долготерпение; определенность и форма находятся в отрицательном отношении к веществу, моменты распадаются, и нет места полной гармонии в этом чувственном сочетании. Когда же деятельность содержит в себе то, что должно быть, имеет в себе цель стремления, тогда движение становится деянием – энергия является как ум; вещество делается субъектом, живым носителем перемены; форма становится сочетанием и единством двух крайностей: материи и мысли, всеобщего страдательного и всеобщего деятельного. В чувственной сущности деятельное начало еще отделено от вещества, нус побеждает эту отдельность, но ему (уму) нужно вещество, он предполагает его, иначе у него нет земли под ногами; ум, или нус, здесь – понятие животворящее и расчленяющееся в своем воплощении (Аристотель называет нус в этом моменте душою, логосом, самодвижущимся и самоставящимся). Наконец, полное, совершеннейшее развитие – слитие динамии, энергии и энтелехии: в нем все примирено, возможность вместе с тем и действительность, неподвижность – вечное движение, вечная непереходимость временного, разум самосознающий, actus purus![118]118
чистое действие! (лат.). – Ред.
[Закрыть] «Может быть, – заметите вы, – Аристотель ставит всему началом страдательное вещество». Нет! Ибо страдательное вещество – призрак, отвлечение, имеющее только маску действительного, материального; мог ли взять началом такой спекулятивный гений, как Аристотель, неисполненную возможность, школьную абстракцию? Вот что он говорит: «Многое возможное не достигает действительности, стало быть, возможное – начало (πρότερον); но если принять началом одну возможность, то надобно допустить случай неодействотворения ее, вследствие которого могло ничего не быть». Такая спекулятивная нелепость опровергала вполне, в глазах его реализма, нелепое предположение. Далее он говорит: «Нет, не с одного хаоса, не с ночи, продолжавшейся бесконечное время, как объясняют наши жрецы-теологи, начало всего; откуда взялось бы что-нибудь, если б в самой действительности не было причины? Энергия есть высшее и первое (вспомните, как прекрасно Августин делит хронологическое первенство и первенство достоинства, prioritas dignitatis). Вещественность страдательна; чистая деятельность предупреждает возможность не по времени, а по сущности». Целеобразность выставляет, обличает это первенство.
Верный себе, Аристотель начинает физику с движения и его моментов (пространство и время) и переходит от всеобщего к обособлениям и частностям вещественного мира, не теряя нигде из вида главную мысль – живого течения, процесса. Мало того, что он природу схватывает как жизнь – в этом основа его естествоведения, – но эту жизнь принимает за единую, имеющую цель в себе, тождественную с собою; движением она не в другое переходит, но развивает перемены из своего содержания, пребывая в них и сохраняя себя. «Все находится во взаимном соотношении; плавающее, летающее, прозябающее – все это не чуждо друг другу; они сами представляют свои отношения, сводящиеся к одному единству». Систематического порядка в Аристотелевой физике нет: он выводит одну сторону предмета за другою, одно определение за другим, без внутренней необходимости, развивая каждое до спекулятивного понятия, но не связуя их. У него одна связь – та, которая в самой природе, – жизнь и движение; но для науки этого мало: жизнь еще не вся полнота самосознательной идеи.
Приступая к идее природы, Аристотель сначала рассматривает природу как причину, для чего-нибудь действующую, имеющую целеобразное стремление, потом уже переходит к необходимости и ее отношениям. Обыкновенно делают наоборот; обращаются сначала к необходимому и существенным считают не то, что определено целью, а что вышло из внешней необходимости; долгое время все пониманье природы сводили на одно раскрытие необходимости. Аристотель начинает с идеального момента природы; для него цель – «внутренняя определенность самого предмета». «В ней заключена деятельность природы, ее самосохранение, постоянное, беспрерывное и, следовательно, зависящее не от случая и удачи». Цель равно становит предыдущее и последующее, причину и произведение; сообразно ей все частные действия отнесены к единству, так что производимое есть именно природа вещи. «Нечто становится каким оно предсуществовало». «Кто принимает случайное образование, тот снимает природу, ибо начало ее состоит в том, что она себя приводит в движение; природа есть то, что достигает своей цели». Природа вещи – всеобщее, само с собою тождественное, которое само себя, так сказать, отталкивает, т. е. осуществляет; но то, что осуществляется, что возникает, то было в основе: это цель, род, предсуществовавшие как возможность. От цели переходит Аристотель к среде, к средству. «Ласточка, – говорит он, – вьет гнездо, паук плетет паутину, дерево врастает в землю, – в них самих находится причина такого действования». Инстинкт заставляет их искать сочетания среды с самосохранением; средство – не что иное, как особенное представление цели; жизнь – цель самой себе, она достигает, воспроизводит и хранит вызванный организм свой. Растение, животное становится таким, потому что оно в воде или на воздухе, – тут круг. Эта способность видоизменяться, принадлежащая живому, – не просто случайность и следствие одной внешней среды: она возбуждается внешним условием, но одействотворяется настолько, насколько соответствует внутреннему понятию животного.
«Иногда природа не достигает того, чего хочет; ее ошибки – уроды; но ошибаться может тот, кто делает с целью». Природа имеет при себе свои средства, и эти средства – сама цель; «она похожа на человека, который сам себя лечит». Говоря о необходимости, Аристотель превосходно побеждает мысль внешней необходимости в развитии природы следующим примером: «Можно предположить, что дом необходимо возник, потому что тяжелейшие части его внизу, а легкие вверху, так что, следуя своей природе, фундамент опустился ниже земли, а сверх земли улеглись бревна… Конечно, и это отношение было в расчете, однако не вследствие его воздвигнули дом. Так и во всем для чего-нибудь существующем: оно, т. е. существующее, не без того, что необходимо его природе, но и не потому. Такая необходимость относится к предмету как вещественность вообще; в материи необходимость, а в основе – цель, и то и другое – начало, но цель – высшее». Она – двигающее, которому необходимое – необходимо, но она не покоряется ему, а, совсем напротив, держит его в своей власти, не дает ему вырваться из целеобразности и удерживает внешнюю силу необходимости.