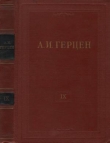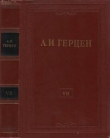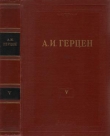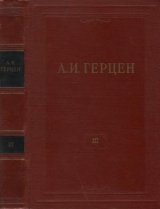
Текст книги "Том 3. Дилетантизм в науке. Письма об изучении природы"
Автор книги: Александр Герцен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 25 страниц)
Различие ученых с дилетантами весьма ярко. Дилетанты любят науку – но не занимаются ею; они рассеиваются по лазури, носящейся над наукой, которая точно так же ничего, как лазурь земной атмосферы. Для ученых наука – барщина, на которой они призваны обработать указанную полосу; занимаясь кочками, мелочами, они решительно не имеют досуга бросить взгляд на все поле. Дилетанты смотрят в телескоп, – оттого видят только те предметы, которые, по меньшей мере, далеки, как луна от земли, – а земного и близкого ничего не видят. Ученые смотрят в микроскоп, и потому не могут видеть ничего большого; для того, чтоб быть ими замеченным, надобно быть незаметным глазу человеческому; для них существует не кристальный ручей, а капля, наполненная гомеопатическими гадами. Дилетанты любуются наукой так, как мы любуемся Сатурном: на благородной дистанции и ограничиваясь знанием, что он светится и что на нем обруч. Ученые так близко подошли к храму науки, что не видят храма и ничего не видят, кроме кирпича, к которому пришелся их нос. Дилетанты – туристы в областях науки и, как вообще туристы, знают о странах, в которых они были, общие замечания да всякий вздор, газетную клевету, светские сплетни, придворные интриги. Ученые – фабричные работники и, как вообще работники, лишены умственной развязности, что не мешает им быть отличными мастерами своего дела, вне которого они никуда не годны. Каждый дилетант занимается всем scibile[36]36
познаваемым (итал.) – Ред.
[Закрыть] да еще, сверх того, тем, чего знать нельзя, т. е. мистицизмом, магнетизмом, физиогномикой, гомеопатией, гидропатией и пр. Ученый, наоборот, посвящает себя одной главе, отдельной ветви какой-нибудь специальной науки и, кроме ее, ничего не знает и знать не хочет. Такие занятия имеют иногда свою пользу, доставляя факты для истинной науки. От дилетантов, само собою разумеется, никому и ничему нет пользы. Многие думают, что самоотвержение, с которым ученые обрекают себя на кабинетную жизнь, на скучную работу, однообразную и утомительную, для пользы своей науки, заслуживает великой благодарности со стороны общества. Мне кажется, награда всякому труду в самом труде, в деятельности. Но, не подымаясь в эту сферу, расскажу один старый анекдот.
Какой-то добрый француз сделал модель парижского квартала из воска с удивительною отчетливостию. Окончив долголетний труд свой, он поднес его Конвенту единой и нераздельной республики. Конвент, как известно, был нрава крутого и оригинального. Сначала он промолчал: ему и без восковых кварталиков было довольно дела – образовать несколько армий, прокормить голодных парижан, оборониться от коалиций… Наконец, он добрался до модели и решил: «Гражданина такого-то, которого произведения нельзя не признать оконченно-выполненным, посадить на шесть месяцев в тюрьму за то, что он занимался бесполезным делом, когда отечество было в опасности». С одной стороны, Конвент прав; но вся беда Конвента состояла в том, что он во всех делах смотрел с одной стороны, да и то не с самой приятной. Ему не пришло в голову, что человек, который мог с охотой заниматься годы целые леплением из воска, и притом такие годы, – не мог никуда быть иначе употреблен. Мне кажется, подобных людей не следует ни наказывать, ни награждать. Специалисты науки находятся в этом положении: им ни брани, ни похвалы; их занятия, без сомнения, не хуже да и, конечно, не лучше всех будничных занятий человеческих. Странная несправедливость состоит в том, что ученых считают повыше простых граждан, освобождают от всяких общественных тягостей, потому что они ученые, – а они рады сидеть в халате и предоставлять другим все заботы и труды. За то, что человек имеет мономанию к камням или к медалям, к раковинам или к греческому языку, за это его ставить в исключительное положение – нет достаточной причины. Между тем избалованные обществом ученые дошли было до троглодитовски дикого состояния. И теперь всякий знает, что нет ни одного дела, которое можно поручить ученому: это вечный недоросль между людьми; он только не смешон в своей лаборатории, музеуме. Ученый теряет даже первый признак, отличающий человека от животного, – общественность: он конфузится, боится людей; он отвык от живого слова; он трепещет перед опасностью; он не умеет одеться; в нем что-то жалкое и дикое. Ученый – это готтентот с другой стороны, так, как Хлестаков был генерал с другой стороны. Таково клеймо, которым отмечает Немезида людей, думающих выйти из человечества и не имеющих на то права. А они требуют, чтоб мы признали их превосходство над нами; требуют какого-то спасиба от человечества, воображают себя в авангарде его! Никогда! Ученые – это чиновники, служащие идее, это бюрократия науки, ее писцы, столоначальники, регистраторы. Чиновники не принадлежат к аристократии, и ученые не могут считать себя в передовой фаланге человечества, которая первая освещается восходящей идеей и первая побивается грозой. В этой фаланге может быть и ученый, так, как может быть и воин, и артист, и женщина, и купец. Но они избираются не по званиям, а по тому, что на челе их увидели след божественной искры; они принадлежат не к ученому сословию, а просто к тому кругу образованных людей, который развился до живого уразумения понятия человечества и современности. Этот круг, более или менее просторный, смотря по степени просвещения страны, есть живая, полная сил среда, пышный цвет, в который втекают разными жилами все соки, трудно разработанные, и преображаются в пышный венчик. В нем настоящее, переходя в будущее, развертывается во всей красе и благоухании для того, чтоб насладиться настоящим; но предупредим недоразумение – эта аристократия далеко не замкнута: она, как Фивы, имеет сто широких врат, вечно открытых, вечно зовущих.
Каждый может войти в ворота – но труднее в них пройти ученому, нежели всякому другому. Ученому мешает его диплом: диплом – чрезвычайное препятствие развитию; диплом свидетельствует, что дело кончено, consummatum est[37]37
завершено (лат.) – Ред.
[Закрыть]; носитель его совершил в себе науку, знает ее. Жан-Поль говорит в «Леване»: «Когда ребенок сказал неправду, скажите ему, что он сделал дурно, скажите, что он солгал, но не называйте лгуном: он, наконец, поверит, что он лгун». Это замечание очень идет сюда: получив диплом, человек в самом деле воображает, что он знает науку, в то время когда диплом имеет, собственно, одно гражданское значение; но носитель его чувствует себя отделенным от рода человеческого: он на людей без диплома смотрит как на профанов. Диплом, точно иудейское обрезание, делит людей на два человечества. Юноша, получивший диплом, или принимает его за акт освобождения от школы, за подорожную в жизнь, – и тогда диплом не сделает ни вреда, ни пользы; или он в гордом сознании отделяется от людей и принимает диплом за право гражданства в республике litterarum[38]38
наук (лат.). – Ред.
[Закрыть], и идет подвизаться на схоластическом форуме ее. Республика ученых – худшая республика из всех когда-нибудь бывших, не исключая Парагвайской во время управления ею ученым доктором Франциа. Юношу вступившего встречают нравы и обычаи, окостенелые и наросшие поколениями; его вталкивают в споры, бесконечные и совершенно бесполезные; бедный истощает свои силы, втягивается в искусственную жизнь касты и забывает мало-помалу все живые интересы, расстается с людьми и с современностью; с тем вместе начинает чувствовать высоту жизни в области схоластики, привыкает говорить и писать напыщенным и тяжелым языком касты, считает достойными внимания только те события, которые случились за 800 лет и были отвергаемы по-латине и признаваемы по-гречески. Но это еще не все: это медовый месяц; вскоре им овладевает односторонняя исключительность (вроде idée fixe[39]39
навязчивой идеи (франц.). – Ред.
[Закрыть] у поврежденных). Он предается специальности, делается ремесленником; наука теряет для него свою торжественность; для слуги нет великого человека, – и цеховой ученый готов!
Но может ли существовать наука без специальных занятий? Разве энциклопедическая поверхностность, за все хватающаяся, не есть именно недостаток дилетантизма? Конечно, не может; но вот в чем дело.
Наука – живой организм, которым развивается истина. Истинная метода одна: это собственно процесс ее органической пластики; форма, система – предопределены в самой сущности ее понятия и развиваются по мере стечения условий и возможностей осуществления их. Полная система есть расчленение и развитие души науки до того, чтоб душа стала телом и тело стало душою. Единство их одействотворяется в методе. Никакая сумма сведений не составит науки до тех пор, пока сумма эта не обрастет живым мясом, около одного живого центра, т. е. не дойдет до пониманья себя телом его. Никакая блестящая всеобщность, с своей стороны, не составит полного, наукообразного знания, если, заключенная в ледяную область отвлечений, она не имеет силы воплотиться, раскрыться из рода в вид, из всеобщего в личное, если необходимость индивидуализации, если переход в мир событий и действий не заключен во внутренней потребности ее, с которой она не может совладеть. Все живое живо и истинно только как целое, как внутреннее и внешнее, как всеобщее и единичное – сосуществующие. Жизнь связует эти моменты; жизнь – процесс их вечного перехода друг в друга. Одностороннее пониманье науки разрушает неразрывное – т. е. убивает живое. Дилетантизм и формализм держатся в отвлеченной всеобщности; оттого у них нет действительных знаний, а есть только тени. Они легко расплываются оттого, что кругом пустота; они для легкости ноши хотели отделить жизнь – от живущего; ноша стала в самом деле легка, потому что такое отвлечение – ничего. А это ничего есть любимая среда дилетантов всех степеней; они в нем видят беспредельный океан и довольны простором для мечтаний и фантазий. Но если очевидно нечто безумное в мысли отделить жизнь от живого организма и между тем сохранить ее, то ошибка специализма, конечно, не лучше. Он всеобщего знать не хочет; он до него никогда не поднимается; он за самобытность принимает всякую дробность и частность, удерживая их самобытность: специализм может дойти до каталога, до всяких субсумаций, но никогда не дойдет до их внутреннего смысла, до их понятия, до истины наконец, потому, что в ней надобно погубить все частности; путь этот похож на определение внутренних свойств человека по калошам и пуговицам. Все внимание специалиста обращено на частности; он с каждым шагом более и более запутывается; частности делаются дробнее, ничтожнее, деление не имеет границ; темный хаос случайностей стережет его возле и увлекает в болотистую тину той закраины бытия, которую свет не объемлет: это его бесконечное море в противоположность дилетантскому. Всеобщее, мысль, идея – начало, из которого текут все частности, единственная нить Ариадны, – теряется у специалистов, упущена из вида за подробностями; они видят страшную опасность: факты, явления, видоизменения, случаи давят со всех сторон; они чувствуют природный человеку ужас заблудиться в многоразличии всякой всячины, ничем не сшитой; они так положительны, что не могут утешаться, как дилетанты, каким-нибудь общим местом, и в отчаянии, теряя единую, великую цель науки, ставят границей стремления Orientierung[40]40
ориентацию (нем.). – Ред.
[Закрыть]. Лишь бы найтися, лишь бы не быть засыпану с головой песком фактов, сыплющихся отвсюду. Желание найтися наводит на искусственные системы и теории, на искусственные классификации и всякие построения, о которых вперед знают, что они не истинны. Такие теории трудны для изучения, потому что они противоестественны, и они-то составляют непреоборимые укрепления, за стенами которых сидят ученые себе на уме. Эти теории – наросты, бельмы на науке; их должно в свое время срезать, чтоб раскрыть зрение; но они составляют гордость и славу ученых. В последнее время не было известного медика, физика, химика, который не выдумал бы своей теории – Бруссе и Гей-Люссак, Тенар и Распайль и tutti quanti[41]41
и прочие (итал.). – Ред.
[Закрыть]. Но чем добросовестнее ученый, тем меньше он сам может удовлетвориться подобными теориями: лишь только он принял какую-нибудь, чтоб скрепить связку фактов, он наталкивается на факт, очевидно, не идущий в меру; надобно для него сделать отдел, новое правило, новую гипотезу, а эта новая гипотеза противоречит старой – и чем дальше в лес, тем больше дров. Ученый должен по своей части знать все теории и при этом не забывать, что все они вздор (как оговариваются во всех французских курсах физики и химии). Посвящая время на полезные изучения прошедших ошибок, он не может найти мгновений, чтоб заняться не по своей части, еще менее – чтоб подняться в сферу истинной науки, обнимающей все частные предметы как свои ветви. Впрочем, ученые не верят в нее; они на мыслителей посматривают иронически улыбаясь, как Наполеон смотрел на идеологов. Они люди положительного опыта, наблюдения. А между тем ни положительность, ни материализм не мешают им быть, по превосходству, идеалистами. Искусственные методы, системы, субъективные теории разве не крайность идеализма? Как бы человек ни считал себя занимающимся одними фактами, внутренняя необходимость ума увлекает его в сферу мысли, к идее, к всеобщему; специалисты выигрывают упорным непослушанием только то, что, вместо правильного пути поднятия, они блуждают в странной среде, которой дно – факты без связи, а верх – теоретические мечтания без связи. Поднимаясь по-своему во всеобщее, они не хотят упустить ни одной частности, а в той сфере не принимается ничего, точимого молью: одно вечное, родовое, необходимое призвано в науку и освещено ею. Мир фактический служит, без сомнения, основой науки; наука, опертая не на природе, не на фактах, есть именно туманная наука дилетантов. Но, с другой стороны, факты in crudo[42]42
в сыром виде (лат.). – Ред.
[Закрыть], взятые во всей случайности бытия, несостоятельны против разума, светящего в науке. В науке природа восстановляется, освобожденная от власти случайности и внешних влияний, которая притесняет ее в бытии; в науке природа просветляется в чистоте своей логической необходимости; подавляя случайность, наука примиряет бытие с идеей, восстановляет естественное во всей чистоте, понимает недостаток существования (des Daseins) и поправляет его, как власть имущая. Природа, так сказать, жаждала своего освобождения от уз случайного бытия, и разум совершил это в науке. Люди отвлеченной метафизики должны опуститься из своего поднебесья именно в физику (в обширнейшем смысле слова), и в нее же должны подняться роющиеся в земле специалисты. В науке, принимаемой таким образом, нет ни теоретических мечтаний, ни фактических случайностей: в ней – себя и природу созерцающий разум.
Главное, что делает науку ученых трудною и запутанною, – это метафизические бредни и тьма-тьмущая специальностей, на изучение которых посвящается целая жизнь и схоластический вид которых отталкивает многих. Но в истинной науке необходимо улетучивается то и другое и остается стройный организм, разумный и оттого просто понятный. Наука достигает теперь перед нашими глазами до понятия себя в истинном значении. Если б не было так, и нам не пришло бы в голову говорить об этом. Всегда и вечно будет техническая часть отдельных отраслей науки, которая очень справедливо останется в руках специалистов, но не в ней дело. Наука, в высшем смысле своем, сделается доступна людям, и тогда только она может потребовать голоса во всех делах жизни. Нет мысли, которую нельзя было бы высказать просто и ясно, особенно в ее диалектическом развитии. Буало прав:
Мы, улыбаясь, предвидим теперь смешное положение ученых, когда они хорошенько поймут современную науку; ее истинные результаты до такой степени просты и ясны, что они будут скандализованы: «Как! Неужели мы бились и мучились целую жизнь, а ларчик так просто открывался?» Теперь еще они сколько-нибудь могут уважать науку, потому что надобно иметь некоторую силу, чтоб понять, как она проста, и некоторую сноровку, чтоб узнавать ясную истину под плевою схоластических выражений, а они и не догадываются об ее простоте. Но если, в самом деле, истинная наука так проста, зачем же высшие представители ее, например, Гегель, говорили тоже трудным языком? Гегель, несмотря на всю мощь и величие своего гения, был тоже человек; он испытал панический страх просто выговориться в эпоху, выражавшуюся ломаным языком, так, как боялся идти до последнего следствия своих начал; у него недостало геройства последовательности, самоотвержения в принятии истины во всю ширину ее и чего бы она ни стоила. Величайшие люди останавливались перед очевидным результатом своих начал; иные, испугавшись, шли вспять и, вместо того, чтоб искать ясности, затемняли себя. Гегель видел, что многим из общепринятого надобно пожертвовать; ему жаль было разить; но, с другой стороны, он не мог не высказать того, что был призван высказать. Гегель часто, выведя начало, боится признаться во всех следствиях его и ищет не простого, естественного, само собою вытекающего результата, но еще чтоб он был в ладу с существующим; развитие делается сложнее, ясность затемняется. Присовокупим к этому дурную привычку говорить языком школы, которую он поневоле должен был приобрести, говоря всю жизнь с немецкими учеными. Но мощный гений его и тут прорывается во всем колоссальном своем величии. Возле запутанных периодов вдруг одно слово, как молния, освещает бесконечное пространство вокруг, и душа ваша долго еще трепещет от громовых раскатов этого слова и благоговеет перед высказавшим его. Нет укора от нас великому мыслителю! Никто не может стать настолько выше своего века, чтоб совершенно выйти из него, и если современное поколение начинает проще говорить и рука его смелее открывает последние завесы Изиды, то это именно потому, что Гегелева точка зрения у него вперед шла, была побеждена для него. Человек настоящего времени стоит на горе и разом обнимает обширный вид; но проложившему дорогу на гору вид этот раскрывался мало-помалу. Когда Гегель взошел первый, ширина вида его подавила; он стал искать своей горы: ее не было видно на вершине; он испугался: она слишком тесно связалась со всеми испытаниями его, со всеми воспоминаниями, со всеми судьбами, которые он пережил; он хотел сохранить ее. Юное поколение, легко взнесшееся на мощных раменах гениального мыслителя, не имеет уже к горе ни той любви, ни того уважения: для него она прошедшее.
Когда юное возмужает, когда оно привыкнет к высоте, оглядится, почувствует себя там дома, перестанет дивиться широкому, бесконечному виду и своей воле, – словом, сживется с вершиной горы, тогда его истина, его наука выскажется просто, всякому доступно. И это будет!
1842. Ноябрь.
<Статья четвертая>
Буддизм в науке*
Погубящий свою душу найдет ее.
Вера без дел мертва.
Наука, сказали мы прежде, провозгласила всеобщее примирение в сфере мышления, и жаждавшие примирения раздвоились: одни отвергли примирение науки, не обсудив его, другие приняли поверхностно и буквально; были и есть, само собою разумеется, истинно понявшие науку, – они составляют македонскую фалангу ее, о которой мы не предположили себе говорить в ряде этих статей. Потом мы сделали опыт взглянуть на непримиримых и видели, что по большей части им не позволяет больное и испорченное зрение туда смотреть, куда следует, так видеть, как совершается, так понимать, как сказано; личный недостаток в органах зрения переносится ими на зримое. Болезненность глаза не всегда свидетельствует о слабости его; иногда с нею вместе соединяется чрезвычайная сила, но отклоненная от естественного отправления своего. Теперь обратимся к примиренным. В их числе есть люди ненадежные, положившие оружие при первом выстреле, принявшие все условия с самоотвержением, приводящим в отчаяние, с подозрительною беспрекословностию. Мы их назвали мухаммеданами в науке, но не оставим при них этого названия, напоминающего пестрые и яркие картины Халифата и Алгамбры, их несравненно вернее можно назвать буддистами в науке[44]44
Буддисты принимают существование за истинное зло, ибо все существующее – призрак. Верховное бытие для них – пустота бесконечного пространства. Переходя из степени в степень, они достигают высшего конечного блаженства несуществования, в котором находят полную свободу (Клапрот). Какое родственное сходство!
[Закрыть]. Постараемся высказать нашу мысль о них как можно яснее, без притязаний, простыми средствами разговорной речи.
Наука не только провозгласила, но и сдержала слово: она, действительно, достигла примирения в своей сфере. Она явилась тем вечным посредством, которое сознанием, мыслию снимает противоположности, примиряет их обличением их единства, примиряет их в себе и собою, сознанием себя правдой борющихся начал. Требование было бы безумно, если б вменили ей в обязанность совершить что-нибудь вне своей сферы. Сфера науки – всеобщее, мысль, разум как самопознающий дух, и в ней она исполнила главную часть своего призвания – за остальную можно поручиться. Она поняла, сознала, развила истину разума как предлежащей действительности; она освободила мысль мира из события мира, освободила все сущее от случайности, распустила все твердое и неподвижное, прозрачным сделала темное, свет внесла в мрак, раскрыла вечное во временном, бесконечное в конечном и признала их необходимое сосуществование; наконец, она разрушила китайскую стену, делившую безусловное, истину от человека, и на развалинах ее водрузила знамя самозаконности разума. Останавливая человека на простом событии чувственной достоверности, начав с ним личные умствования, она развивает в нем родовую идею, всеобщий разум, освобожденный от личности. Она требует с самого начала жертвоприношения личностию, заклания сердца – это ее conditio sine qua non[45]45
непременное условие (лат.). – Ред.
[Закрыть]. И как бы это ужасно ни казалось, она права: у науки одна сфера всеобщего, мысли. Разум не знает личности этой; он знает одну необходимость личностей вообще; разум, как высшая справедливость, нелицеприятен. Оглашенный наукой должен пожертвовать своей личностью, должен ее понять не истинным, а случайным и, свергая ее со всеми частными убеждениями, взойти в храм науки. Этот искус для одних слишком труден, для других слишком легок. Мы видели, как дилетантам наука недоступна, оттого, что между ими и наукой стоит их личность; они ее удерживают трепетной рукой и не подходят близко к стремительному потоку ее, боясь, что быстрое движение волн унесет и утопит; а если и подходят, то забота самосохранения не дозволяет ничего видеть. Таким людям наука не может раскрыться оттого, что они ей не раскрываются. Наука требует всего человека, без задних мыслей, с готовностью все отдать и в награду получить тяжелый крест трезвого знания. Человек, который ничему не может распахнуть груди своей, жалок; ему не одна наука затворяет свою храмину; он не может быть ни глубоко религиозным, ни истинным художником, ни доблестным гражданином; ему не встретить ни глубокой симпатии друга, ни пламенного взгляда взаимной любви. Любовь и дружба – взаимное эхо: они дают столько, сколько берут. В противоположность этим скупцам и эгоистам нравственного мира есть моты и расточители, не ставящие ни во что ни себя, ни свое достояние; радостно бегут они к самоуничтожению во всеобщем и при первом слове бросают и убеждения свои и свою личность, как черное белье. Но невеста, которой они искали, своенравна; она потому не хочет брать душу этих людей, что они легко отдают ее и не требуют назад, – напротив, довольны, что отделались от нее. Она права: хороша личность, которую бросают в окошко! Но как же быть? Погуби свою личность, а там – удерживай свою личность – логомахия новой каббалистики!
Личность погибла в науке; но не имеет ли личность, сверх призвания в сферу всеобщего, иного призвания, и если то призвание лично, то оно не может поглотиться наукой, именно потому, что она улетучивает личное, обобщая его. Процесс погубления личности в науке есть процесс становления – в сознательную, свободно разумную личность из непосредственно естественной; она приостановлена для того, чтоб вновь родиться. Ведь и парабола погибла в уравнении параболы, и цифра погибла в формуле. Алгебра – логика математики; алгоритм ее представляет всеобщие законы, результат и самое движение в родовом, вечном, безличном виде. Но парабола только притаилась в уравнении, не умерла в нем, так, как и цифра в формуле. Для получения действительно сущего результата буква заменяется цифрой, формула получает живую особность, уносится в мир событий, из которого вышла, движется и оканчивается практическим результатом, не уничтожая, с своей стороны, формулу. Выкладка исполнила ее практическим одействотворением и, попрежнему спокойная, царит в сфере всеобщего. Примеры из формальной науки всегда способствуют к уразумению, если только мы не будем забывать, что спекулятивная наука не токмо формальная, что ее формула исчерпывает и самое содержание. Итак, личность, разрешающаяся в науке, не безвозвратно погибла: ей надобно пройти чрез эту гибель, чтоб убедиться в невозможности ее. Личности надобно отречься от себя для того, чтоб сделаться сосудом истины, забыть себя, чтоб не стеснять ее собою, принять истину со всеми последствиями и в числе их раскрыть непреложное право свое на возвращение самобытности. Умереть в естественной непосредственности значит воскреснуть в духе, а не погибнуть в бесконечном ничего, как погибают буддисты. Эта победа над собою возможна и действительна, когда есть борьба; рост духа труден, как рост тела. То делается нашим, что выстрадано, выработано; что даром свалилось, тому мы цены не знаем. Игроки бросают деньги горстями. Стоило ли испытывать Авраама, если б ему ничего не стоило убить Исаака? Здоровая, сильная личность не отдается науке без боя; она даром не уступит шагу; ей ненавистно требование пожертвовать собою, но непреодолимая власть влечет ее к истине; с каждым ударом человек чувствует, что с ним борется мощный, против которого сил не довлеет: стеная, рыдая, отдает он по клочку все свое – и сердце и душу. Так Одиссей, погибая в волнах и цепляясь за скалы, прежде нежели спасся, орумянил их своею кровью и оставил на них куски своего мяса. Победитель беспощаден, требует всего – и побежденный отдает все; но победитель в самом деле не возьмет: на что ему человеческое? Человеку нужно было отдать, а не ему взять. Формалистам, вечно находящимся в мире отвлеченном, уступка личностью ничего не значит, и потому они через такую уступку ничего не приобретают; они забывают жизнь и деятельность; лиризм и страстность их удовлетворяются отвлеченным пониманием, оттого им не стоит ни труда, ни страданий пожертвовать личным благом своим. Им убить Исаака ничего не стоит. Формалисты науку изучают как нечто внешнее; до некоторой степени они могут усвоивать себе ее остов, ее выражения, полагая, что они приняли в себя ее животворящую душу. Науку надобно прожить, чтоб не формально усвоить ее себе. Переломивший ногу полнее и тверже всякого врача знает, какая именно боль при переломе. Прострадать феноменологию духа, исходить горячею кровью сердца, горькими слезами очей, худеть от скептицизма, жалеть, любить многое, много любить и все отдать истине – такова лирическая поэма воспитания в науку. Наука делается страшным вампиром, духом, которого нельзя прогнать никаким заклинанием, потому что человек вызвал его из собственной груди и ему некуда скрыться. Тут надобно оставить приятную мысль благоразумно заниматься в известный час дня беседой с философами для образования ума и украшения памяти. Вопросы страшные безотходны: куда ни отвернется несчастный, они перед ним, писанные огненными буквами Даниила, и тянут куда-то вглубь, и сил нет противостоять чарующей силе пропасти, которая влечет к себе человека загадочной опасностью своей. Змея мечет банк; игра, холодно начинающаяся с логических общих мест, быстро развертывается в отчаянное состязание; все заповедные мечты, святые, нежные упования, Олимп и Аид, надежда на будущее, доверие настоящему, благословение прошедшему – все последовательно является на карте, и она, медленно вскрывая, без улыбки, без иронии и участия, повторяет холодными устами: «убита». Что еще поставить? Все проиграно; остается поставить себя; понтер ставит, и с той минуты игра меняется. Горе тому, кто не доигрался до последней талии, кто остановился на проигрыше: или он падает под тяжестию мучительного сомнения, снедаемый алканием горячей веры, или примет проигрыш за выигрыш и самодовольно примирится с своим увечьем; первое – путь к нравственному самоубийству, второе – к бездушному атеизму. Личность, имевшая энергию себя поставить на карту, отдается науке безусловно; но наука не может уже поглотить такой личности, да и она сама по себе не может уничтожиться во всеобщем – слишком просторно. Погубящий душу найдет ее. Кто так дострадался до науки, тот усвоил ее себе не токмо как остов истины, но как живую истину, раскрывающуюся в живом организме своем; он дома в ней, не дивится более ни своей свободе, ни ее свету; но ему становится мало ее примирения; ему мало блаженства спокойного созерцания и видения; ему хочется полноты упоения и страданий жизни; ему хочется действования, ибо одно действование может вполне удовлетворить человека. Действование – сама личность. Когда Данте вступил в светлую область, в которой нет ни плача, ни воздыхания, когда он увидел бесплотных жителей рая, ему стало стыдно тени, бросаемой его телом. Ему, земному, не товарищи были эти светлые, эфирные, и он пошел опять в нашу юдоль, опираясь на свой посох бездомного изгнанника; но теперь уж он не потеряет тропинки, не упадет середь дороги от устали и изнеможения. Он пережил свое становление, выстрадал его; он блуждал по жизни и прошел мучениями ада; он лишался чувств от вопля и стона и раскрывал мутный, испуганный взор, вымаливая каплю утешения, вместо которого снова стоны, e nuovi tormenti, е nuovi tormentati[46]46
и новые мучения, и новые мученики (итал.). – Ред.
[Закрыть]. Но он дошел до Люцифера, и тогда поднялся через светлое чистилище в сферу вечного блаженства бесплотной жизни, узнал, что есть мир, в котором человек счастлив, отрешенный от земли, – и воротился в жизнь и понес ее крест.
Буддисты науки, так или сяк поднявшись в сферу всеобщего, из нее не выходят. Их калачом не заманишь в мир действительности и жизни. Кто им велит променять обширную храмину, в которой делать нечего, а почетно, – на нашу жизнь с ее бушующими страстями, где надобно работать, а иногда погибнуть? Одни тела, имеющие удельный вес, тяжелее воды и тонут; щепы и солома важно плавают по поверхности. Формалисты нашли примирение в науке, но примирение ложное; они больше примирились, нежели наука могла примирить; они не поняли, как совершено примирение в науке; вошедши с слабым зрением, с бедными желаниями, они были поражены светом и богатством удовлетворения. Им понравилась наука так же неосновательно, как дилетантам не понравилась. Они вообразили, что достаточно знать примирение, а одействотворять его не нужно. Отступив от мира и рассматривая его с отрицательной точки, им не захотелось снова взойти в мир; им показалось достаточным знать, что хина лечит от лихорадки, для того чтоб вылечиться; им не пришло в голову, что для человека наука – момент, по обеим сторонам которого жизнь: с одной стороны – стремящаяся к нему – естественно-непосредственная, с другой – вытекающая из него – сознательно-свободная; они не поняли, что наука – сердце, в которое втекает темная венозная кровь не для того, чтоб остаться в нем, а чтоб, сочетавшись с огненным началом воздуха, разлиться алой артериальной кровью. Формалисты подумали, что приехали в пристань в то время как в самом деле им следовало отчаливать; они сложили руки, узнав, в чем дело, т. е. когда последовательность заставляла их раскрыть руки. Для них знание заплатило за жизнь, и им ее больше не нужно: они узнали, что наука – цель самой себе, и вообразили, что наука – исключительная цель человека. Примирение науки – снова начатая борьба, достигающая примирения в практических областях; примирение науки – в мышлении, но «человек не токмо мыслящее, но и действующее существо»[47]47
Это сказал Гёте; Гегель в «Пропедевтике» (том XVIII, § 63) говорит: «Слово не есть еще деяние, которое выше речи». И германцы, стало, понимали это.
[Закрыть]. Примирение науки всеобщее и отрицательное – оттого ей личность не нужна; положительное примирение может только быть в деянии свободном, разумном, сознательном. В тех сферах, в которых личность сохранила необходимость проявления ее в деяниях очевидца, в религии, например, не одно возношение лиц, но и нисхождение к лицам, сохранение их; в ней вера признана мертвою без дел, любовь поставлена выше всего. Отвлеченная мысль есть беспрерывное произношение смертного приговора всему временному, казнь неправого, ветхого во имя вечного и непреходящего; оттого наука ежеминутно отрицает воображаемую незыблемость существующего. Деяние сознательной любви творчески создательно. Любовь есть всеобщее прощение, снисходительное, прижимающее к груди своей самое временное за след вечного, отпечатленного на нем. Но чистые отвлечения не имеют возможности существовать, противоположное находит место, вкрадывается и развивается в доме врага своего; отрицание науки чревато с первого появления положительным. Эта скрытая положительность освобождается любовью, струится во все стороны, как теплотвор, беспрерывно стремясь найти условия осуществления и выхода из области всеобщего отрицания в область свободного деяния; когда наука достигает высшей точки, она естественно переходит самое себя. В науке мышление и бытие примирены; но условия мира деланы мыслию – полный мир в деянии. «Деяние есть живое единство теории и практики», – сказал слишком за две тысячи лет величайший мыслитель древнего мира[48]48
Аристотель.
[Закрыть]. В деянии разум и сердце поглотились одействотворением, исполнили в мире событий находившееся в возможности. Мироздание, история не вечные ли деяния? Деяние отвлеченного разума – мышление, уничтожающее личность; человек бесконечен в нем, но теряет себя; он вечен в мысли, но он – не он; деяние отвлеченного сердца – частный поступок, не имеющий возможности раскрыться во всеобщее; в сердце человек у себя – но преходящ. В разумном, нравственно свободном и страстно энергическом деянии человек достигает действительности своей личности и увековечивает себя в мире событий. В таком деянии человек вечен во временности, бесконечен в конечности, представитель рода и самого себя[49]49
Над этими выражениями посмеются наши люстихи; не будем так робки, пусть люстихи посмеются; на то они люстихи. Смех для них вознаграждение непониманью; из человеколюбия надобно им предоставить такой дешевый реванш.
[Закрыть], живой и сознательный орган своей эпохи. Истина, высказанная нами, далека от того, чтоб быть сознанною. Могущественнейшие и величайшие представители современного человечества поняли мысль и деяние разно и односторонно. Степенная, глубоко чувствующая и созерцающая Германия определила себе человека как мышление, науку признала целью и нравственную свободу поняла только как внутреннее начало. Она никогда не имела вполне развитого смысла практической деятельности; обобщая каждый вопрос, она выходила из жизни в отвлечения и оканчивала односторонним разрешением. Савонарола, следуя инстинкту жизни романских народов, сделался главою политической партии[50]50
«Романские народы имеют характеристику резче германцев, они определенные цели свои исполняют с чрезвычайной твердостью, обдуманностью и ловкостью». «Philosophie der Geschichte», p. 422, Tome IX.
[Закрыть]. Германские реформаторы, уничтожив в половине Германии католицизм, не выступили из области теологии и схоластических споров; фазы новой французской истории повторялись в Германии в области науки и отчасти искусства. Германический мир имеет сам в себе и противоположное направление, также отвлеченное и одностороннее. Англия одарена величайшим смыслом жизни и деятельности, но всякое деяние ее есть частное; общечеловеческое у британца превращается в национальное; всеобъемлющий вопрос сводится на местный. Англия морем отделена от человечества и, гордая своей замкнутостью, не раскрывает своей груди интересам материка, британец никогда не отступится от своей личности; он знает великую заслугу свою, то неприкосновенное величие, тот нимб уважения, которым он окружил именно идею личности. Заснувшие народы Италии и вновь выступающие испанцы не заявили никаких прав на поприще, о котором мы говорим. Остаются два народа, на которые невольно обращается взгляд. С одной стороны Франция – самым счастливым образом поставленная относительно европейского мира, сбегающегося в ней, опираясь на край романизма, и соприкасающаяся со всеми видами германизма от Англии, Бельгии до стран, прилегающих Рейну; романо-германская сама, она как будто призвана примирить отвлеченную практичность средиземных народов с отвлеченной умозрительностью зарейнской, поэтическую негу солнечной Италии с индустриальной хлопотливостью туманного острова. Доселе Франция и Германия не понимали друг друга вполне; разное волновало их, разное влекло их, одни и те же предметы выражались иными языками; весьма недавно они узнали друг друга: их познакомил Наполеон, и после взаимных посещений, когда улеглись страсти вместе с пороховым дымом, они с уважением склонились друг перед другом и признали друг друга. Но истинного единения нет. Наука Германии упорно не переплывает Рейна; беглый ум француза предупреждает диалектическое развитие, хватает из середины какую-нибудь мысль и торопится осуществить ее. Грядущему предлежит разрешить: насколько Франция может быть органом примирения науки и жизни; впрочем, не надобно ошибаться, принимая слишком резко противоположность Франции и Германии: она часто совершенно внешняя. Франция своим путем дошла до заключений, очень близких к заключениям науки германской, но не умеет перенести их на всеобщий язык науки, так как Германия не умеет языком жизни повторить логику. И сверх того, наука германская искони пользовалась Францией. Не говоря о Декарте, влияние энциклопедистов было очень сильно; ей никогда не достигнуть бы своей зрелости без фактического обилия разработанного по всем отраслям во Франции. С другой стороны, может, тут раскроется великое призвание бросить нашу северную гривну в хранилищницу человеческого разумения; может, мы, мало жившие в былом, явимся представителями действительного единства науки и жизни, слова и дела. В истории поздно приходящим – не кости, а сочные плоды. В самом деле, в нашем характере есть нечто, соединяющее лучшую сторону французов с лучшей стороной германцев. Мы несравненно способнее к наукообразному мышлению, нежели французы, и нам решительно невозможна мещански-филистерская жизнь немцев; в нас есть что-то gentlemanlike[51]51
от джентльмена (англ.). – Ред.
[Закрыть], чего именно нет у немцев, и на челе нашем проступает след величавой мысли, как-то не сосредоточивающейся на челе француза.