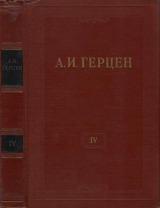
Текст книги "Том 4. Художественные произведения 1842-1846"
Автор книги: Александр Герцен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 23 страниц)
Бельтов не слушал его, а потому беда была не велика, когда речь Крупова перервал хозяин трактира, который, запыхавшись, возвестил приезд г. полицеймейстера.
– Что ему надобно? – спросил Бельтов.
– Имеет до вашей милости дело, – отвечал трактирщик.
– Скажи, что я дома.
Полицеймейстер вошел, страшно гремя саблею; вдали сквозь растворенную дверь виделся тощий комиссар и половой, державший в страхе в руках шинель полицеймейстера.
Бельтов встал и всею фигурою своей выразил вопрос, так что слов не нужно было. Вопрос был естественно тот: за коим диаволом?
– Мне очень жаль, Владимир Петрович, что я должен остановить вас на несколько минут; вы кажется, намерены отбыть из нашего города?
– Да.
– Генерал вас просит побывать к нему. Фирс Петрович Елканевич подал на вас, партикулярным письмом, жалобу его превосходительству насчет оскорбления его чести. Мне очень совестно; согласитесь сами – долг службы; сами изволите знать, мое дело – неумытное исполнение.
– Это чрезвычайно не ко времени. Позвольте вас спросить, это надолго может меня остановить?
– Это будет зависеть от вас; г. Елканевич человек благородный: он, наверное, дела не затянет вдаль, если вы, изволите знать, объяснитесь.
– Да как тут объясняться?
– Ох, Владимир Петрович, что мне это с тобою делать? Ничего, право, не понимаешь, – заметил Крупов. – Ну, хотите, я с г. полицеймейстером буду посредником и кончим в четверть часа?
– Очень бы обязали, истинно обязали бы.
– Помилуйте, – заметил полицеймейстер, – это священная обязанность наша, и самая приятная обязанность, когда можно эдак мирным образом и к общему удовольствию.
Так и случилось.
* * *
…Через две недели по той дороге, по которой некогда мчалась мимо мельницы коляска, запряженная четверкой лихих лошадей, и которая шла от Белого Поля на большую дорогу, подымался дорожный дормез; Григорий сидел на козлах и закуривал трубку, ямщик убеждал лошадей идти дружнее и, чтоб ближе подделаться к их понятиям, произносил одни гласные: о… о… о… у… у… у… а… а… а… и т. д. А по сю сторону реки стояла старушка, в белом чепце и белом капоте; опираясь на руку горничной, она махала платком, тяжелым и мокрым от слез, человеку, высунувшемуся из дормеза, и он махал платком, – дорога шла немного вправо; когда карета заворотила туда, видна была только задняя сторона, но и ее скоро закрыло облаком пыли, и пыль эта рассеялась и, кроме дороги, ничего не было видно, а старушка все еще стояла, поднимаясь на цыпочки и стараясь что-то разглядеть.
Скучно и пусто сделалось старушке в Белом Поле; бывало, все же в неделю раз-другой приедет Вольдемар, она так привыкла слышать издали, еще с горы, бубенчики и выходить к нему навстречу на тот балкон, на котором она некогда ждала его, загорелого отрока с светлым лицом. Ее что-то звало в NN: там жила женщина, любимая ее сыном, несчастная жертва любви к нему. И в самом деле, старушка переехала туда к зиме. Она застала Любовь Александровну потухающею, ненадежною; Семен Иванович, сделавшийся вдвое угрюмее, качал головою, когда его спрашивали об ней; Дмитрий Яковлевич, задавленный горем, молился богу и пил. Софья Алексеевна просила позволения ходить за больной и дни целые проводила у ее кровати, и что-то высоко поэтическое было в этой группе умирающей красоты с прекрасной старостью, в этой увядающей женщине со впавшими щеками, с огромными блестящими глазами, с волосами, небрежно падающими на плечи, – когда она, опирая свою голову на исхудалую руку, с полуотверстым ртом и со слезою на глазах внимала бесконечным рассказам старушки-матери об ее сыне – об их Вольдемаре, который теперь так далеко от них…
<1841–1846>
Сорока-воровка*
Повесть
Посвящено
Михайлу Семеновичу Щепкину
Твой дом, украшенный богато,
Гостям-согражданам открыт;
Там Терпсихора и Эрато
С подругой Талией гостит;
Хозяин, ласковый душою,
Склоняет к ним приветный взор.
«Украинский вестник» на 1816 г.
– Заметили ли вы, – сказал молодой человек, остриженный под гребенку, продолжая начатый разговор о театре, – заметили ли вы, что у нас хотя и редки хорошие актеры, но бывают, а хороших актрис почти вовсе нет, и только в предании сохранилось имя Семеновой; не без причины же это.
– Причину искать недалеко; вы ее не понимаете только потому, – возразил другой, остриженный в кружок, – что вы на все смотрите сквозь западные очки. Славянская женщина никогда не привыкнет выходить на помост сцены и отдаваться глазам толпы, возбуждать в ней те чувства, которые она приносит в исключительный дар своему главе; ее место дома, а не на позорище. Незамужняя – она дочь, дочь покорная, безгласная; замужем – она покорная жена. Это естественное положение женщины в семье если лишает нас хороших актрис, зато прекрасно хранит чистоту нравов.
– Отчего же у немцев, – заметил третий, вовсе не стриженный, – семейная жизнь сохранилась, я полагаю, не хуже, нежели у нас, и это нисколько не мешает появлению хороших актрис? Да потом я и в главном не согласен с вами: не знаю, что делается около очага у западных славян, а мы, русские, право, перестаем быть такими патриархами, какими вы нас представляете.
– А позвольте спросить, где вы наблюдали и изучали славянскую семью? У высших сословий, живущих особою жизнию, в городах, которые оставили сельский быт, один народный у нас, по большим дорогам, где мужик сделался торгашом, где ваша индустрия развратила его довольством, развила в нем искусственные потребности? Семья не тут сохранилась; хотите ее видеть, ступайте в скромные деревеньки, лежащие по проселочным дорогам.
– Однако, странное дело, большие дороги, города, все то, что хранит и развивает других, вредно для славян, так, как вам угодно их представлять; по-вашему, чтоб сохранить чистоту нравов, надобно, чтоб не было проезда, сообщения, торговли, наконец, довольства первого условия развивающейся жизни. Конечно, и Робинзон, когда жил один на острове, был примерным человеком, никогда в карты не играл, не шлялся по трактирам.
– Все можно представить в нелепом виде; шутка иногда рассмешит, но опровергнуть ею ничего нельзя. Есть вещи, которых при всей ловкости западного ума вы не поймете, ну, так не поймете, как человек, лишенный уха, не понимает музыки, что ему вовсе не мешает быть живописцем или чем угодно. Вы не поймете никогда, что бедность, смиренная и трудолюбивая, выше самодовольного богатства. Вы не поймете нашего семейного, отеческого распорядка ни в избе, где отец – глава, ни в целом селе, где глава общины – отец. Вы привыкли к строгим очертаниям прав, к рамам для лиц, сословий, к взаимному обузданью и недоверью, – все это необходимо на Западе: там все основано на вражде, там вся задача государственная, как сказал ваш же поэт, в ловкой борьбе:
Здесь натиск пламенный, а там отпор суровый,
Пружины смелые гражданственности новой.
– Этой дорогой я не думаю, чтоб мы скоро добрались до решения вопроса, отчего у нас редки актрисы, – сказал начавший разговор. – Если для полноты ответа вы хотите chemin faisant[53]53
попутно (франц.). – Ред.
[Закрыть] разрешить все исторические и политические вопросы, то надобно будет посвятить на это лет сорок жизни, да и то еще успех сомнителен. Вы, любезный славянин, сколько я понимаю, хотите сказать, что у нас оттого нет актрис, что женщина существует не как лицо, а как член семейства, которым она поглощается: тут много истинного. Однако вы полагаете, что семейство – в маленьких деревеньках; ну, а ведь актрисы берутся не из этих же деревенек, к которым нет проезда.
– Здесь позвольте мне отвечать вам, – заметил европеец (так мы будем называть нестриженного), – у нас вообще и по шоссе и по проселочным дорогам женщина не получила того развязного права участия во всем, как, например, во Франции; встречаются исключения, но всегда неразрывные с каким-то фанфаронством, – лучшее доказательство, что это исключение. Женщина, которая бы вздумала у нас вести себя наравне с образованным мужчиной, не свободно бы пользовалась своими правами, а хотела бы выказать свое освобождение.
– Конечно, такая женщина была бы урод; и по счастию, – возразил славянин, – не у нас надобно искать la femme émancipée[54]54
эмансипированную женщину (франц.). – Ред.
[Закрыть], да и вообще надобно ли ее где-нибудь искать – я не знаю. Вот что касается до человеческих прав, то обратите несколько внимания на то, что у нас женщина пользовалась ими с самой глубокой древности больше, нежели в Европе, ее именье не сливалось с именьем мужа, она имеет голос на выборах, право владения крестьянами.
– Конечно, из прав, которыми пользуются у нас дамы, не все принадлежат европейской женщине. Но, извините, здесь речь вовсе не о писанных правах, а именно о правах неписанных, об общественном мнении. Что сказали бы мы сами, если бы в нашу беседу, очень тихую и не имеющую в себе ничего оскорбительного, вдруг явилась одна из знакомых дам? Я уверен, что и нам и ей было бы не по себе; мы совсем иначе настроиваем себя, если предвидим дамское общество: в этом недостаток уважения к женщине.
– Как вы начитались Жоржа Санда. Мужчина вовсе не должен быть с женщинами нараспашку; и зачем женщина пойдет делить его беседу? Мне ужасно нравятся мужские собрания, в которые не мешаются дамы, – в этом есть что-то строгое, неизнеженное.
– И чрезвычайно гуманное относительно женщин, которые покинуты дома. Вы, я думаю, пошли бы в запорожские казаки, если б попрежде родились.
– Ваша мысль до того иностранная, что вы и слова русского не прибрали, чтоб ее выразить. Как будто мало женщине дела в скромном кругу домашней жизни; я не говорю уж о матери, которой обязанности и так святы и так сложны.
– Ох, этот скромный круг! Император Август, который разделял ваши славянские теории, держал дочь дома и с улыбкой говорил спрашивавшим о ней: «Дома сидит, шерсть прядет». Ну, а знаете, нельзя сказать, чтоб нравы ее сохранились совершенно чистыми. По-моему, если женщина отлучена от половины наших интересов, занятий, удовольствий, так она вполовину менее развита и, браните меня хоть по-чешски, вполовину менее нравственна: твердая нравственность и сознание неразрывны.
– Теперь мой черед вам возражать, – сказал начавший разговор. – Каждый видел своими собственными глазами, что у нас в образованных сословиях женщины несравненно выше своих мужей; вот и ловите жизнь после этого общими формулами. Дело очень понятное. Мужчина у нас не просто мужчина, а военный или статский; он с двадцати лет не принадлежит себе, он занят делом: военный – ученьями, статский – протоколами, выписками, а жены в это время, если не ударятся исключительно в соленье и варенье, читают французские романы.
– Поздравляю их. Должно быть хорошо образование, – вставил славянин, – которое можно почерпнуть из Бальзака, Сю, Дюма, из этой болтовни старика, начинающего морализировать от истощенья сил.
– Я с вами, пожалуй, соглашусь, хоть я и не говорил, что дамы читают именно те романы, о которых вы говорите; и тут, удивительное дело, самые пустые французские романы больше развивают женщину, нежели очень важные занятия развивают их мужей, и это отчасти оттого, что судьба так устроила француза: что б он ни делал, он все учит. Он напишет дрянной роман с неестественными страстями, с добродетельными пороками и с злодейскими добродетелями да по дороге или, вернее, потому, что это совсем не по дороге, коснется таких вопросов, от которых у вас дух займется, от которых вам сделается страшно, а чтоб прогнать страх, вы начнете думать. Положим, что вопросов-то и не разрешите вы, да самая возбужденность мысли есть своего рода образование. Вот, видя это отношение женского образования у нас к мужскому, я и удивляюсь, что нет актрис.
– Да что же вам еще надо, – возразил с запальчивостью славянин, – у нас нет актрис потому, что занятие это несовместно с целомудренною скромностию славянской жены: она любит молчать.
– Давно бы вы сказали, – прибавил европеец, – вы больше объяснили, нежели хотели. Теперь ясно, отчего у нас актрис нет, а танцовщиц очень много. Но шутки в сторону. Я думаю, у нас оттого нет актрис, что их заставляют представлять такие страсти, которых они никогда не подозревали, а вовсе не от недостатка способностей. Каждое чувство, повторяемое артистом, должно быть ему коротко знакомо для того, чтоб его выразить не карикатурно. Китайца в «Opium et champagne» ничего не значит представить, но есть ли возможность, чтоб я хорошо сыграл индейского брамина, повергнутого в глубокое отчаяние оттого, что он нечаянно зацепился за парию, или боярина XVII столетия, который в припадке аристократического местничества, из point d’honneur, валяется под столом, а его оттуда тащат за ноги. Если б, в самом деле, у нас женщина не существовала как лицо, а была бы совершенно потеряна в семействе, тут нечего было бы и думать об актрисе. В пастушеской жизни, как и везде, могут быть страсти, но не те, которые возможны в драме, – слепая покорность, коварная скрытность, двоедушие так же мало идут в истинную драму, как подлое убийство, как чувственность. Необразованная семья слишком неразвита, она семья, – а в драме нужны лица. По счастью, такая семья только и существует в преданиях да в славянских мечтах. Но если мы и перешагнули за плетень патриархальности, так не дошли же опять до той всесторонности, чтоб глубоко сочувствовать прожитому, выстраданному опыту других. Ну, я вас спрашиваю, как сыграет русская актриса Деву Орлеанскую? это не в ее роде совсем; или: как русский актер воссоздаст эти величавые и мрачные, гордые и самобытные шекспировские лица, окружающие его Иоанна, Ричарда, Генрихов, – лица совершенно английские? Они для него так же странны, как человек, который бы нюхал глазами и ушами пел бы песни. Фальстафа он представит скорее, потому что в Фальстафе есть черты, которые мы можем видеть во всяком доме, во всяком уездном городе…
– Но есть же общечеловеческие страсти?
– И да и нет. Отелло был ревнив по-африкански и задушил невинную Дездемону, потом зарезался, называя себя «собакой». А у меня был приятель, сосед по имению, тоже преревнивый; он перехватил раз письмо, писанное к его жене и притом очень недвусмысленное; в припадке ярости он употребил отеческую исправительную меру, приобщил к ней всю девичью, отдал в солдаты лакея – и помирился с женой. Ревность – одна страсть, но похожа ли она в бешеном мавре и в нравоучительном приятеле? До некоторой степени можно натянуть себя на пониманье чуждого положения и чуждой страсти, но для художественной игры этого мало. Поверьте, так как поэт всюду вносит свою личность, и чем вернее он себе, чем откровеннее, тем выше его лиризм, тем сильнее он потрясает ваше сердце; то же с актером: чему он не сочувствует, того он не выразит или выразит учено, холодно; вы не забывайте, он все же себя вводит в лицо, созданное поэтом.
– О чем это вы так горячо проповедуете? – спросил, входя в комнату, один известный художник.
– Вот кстати-то, как нельзя больше; решайте нам вопрос, занимающий нас; мы единогласно выбираем вас непогрешающим судией.
– Много чести. В чем же дело?
– Во-первых, скажите, видали ли вы русскую актрису, которая бы вполне удовлетворила всем вашим требованиям на искусство?
– Которая была бы не хуже Марс, Рашель?
– Хоть Аллан и Плесси.
– Видел, – отвечал артист, – видел великую русскую актрису; только я ее сужу без всякого сравнения; все названные вами актрисы хороши, велики, каждая в своем роде, но как их искусство относится к той, которую я видел, не знаю. Знаю, что я видел великую актрису и что она была русская.
– В Москве или Петербурге?
– Вот задача-то для нашего славянина, – подхватил один из говоривших, – как вы думаете, ведь театр-то более принадлежит петербургской эпохе, нежели московской. Ну, где же она была?
– Все-таки, должно быть, в Москве, – решительно возразил славянин.
– Успокойтесь. Я ее видел ни там, ни тут, а в одном маленьком губернском городе.
– Вы это, верно, говорите для оригинальности, хотите нас поразить эффектом.
– Может быть. Вы признали меня непогрешающим судьей – ваше дело верить. Ну, как я теперь вам докажу, что двадцать лет тому назад я видел великую актрису, что я тогда рыдал от «Сороки-воровки» и что все это было в маленьком городке?
– Очень легко. Расскажите нам какие-нибудь подробности о ней: ведь не с неба же она свалилась прямо в «Сороку-воровку» и не улетела же вместе с безнравственной птицей.
– Пожалуй, – да только эти воспоминанья не отрадны для меня, как-то очень тяжелы. Но извольте, что помню – расскажу. Дайте сигару.
– Вот вам casadores cubrey, – сказал европеец, вынимая из портфеля длинную, стройную сигару, которой наружность ясно доказывала, что она принадлежит к высшей аристократии табачного листа.
– Вы знаете человеческую слабость – о чем бы человек ни вспоминал, он начнет всегда с того, что вспомнит самого себя; так и я, грешный человек, попрошу у вас позволенья начать с самого себя.
– От души позволяем, от всей души.
– Не знаю, будут ли подробности об актрисе интересны, а об вас-то наверное:
напевал европеец. Все успокоились, все немножко подвинулись, как обыкновенно бывает, когда приготовляются слушать. Передаю здесь, насколько могу, рассказ художника; конечно, записанный, он много потеряет и потому, что трудно во всей живости передать речь, и потому, что я не все записал, боясь перегрузить статейку. Но вот его рассказ.
– Вы знаете, что я начал свое артистическое поприще на скромном провинциальном театре. Дела нашего театра порасстроились; я был уж женат, – надобно было думать о будущем. В самое это время распространялись более и более сказочные повествования о театре князя Скалинского в одном дальнем городе. Любопытство видеть хорошо устроенный театр, – надежды, а может быть, и самолюбие, сильно манили туда. Долго думать было не о чем; я предложил одному из товарищей, который вовсе не предполагал ехать, отправиться вместе в N, и через неделю мы были там. Князь был очень богат и проживался на театр. Вы можете из этого заключить, что театр был не совсем дурен. В князе была русская широкая, размашистая натура: страстный любитель искусства, человек с огромным вкусом, с тактом роскоши, ну, и при этом, как водится, непривычка обуздываться и расточительность в высшей степени. За последнее винить его не станем: это у нас в крови; я, небогатый художник, и он, богатый аристократ, и бедный поденщик, пропивающий все, что выработывает, в кабаке, – мы руководствуемся одними правилами экономии; разница только в цифрах.
– Мы – не расчетливые немцы, – заметил с удовольствием славянин.
– В этом нельзя не согласиться, – прибавил европеец. – Останавливался ли кто из нас мыслию что у него денег мало, например, когда ему хотелось выпить благородного вина? За него, говорит Пушкин:
Последний бедный лепт, бывало,
Давал я, помните ль, друзья?
Совсем напротив: чем меньше денег, тем больше тратим. Вы, верно, не забыли одного из наших друзей, который, отдавая назад налитой стакан плохого шампанского, заметил, что мы еще не так богаты, чтоб пить дурное вино.
– Господа, мы мешаем рассказу. Итак-с?
– Ничего. – Князь слышал обо мне прежде. Когда я явился к нему, он был в своей конторе и раздавал билеты, с глубоким обсуживанием, достоин или нет и какого именно места достоин приславший за билетом. «Очень рад, очень рад, что вы вздумали, наконец, посетить наш театр, вы будете нашим дорогим гостем» – и бездну любезностей; мне оставалось благодарить и кланяться. Князь говорил о театре как человек, совершенно знающий и сцену и тайну постановки. Мы остались, кажется, довольны друг другом. – В тот же вечер я отправился в театр; не помню, что давали, но уверяю, что такой пышности вам редко случалось видеть: что за декорации, что за костюмы, что за сочетание всех подробностей! Словом, все внешнее было превосходно, даже выработанность актеров, но я остался холоден: было что-то натянутое, неестественное в манере, как дворовые люди князя представляли лордов и принцесс. Потом я дебютировал, был принят публикой как нельзя лучше; князь осыпал меня учтивостями. Приготовляясь ко второму дебюту, я пошел в театр. Давали «Сороку-воровку»; мне хотелось посмотреть княжескую труппу в драме.
Пьеса уже началась, когда я вошел; я досадовал, что опоздал, и рассеянно, не понимая, что делают на сцене, смотрел по сторонам, смотрел на правильное размещение лиц по чинам, на странное сборище физиономий, вовсе друг на друга не похожих, а выражающих одно и то же, на провинциальных барынь, пестрых, как американские птицы, и на самого князя, который так гордо, так озабоченно сидел в своей ложе. Вдруг меня поразил слабый женский голос; в нем выражалось такое страшное, глубокое страдание. Я устремился глазами на сцену. Служанка откупщика узнала в старом бродяге своего отца, беглого солдата… Я почти не слушал ее слов, а слушал голос. «Боже мой! – думал я. – Откуда взялись такие звуки в этой юной груди; они не выдумываются, не приобретаются из сольфеджей, а бывают выстраданы, приходят наградой за страшные опыты». Она провожает отца до плетня, она стоит перед ним так просто, задумчиво; надежд мало его спасти, – и когда старик уходит, вместо слов, назначенных в роли, у нее вырвался неопределенный крик – крик слабого, беззащитного существа, на которое обрушилось тяжкое, незаслуженное горе. Теперь, через двадцать лет, я слышу этот раздирающий крик.
Он приостановился.
– Да, господа, – сказал он, помолчавши, – это была великая русская актриса!
Вероятно, вы знаете сюжет «Сороки-воровки», хоть по россиниевской опере. Страшная пьеса, после которой ничего бы не оставалось на душе, кроме отчаяния, если бы не приделали мелодрамную развязку. Анету обвиняют в краже; подозрение имеет как будто полное право пасть на ее голову; как ее не подозревать? Она бедна, она служанка. Да и, наконец, если обвинение окажется несправедливым, что за беда; ей скажут: «Поди, голубушка, домой; видишь, какое счастие, что ты невинна!» А до какой степени все это вместе должно разбить, уничтожить оскорблением нежное существо – этого рассказать не могу; для этого надобно было видеть игру Анеты, видеть, как она, испуганная, трепещущая и оскорбленная, стояла при допросе; ее голос и вид были громкий протест – протест, раздирающий душу, обличающий много нелепого на свете и в то же время умягченный какой-то теплой, кроткой женственностию, разливающей свой характер нежной грации на все ее движения, на все слова. Я был изумлен, поражен: этого я не ожидал. Между тем пьеса развивалась, обвинение шло вперед, бальи[56]56
судья (франц. bailli). – Ред.
[Закрыть] хотел его для наказания неприступной красавицы; черные люди суда мелькали по сцене, толковали так глубокомысленно, рассуждали так здраво, – потом осудили невинную Анету, и толпа жандармов повела ее в тюрьму… да, да, вот как теперь вижу, бальи говорит: «Господа служивые, отведите эту девицу в земскую тюрьму» – и бедная идет! Но она останавливается еще раз. «Ришар, – говорит она, – я невинна, да неужели и ты не веришь, что невинна!» И тут уже среди стона угнетенной женщины звучит вопль негодования, гордости, той непреклонной гордости, которая развивается на краю унижения, после потери всех надежд, – развивается вместе с сознанием своего достоинства и тупой безвыходности положения. Помните старый анекдот, как добрый немец закричал из райка людям убитого командора, искавшим Дон-Жуана: «Он побежал направо в переулок!»? Я чуть не сделал того же, когда Анету повели солдаты. Потом сцена в тюрьме с бальи. Развратный старик видит невиновность ее в краже и предлагает продажей чести купить свободу. Несчастная жертва вырастает, ее слова становятся страшны, и какая-то глубокая ирония лица удвоивает оскорбительную силу слов. Я как-то случайно взглянул в продолжение этой сцены на князя; он был сильно потрясен, вертелся, покидал лорнет, опять брал его. «Как такому знатоку не быть пораженным этой игрой! Он, верно, умел вполне ценить такую актрису», – подумал я. Тихо, с опущенной головой, с связанными руками шла Анета, окруженная толпою солдат, при резких звуках барабана и дудки. Ее вид выражал какую-то глубокую думу и изумление. В самом деле, представьте себе всю нелепость: это дитя, слабое, кроткое, с светлым челом невинности, и французские солдаты с тесаками, с штыками, и барабаны; да где же неприятель? А неприятель-то – это дитя в середине их, и они победят его… но она останавливается перед церковью, бросается молча на колени, поднимает задумчивый взгляд к небу; не укор Прометея, не надменность Титана в этом взгляде, совсем нет, а так, простой вопрос: «За что же это? И неужели это правда?» Ее повели. Я рыдал, как ребенок. Вы знаете предание о «Сороке-воровке»; действительность не так слабонервна, как драматические писатели, она идет до конца: Анету казнили. В пьесе открывают, что воровка не она, а сорока, – и вот Анету несут назад в торжестве, но Анета лучше автора поняла смысл события; измученная грудь ее не нашла радостного звука; бледная, усталая, Анета смотрела с тупым удивлением на окружающее ликование, со стороною упований и надежд, кажется, она не была знакома. Сильные потрясения, горький опыт подрезали корень, и цветок, еще благоуханный, склонялся, вянул; спасти его нельзя было; как мне жаль было эту девушку!..
– Фу, боже мой, – продолжал он, обтирая лицо платком, – ятакую волю дал воображению и воспоминанию, что, кажется, и заврался и расплакался; да я не могу об этих предметах иначе говорить, всякий раз увлекусь… Ну, занавесь опустилась. Как дорого бы я дал, чтоб ее опять подняли; еще бы раз взглянуть на эту потухающую красоту, на это изящное страдание. Но ее не вызывали. Не увидеть Анеты я не мог; идти к ней, сжать ей руку, молча, взглядом передать ей все, что может передать художник другому, поблагодарить ее за святые мгновения, за глубокое потрясение, очищающее душу от разного хлама, – мне это необходимо было, как воздух. Я бросился за кулисы… в партере меня остановил один любитель театра; он кричал мне, выходя из своего ряда: «А ведь Анета-то недурна была, как вам? Очень недурна, немножко манеры тривиальны». Я не возражал ему ни слова; его бы не убедил, а время терять не хотел. «Куда вы?» – спросил меня официант, стоявший при входе за кулисы. «Я желаю видеть Анету, понимаешь, ту актрису, которая представляла сегодня служанку». – «Без княжого позволенья нельзя». – «Помилуй, любезный, я сам артист, третьего дня играл». «Мне не было приказу вас пускать». – «Пожалуйста», – сказал я, выразительно опустивши два пальца в жилетный карман. «Какие вы мудреные, – отвечал лакей, – что же, мне из-за вас свою спину подставить?» Я больше не настаивал и отправился домой, но я был близок к отчаянию, я был несчастен, и это не фраза, не пустое слово… Неужели из вас никому не случалось отдаваться безотчетно и бесцельно обаятельному влиянию женщины, вовсе не близкой, долго смотреть на нее, долго ее слушать, встречаться взглядом, привыкнуть к ее улыбке и так вжиться в эту летучую симпатию, что вы потом удивляетесь ее силе, когда эта женщина исчезает; и вы себя чувствуете как-то оставленным, одиноким; какая-то горечь наполняет душу, и весь вечер испорчен, и вы торопитесь домой и сердитесь, что у вас в передней нагорело на свече и что сигара скверно курится, – все оттого, что сыграли роман в полтора часа, роман с завязкой и развязкой. Если вы это испытали, то поймете, что происходило во мне, молодом художнике; тоска по Анете привела меня в лихорадочное состояние. Я, больной, бросился на кровать, я бредил, спал и не спал, и в обоих случаях образ несчастной служанки носился передо мною. То она стоит, осужденная, так просто, удивительно просто; кругом сумасшедшие, – их называют судьи, – и мне становилось горько; никто из них не может понять, что с этим лицом и с этим голосом нельзя быть виноватой. То вооруженные стражи ведут ее, со связанными руками, на торжественное убиение и думают, что делают дело. То несут ее с криками радости, ей толкуют, говорят, что все прошло, что она свободна, – а она устала, у ней нет сил обрадоваться, она как будто спрашивает: «Да что же было, ведь ничего и не было?» Словом, тысячи вариаций на тему «Сороки-воровки» бродили у меня в голове всю ночь.
На другой день утром, часов в одиннадцать, я отправился в дом князя с твердым намерением лечь костьми или добиться аудиенции у Анеты. Когда я взошел на парадное крыльцо – один отпертый вход во все домы, домики и флигеля князя, – явился швейцар с своим глобусом на палке. Начался допрос: к кому, зачем? Я сказал. Швейцар объявил мне, что без письменного дозволения от князя меня не пропустят. «Ну, меценат ревнив», – подумал я. «Да как же берут эти дозволения?» – «Пожалуйте в контору, там управляющий может доложить его сиятельству». Швейцар позвонил; вышел официант и повел меня в контору. Гордо развалясь перед конторкой, сидел толстый управляющий, и, несмотря на ранний час, он уже успел не только утолить голод, но даже и жажду. Я объяснил ему мою просьбу; вероятно, толстый господин не очень бы двинулся для меня, но он знал, что князь хотел заманить меня в свою труппу, и, предоставляя себе делать мне отказы и неприятности впоследствии, счел за нужное теперь уступить моей просьбе и сам отправился к князю для переговоров по такому важному делу. Через минуту он возвратился с вестью, что князь билет подпишет и пришлет в контору. Мне было некуда идти, я сел в угол. В конторе царствовала большая деятельность. Француз-декоратёр прибегал крупно браниться с управляющим и ломаным русским языком говорил совершенно не русские вещи; он был растрепан, в засаленном сюртуке и так гордо смотрел, как сам управляющий, и так ругался, как сам князь. Потом управляющий велел позвать какого-то Матюшку; привели молодого человека с завязанными руками, босого, в сером кафтане из очень толстого сукна. «Пошел к себе, – сказал ему грубым голосом управляющий, – да если в другой раз осмелишься выкинуть такую штуку, я тебя не так угощу; забыли о Сеньке». Босой человек поклонился, мрачно посмотрел на всех и вышел вон. «Sacré»[57]57
«Проклятый» (франц.). – Ред.
[Закрыть], – пробормотал декоратёр и вышел вон, надевши середь комнаты шляпу. «Лицо молодого человека мне что-то очень знакомо», – сказал я лакею, случившемуся близь меня. – «Да вы с ним третьего дня играли». – «Неужели это тот, который играл лорда?» – «Тот самый». – «За что это его так скрутили?» – спросил я, понизив голос. Лакей бросил косвенный взгляд на управляющего и, видя, что он щелкает на счетах, следственно, совершенно поглощен, отвечал мне полушопотом: «Записочку перехватили к одной актерке; ну, князь этого у нас недолюбливает, т. е. не сам-то… а т. е. насчет других-то недолюбливает; он его и велел на месяц посадить в сибирку». – «Так это его тогда приводили на сцену оттуда?» – «Да-с; им туда роли посылают твердить… а потом связамши приводят». – «Порядок всего дороже», – отвечал я, и желание идти в княжескую труппу начало остывать.








