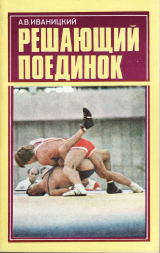
Текст книги "Решающий поединок"
Автор книги: Александр Иваницкий
Жанры:
Спорт
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 11 страниц)
Долговязые белобрысые юнцы, стриженные по моде той поры – коротко, под ежик, на манер морских пехотинцев, – усадили нас с Александорм в автомобиль.
– Что желаете посмотреть? – водитель старался быть серьезным.
– Мы гости, вы хозяева. После каторжных работ нас тянет на приключенческие фильмы.
– Вестерн, – оживились парни.
– Да, и с максимальным количеством убитых, – согласился Александр.
– О'кей. Через десять минут будем на месте.
Довольно-таки быстро машина подкатила к сооружению, мало напоминавшему кинотеатр. Это было нечто вроде стадиона с громадным экраном вместо футбольных ворот.
– Извините нас, произошла ошибка, здесь показывают космическую одиссею – с сожалением в голосе произнес водитель. – Мы подыщем другой кинотеатр.
– Не стоит – вмешался Саша. – Подойдет и этот фильм.
– Тогда один момент, – оживился водитель.
Он толкнул в бок своего напарника. Автомобиль стоял как раз напротив въезда на стадион-кинозал. В ливрее сбоку стоял служитель. Я сидел у открытого окна и уловил часть разговора гида со служителем. Поняв его содержание, я расхохотался.
– Ты чего развеселился? – спросил Александр.
– Нет, ты знаешь, что они умудрили? Хотят бесплатно проехать на стадион. С нами русские чемпионы, говорят…
Переговоры, по-видимому, прошли успешно.
– Русские борцы? Чемпион… – форменная фуражка контролера сдвигается на затылок. – Валяйте так! Он нажимает кнопку, коготки-колючки, препятствующие въезду автомашины на стадион, мягко убираются. Контролер улыбается, когда мы проезжаем мимо, машет рукой.
Наши шефы несколько минут сохраняют серьезность, а потом прыскают от смеха. Наверное, они испытывают то же самое, что и любой малец, прошмыгнувший в кинотеатр зайцем, или школяр, безнаказанно прогулявший урок. Схожесть эмоций сглаживает возрастную дистанцию.
Наши шефы выбрали стоянку, втянули динамик в салон автомашины.
На экране в эластичных скафандрах экипаж космического корабля, который возвращается на Землю с инопланетянкой. Та, дождавшись, когда вахтенный пилот остался один, усыпляет его своим взглядом и выпивает из него кровь по капельке.
Паника на корабле достигла апогея. В живых остались лишь немногие, когда капитан выяснил наконец, чем питается внегалактическая женщина. Но поздно: путы не способны связать космического вампира. Она взглядом пережигает их. В беззвездном пространстве летит теперь уже мертвый корабль. Погибает даже женщина-вампир, убив последнюю жертву, но автопилот продолжает вести корабль к Земле. Там кораблю готовят торжественную встречу. Обеспокоенность вызывает лишь безмолвие экипажа. Когда корабль вскрывают, живительный воздух вызывает рост мириадов красно-рубиновых икринок. Люди выносят их наружу. А икринки
растут с неимоверной быстротой, растекаясь вокруг, покрывая землю буроватым ковром. Икринки лопаются.
Наши нервы не выдерживают. Мы просим отвезти нас в отель. С гидов тоже хватило этих страстей-мордастей по горло.
Ночью мне снятся кошмары. Душно. Просыпаюсь, сбрасываю с себя простыню. Ощущение прохлады приходит лишь на короткое время. Светает. Ворочаюсь с боку на бок, но заснуть не могу. Заставляю себя лежать, чтобы сохранить иллюзию отдыха.
Остались ли силы для финальной встречи?
Мне выступать в первой паре. Разминку делать не хочется. Похрупал пальцами, покрутил кисти рук, присел несколько раз, сделал десяток наклонов. Ловлю на себе взгляды Каплана. Начни я сейчас толком разминаться, он невольно будет делать то же и выйдет на помост разгоряченным, скользким от пота. Нет, лучше помедленней делать свой променад и как можно демонстративнее.
Подходит Сергей Андреевич. Глаза у него воспалены. Его, оказывается, тоже мучила бессонница.
– «Бронза» тебе обеспечена, – говорит он мне. – Да, я уже об этом тебе говорил, – спохватывается тренер. – Пойми правильно, нужно только «туше».
Появляется Саша Медведь. Улыбка вчерашняя, откровенно счастливая. Советует:
– Не вешай носа. Уцепись за руку Каплана да и положи его, ты же умеешь. Вот увидишь, положишь. Вспомни, как махнул Дзарасова.
Саша еще продолжает говорить что-то подбадривающее, а судья-информатор вызывает на ковер Каплана и меня.
Форму отдаю Александру. Примета. Я взял у него, и он выиграл первое место. Быть может…
Тренер расправляет лямки моего борцовского трико. Он собран, словно не мне, а ему выходить на помост. Молчит. Он уверен, что если недосказал, недоучил раньше, то за секунду до поединка ничего не изменишь.
Поднимаюсь на помост. Каплан медлит. Он, словно прима, запаздывает с выходом. Легко вспрыгивает на помост лишь после вторичного напоминания информатора. Раздаются аплодисменты. Здесь турецких болельщиков хватает. А вольную борьбу они любят больше, чем итальянские тиффози футбол. Аплодисменты напоминают артподготовку. По крайней мере, уши закладывает.
Стоим. Секунды кажутся минутами. Судья спокойно разносит протоколы боковым арбитрам. Он смакует ситуацию, ведь он тоже в центре внимания. Мне это выгодно: без костюмов мы быстро остываем, пот высыхает. И все же ожидание гнетет.
Только теперь успеваю по-настоящему разглядеть того, о ком столько слышал. Каплан в красном борцовском трико с белой скобкой полумесяца. Стоит вольно, расправив плечи. Сухой. По-мужски красив. Лицо, угловатое, в складках. Такие морщины бывают лишь у людей, потом и кровью добывающих хлеб насущный: литейщиков, шахтеров, землекопов, лесорубов. Не вижу на лице Хамида и тени колебания. Сама уверенность. Скорее отчетливая жажда поединка. Свисток. Шагаем навстречу друг другу. Его шаг внушительнее, смелее, поэтому завязка начинается на моей половине. Каплан не снисходит до разведки. Пытается обвить меня руками-рычагами. Я стараюсь освободиться от его захвата, готового сомкнуться у меня на спине. Улепетываю с ковра. Трибуны будто ожидали этого. «Каплан, Каплан, га-шаша, Каплан, Каплан!»
Ощущение такое, словно на середину ковра я продираюсь сквозь чащу криков. Там уже ждет меня Хамид. И если до начала поединка в его облике читалась жажда боя, то сейчас судья буквально удерживает его. Вновь раздается свисток. Каплан опять опережает меня. Он опять поддевает меня своими ручищами, пытаясь облапить и подломить под себя. Знакомо по первому заходу. Успеваю парировать движение противника и вцепиться в его руку. Стоим будто спаянные друг с другом. Атаковать неудобно. Единственный выход в такой ситуации для Каплана – ухватить меня за голову второй своей свободной ручищей. Ему такой поворот событий вроде бы по душе. Тем более Каплан любит «покататься» на чужой шее. Уж если оседлает ее, то зажмет так крепко, что дух захватывает. Пока соперник вызволит свою головушку, пока освободится от тисков захвата – столько сил отдаст… Что-что, а сбить темп он умеет. Хамид верен себе. Он наваливается на мою шею.
А-а-ах!
В воздухе мелькают ноги, спина турка хлестко обрушивается на синтетическую покрышку ковра. Звук сродни шлепку, который производит крупная рыбина, брошенная на дно лодки.
Трели свистка рефери нет. Он опешил от неожиданности. Свисток болтается у него на тесемке, где-то на животе. В зале тишина недоумения…
– Де-ржи, – врывается надсадный голос Сергея Андреевича.
– Дер-жи, – надрывается Медведь.
Они кричат мне, потому что бросок провел я и лопатками к ковру прижата гордость и надежда Турции. Пальцы мои омертвели от натуги, щека втиснута в грудную клетку пехлевана – головой тоже можно держать. Наверное, вот так же прижимались к земле, сливаясь с нею, бойцы под шквальным огнем.
Не то кровь пульсирует в висках, не то бухает сердце Каплана.
Свисток рвет барабанные перепонки. Но я не отпускаю Каплана. Хочу, но не могу. Свело руки судорогой. Арбитр пытается меня оттолкнуть и вместе с Капланом волочит по ковру. Наконец решаюсь отпустить…
Хамид стоит с опущенной головой. В зале раздались робкие, неуверенные хлопки, адресованные мне – новоявленному чемпиону мира в этой весовой категории.
Так закончился этот поединок. Но он проходил совсем не так, как обо всем этом говорилось выше. Подобным образом мог построить рассказ болельщик, массажист, врач, обслуживающий соревнования, полицейский, стоявший у входа, – любой посторонний наблюдатель. Мне же необходимо внести определенные коррективы.
…Каплан смелый и решительный борец, с бойцовским характером. Он не жалеет в схватке себя, а уж противника и тем более. Но у него была ахиллесова пята – слабая техническая вооруженность. Он компенсировал ее решительностью, с первых же секунд начинал теснить своих соперников. Шел на них как бы в психическую атаку. Более слабых буквально на руках выносил с ковра. Что это ему давало? На его стороне была активность, которая в прежние годы приносила технические баллы. В таком сумбуре хлипкого борца он просто подламывал под себя и клал на лопатки. Атлетов опытных, не отличавшихся особой выносливостью, он такой тактикой «загонял». Соперники скисали от бурного натиска, и тогда он, по-крестьянски облапив их, подламывал – и вся недолга. Проделывал он эти штуки только в прямой открытой стойке, считая сближение выигрышным для себя. Вот тут-то и крылась его слабинка.
Реальных шансов положить его у меня не было. Каплан ведь видел, как я боролся, если не все поединки, то хоть что-то… И должен был заметить схожесть стилей. Я тоже предпочитал бороться в прямой стойке и любил идти на сближение.
В общем, мы боролись в сходной манере. Разница, однако, была в мою пользу. Я хорошо бросал из обоюдного захвата, тогда как Каплан просто-напросто выпихивал соперника с ковра.
Теперь давайте вернемся к поединку. Свисток. Завязка наступила на моей половине. Помните, он не снизошел до разведки, обхватил было меня… Вот тут-то между зрительским восприятием и тем, что на самом деле происходило на ковре, и кроется разница.
Когда турецкий спортсмен попытался свои руки свести в замок за моей спиной, он, сам того не ведая, попал в западню. О лучшем положении для своего коронного броска, который я держал до последнего момента в секрете и ни разу не провел еще на чемпионате мира, я и мечтать не мог. Он бы у меня получился на все сто процентов, но за ковром. Мы ведь в этот момент находились почти на обкладной дорожке. Я только бы напугал соперника и раскрыл тем самым свои карты. И уж тогда Хамид во второй раз ни за что бы не пошел на сближение. Чего-чего, а опыта у него хватало. Поэтому единственно правильным решением в подобной ситуации было показать всем своим видом, действиями, что я себя в таком захвате чувствую крайне неуютно. А еще лучше – симулировать страх. Пожалуй, именно это мне и удалось как нельзя лучше. Получилось, что я перепугался и в панике бежал с ковра. А раз так… Арбитр приглашает нас на середину ковра, и Каплан повторяет свой излюбленный тактический прием, пришедшийся мне не по вкусу. Но на сей раз мы сошлись в центре ковра, и, катапультированный, он рухнул лопатками на ковер. А я, веря и не веря случившемуся, по-бульдожьи вцепился в него. С начала схватки до этого момента прошло всего сорок секунд. А ведь чтобы прочитать об этом эпизоде, потребовалось гораздо больше времени.
Арбитр поднял мою руку вверх. Подержал ее в таком положении дольше обычного, видимо, он еще не свыкся с необычностью случившегося. Каплан повернулся ко мне спиной. Я сделал было движение, чтобы остановить его – по ритуалу полагалось обменяться рукопожатием, – спохватился и судья, но с опозданием: сутуля плечи, Хамид уходил.
На международных соревнованиях он больше не выступал в тяжелом весе, этот мой поединок был и первой, и последней очной ставкой с Капланом. Мы, правда, встречались на турнирах и после. Он держался отчужденно. Если мы случайно сталкивались в раздевалке, на параде или при построении участников, он едва кивал головой. Этот жест мог означать что угодно. Его при очень большом желании можно было посчитать приветствием. Но до сих пор я не уверен, то ли он действительно не узнавал меня, то ли нарочно не замечал. Он перешел в категорию полутяжеловесов. Надо было сгонять вес. И оттого скулы на его лице стали еще резче, еще глубже залегли морщины. Выглядел он усталым. И было в его фигуре что-то безысходное. Тем более что в «полутяже» уже вовсю властвовал Александр Медведь. А тот спуску не давал никому.
Меня можно упрекнуть в том, что, раскрывая перипетии нашего с ним поединка, я увлекся самовосхвалением: сплошная тактика, хитроумные обманные маневры. Наверное, точно увлекся и что-то перегнул. За секунду до начала этого поединка у меня не было уверенности не только в том, что я его мгновенно положу, но и в том, что сумею выиграть хотя бы балл. Практика к той поре научила меня одной премудрости – незапрограммированности. Построй я план поединка, у меня все пошло бы вкривь и вкось. Когда настроишься на что-то одно, а в процессе поединка перестраиваешься, то хорошего от этого не жди. Поэтому я предпочитал импровизацию и считаю хорошим борцом того, кто имеет (а это справедливо в отношении любого единоборства) именно эту черту характера. Но свой секретный прием я хранил про запас не случайно. И симулировал трусость так мастерски, что заставил соперника поверить в свою беспомощность. Все это и дало эффект. У каждого человека в жизни есть случай, который ему запоминается особо. Мне запомнилась именно эта сорокасекундная схватка с асом тяжелого веса.
Что было потом? Пьедестал почета. Гимн. Золотая медаль. Автографы. И было все, кроме радости. На нее не хватало сил: подошел к перекладине, хотел подтянуться – не смог.
Была еще своеобразная раздвоенность; казалось, чемпионом мира стал кто-то другой – я, но вроде бы и не я.
Вживался в новую роль натужно. Постепенно осознавал, что титул сильнейшего человека на планете по вольной борьбе принадлежит именно мне. Что завоеван он в честной борьбе.
Наутро наша команда построилась на лужайке. Мы передавали эстафету своим товарищам – борцам классического стиля. Наступил их черед. Нам, чемпионам – третьим в команде золотую медаль выиграл Али Алиев, – вручили красные гвоздики. С тех пор гвоздики стали моими любимыми цветами.

Днем под дверью нашей комнаты Медведь нашел записку: «Господин Петерсон приглашает русских борцов-чемпионов посетить его колхоз». Мы были заинтригованы: хотелось посмотреть, как выглядит «председатель» этого «колхоза». Всей командой мы отправились по указанному
адресу.
«Председатель колхоза» оказался сухощавым мужчиной средних лет. Его моложавая жена с тщательно уложенными волосами по-деловому распределила обязанности среди гостей: нам с Александром поручили жарить на мангале сосиски; Сергей Андреевич дегустировал напитки; Али Алиев, обнаружив за домом на лужайке бассейн, увел остальных туда. Солнце сочилось зноем, поэтому с общего согласия прием проходил в самом бассейне. Мы еле успевали снабжать страждущих горячими сосисками с булочкой. Большим спросом пользовалась любая охлажденная жидкость, крепостью не превосходящая пиво. Мы с Александром тоже наконец взяли свое. И в бассейне поняли, чего нам не хватало.
Мы уходили от Петерсонов шумной ватагой. Сергей Андреевич, неся под мышкой подаренный мяч для игры в американский футбол, не удержался от вопроса:
– А почему, мистер Петерсон, все это вы назвали колхозом?
Хозяин засмеялся.
– Это профессиональное у меня. Я заведую рекламой. На русских – вы заметили, наверное, – большой спрос. Гагарин и прочие… Утверждают, например, что вы похожи на нас. Надо было опередить конкурентов. Вот вы и клюнули на необычное – советская земельная артель в Америке… Видите, мы умеем привлечь внимание к своему товару. – И выйдя из калитки, уже нам вслед добавил: – Все будет о'кэй! Жду вас снова в гости.
Мы встретились с ним ровно через четыре года. Чемпионат мира вновь состоялся в Толидо. Вначале я с недоумением смотрел на тормошащего меня господина. Его скороговорку трудно было разобрать, тем более что я давненько не был в англоязычных странах и успел уже растерять тот незначительный запас слов, которым в былую пору сносно оперировал. Взаимопонимание помогла найти фотография: на ней был изображен бассейн и наша сборная команда. Мы рассматривали снимок и поясняли господину Петерсону, кто чем занят из тех, кого не было с нами на сей раз. И вновь посетили его гостеприимный дом. Только во второй раз семья встретила нас в измененном составе. Жена, в строгих очках, делавших ее похожей на директрису, представила нам своего сынишку – Ивана-Христиана. Тут уже не вытерпел я, вспомнив тот давнишний разговор у калитки в момент прощания.
– Нет, – улыбнулся хозяин. – Не ради рекламы. Мы очень хотели ребенка. И так уж совпало. Ждали долго, а родился спустя полгода после того приема. Решили назвать его русским именем.

На Днепре
От Северной Америки до Европы лететь часов восемь. Внизу, словно на фотоснимке, застыла голубая рябь океана. Прямо перед глазами – неподвижная синь неба. Лайнер, мчащийся с околозвуковой скоростью, словно застыл в этом бесконечном пространстве.
Мы с Сергеем Андреевичем сидим рядом. Изморенный неподвижностью, потягиваюсь с хрустом, прислушиваюсь к словам тренера:
– Никаких курортов. Поезжай лучше к себе на Украину. Ты мне все уши прожужжал о своем селе и его белых хатах. Да я и сам не прочь к тебе заглянуть на неделю.
…Утонув в вишневых садах, село вольготно разлеглось на левом берегу Днепра. Дальние хаты села взобрались на лысую гору с редкими пятнами березовых рощ. Островки дубов, как полустертые письмена, напоминают о шумных дубравах былинных времен. В старой усадьбе до сих пор высится шестисотлетний дуб. Его еле обхватывают, взявшись за руки, пятеро взрослых мужчин. Здесь же, в саду, растет огромная сосна. В развилке её ветвей камень. Он сросся со стволом. Старожилы передают из уст в уста, что камень туда положил Н. В. Гоголь и что страшная повесть о Вие поведана писателю сторожем деревянной церквушки, притулившейся у подножия горы. Теперь церквушки нет, ее стерла с лица земли война. Гора покрыта густым сосняком, таким, что ни пройти, ни проехать. Мой отец еще мальчишкой сажал его вместе с односельчанами. Теперь даже взрослые боятся темени чащи: разное зверье расселилось под его сводами, болотца и крошечные озерки облюбованы водоплавающей дичью. Когда начинается грибное раздолье, в сосняке появляются неисчислимые семейства рыжеватых маслят, под лиственным шатром встречаются подберезовики, боровики, подосиновики. Селяне охотно берут лишь белый гриб. По сути дела, он один у них и называется грибом, а все остальные они пропускают. Но дачники и такие «свои», как я, знают цену каждому грибу.
У меня странные взаимоотношения с Прохоровкой. Это родное село моего отца. Сейчас в нем остались лишь наши дальние родственники. При встречах с ними здороваюсь скорее по стародавней деревенской традиции, чем повинуясь кровным узам родства.
По давней привычке остановился у Галабурдыхи. Хата-то у нее, Олены Корниевны, неказистая, но рядом с Днепром.
– Знакомьтесь, Олена Корниевна, моя жена.
– Таня, – протянув руку, представилась моя спутница.
– Ох, божи мий! Худа як щука. Що ж вы, городски, над собою робыти. Одны очи та бровы.
Мы рассмеялись от столь искренней реакции.
– Виддыхай, доню. Входи в тило. У нас в сэли гарно.
Скоро сели обедать. Галабурдыха сидела напротив меня. Платок, старушечий белый, в неприметный синенький горошек, закрывал ее морщинистое лицо от солнца. Но оно все равно было коричневым, дубленым.
– Давно хотел спросить, да стеснялся. Почему вы, Корниевна, не обзавелись настоящим садом, чтобы от груш, яблонь да вишен тесно свету стало?
Галабурдыха посмотрела на нас, помолчала, погладила ладонями выскобленные до белизны доски стола, затем ее руки, покрытые узлами вен, расправили передник:
– Не думала, що бог життя стильки даст. Как похоронная на мужа с фронта пришла, а потом как под немцем настрадалась, гадала, не протяну много.
Олена Корниевна говорила монотонно и без особого выражения:
– Скильки туточкы горя було, пока их выгналы отсель. Сэло снищало. Поразбыралы хаты на як их… блиндажи. А ти, шо уцэлили, порушылы. О туточкы я стояла, колы их мотоциклетка подъихала. Один выхилився в сторону и до перелазу. Их двое було. Тот, що у колясци, вылез. Палку с паклей достав, чыркнув зажыгалкою. Я ему крычу: «Шо ты робышь, вражына?» А вин мэнэ товкнув, шварь паклю на стреху и пийшов, не обэрнувшись. Хочу поднятыся и нэ можу. Бачу, як червони струйки по соломи побижалы. Ничого писля нэ помню. Слухаю, огонь хрустыть да дым стелыться над толокой. У сосидок занялось. Гомонят бабы: «Ратуйте, добри люди». А нимци по вулици у грузовиках едуть и едуть. Аж черно и конца немае.
Ни я, ни Таня не знаем по-настоящему, что такое лихолетье. Не на наших плечах оно вынесено. Слушаем, прижавшись друг к другу, не перебиваем.
– Наши прыйшли на другий день. Собрала я доски, гвозди, яки не сгорилы, знесла их в кучу. Солдаты зоставыли мэни консервы. На чорный день хотила припасты, да исты щось треба. Одну зъила, кружку зробыла, из другой – небольщу кастрюлю, а ще одну пробила дно гвоздиком – сито.
Сусиди помоглы хату нову робить, – продолжала Корниевна. – Ногами глину товклы, солому та бурьян выпросыла. Хата невелика, но своий хребтыни поднимала. Оцю бильшеньку – колгосп допомог. Такось, слухай про садок, хлопець. Так менэ писля войны к спокою потянуло, передать не можу. Не хотила про вышни думать нияк. Ди взять виткиля?! Сады-то нимчура пид корень выводила. Выкопала тополек молодый в яру, принэсла. Вытянувся вин бачишь який. А вышни… Шпанку вон у прошлому роци посадыла, смородыну ще, щелковицу хай куры клюють, марелька уродыла в цьому роци. Так що богато чого зараз е сынок…
Молча застучали ложками. Наваристый борщ уже остыл.
– Дитки, посидить трохи без мэнэ. – Олена Корниевна спустилась в погреб, принесла крынку топленого молока, покрытого сверху поджарой корочкой. Налила стаканы до краев.
– До вас можно?
Оглядываемся. У плетня сосед. Ныркие глазенки, вкрадчивые движения. Кажется, его зовут Вакула. Хотя по-уличному – Акула. Он, не дожидаясь приглашения, перелезает через плетень. Подходя, умильно щурится, но, увидав на столе вместо водки молоко, конфузится и после минутного молчания спрашивает:
– Слухай, Сашко, як там в Амэрици? Хлиб, що другое за скильки грошей купуют?
Чем-то он неприятен мне. И в прошлые свои наезды считал за лучшее лишь раскланиваться с соседом Олены Корниевны. Уж больно он любит все на рубли мерить. Да и вопрос задал Вакула с подковыркой. Буханками-то хлеб я не покупал в Толидо. Минута ушла на сложнейшие математические выкладки.
– Значит так: американский завтрак – это обычно омлет, чашка кофе, джем, два ломтика белого хлебца… Итого получается… – И я называю приблизительную цифру.
Таня с интересом, как бы со стороны, наблюдает эту сценку.
– А це хто ж будэ?
Вакула показывает в ее сторону. Получив ответ, он хмыкает, заговорщицки ей подмигивает: «Мол, тюнят-на-а, говорыть твий чоловик нэ хочэ». Он буравит меня глазками.
За плетнем вырастает внук Вакулы по прозвищу Подсолнух. Похож глазами. Только они у него уставлены в одну точку, а не ерзают по сторонам. Рот мальца вымазан чернилом шелковицы. Ладони, которыми он уцепился за жерди, и пятки того же цвета.
– Ну а на базари був? – продолжает гнуть свою линию Вакула, никак не отреагировав на появление еще одного слушателя.
– Деда, – вмешивается в разговор Подсолнух. – А базар и рынок – то же самое?
– Отчепысь, Иван. У чотвертый класс перейшов, а нэ знаешь такой ерунды. Цэ всэ однаково.
– А почему тогда по радио говорят европейский рынок, а не базар?
Вакула крякает. Еще минуту назад он хотел, наверное, вкатить подзатыльник своему внуку, но теперь многозначительно и довольно смотрит на нас и с деланной сердитостью в голосе говорит:
– Ото в школи вчаться, вчаться, да не в простой, а в специальной школи, а то нэ знають, що старшего не треба перэбывать. Чи брешуть, шо ты усих на свете перемог? – глядя в мою сторону, продолжал допытываться Вакула.
Я утвердительно кивнул головой.
– Ив нашем краю любого дядьку до долу лопатками прижмэш?
Моя победа на первенстве мира еще не реальная и для меня самого, а Вакуле она, по-видимому, казалась байкой, не более.
– Думаю, что одолею любого, – отвечаю я.
– Да хватить тоби, пристав до хлопця, – пытается одернуть соседа Корниевна. – Давысь, молоко звернеться от твого балаканья. Шев бы…
– Погоди, стара… Як же так?
Он хлопнул себя по тощим бокам. Возбуждение его от мысли, что вдруг на самом деле перед ним сидит силач, заводит его в тупик. Вот так простой знакомый и… чемпион мира.
– А неушть уси бачуть, як ты прямо голышом возышься, – нашелся он наконец.
И по тону, каким он задал вопрос, чувствовалось, что Вакула предельно доволен своим коварством.
– Не голышом, а в форме, – встревает вновь Подсолнух.
– Цыць, цыцуня. Пиды до матери, – и он стаскивает Ивана с изгороди за штанину.
– Прав внук. Трико такое надето на нас. Называется борцовским, потому что лямочки есть.
Последнюю фразу Вакула подхватил буквально на лету. Прикрыв рот ладошкой, он рассыпался смешком, смакуя сказанное как нечто непристойное. Наверное, он представил меня выходящим на сцену перед переполненным залом раздетым почти полностью.
Сосед зашелся смехом до икоты. Слезы катились из щелочек глаз. Его забирало вновь, а в редкие паузы он выдавливал из себя.
– …Тю, сказывся хлопець… Трыко одягае…
– Да шо ты, трыко да трыко, – не вытерпев, вступилась Галабурдыха. – Це ж спорт. У них вси так выряжаються.
– Не, – успел кивнуть головою Вакула. – Не. Це ж нищо, це так… дурне. Человик хиба дило робе – балует. А ще жинку завел.
В воскресенье чуть свет отправляемся с Таней на рынок. Он находится в небольшом городке на противоположном берегу Днепра. Речной трамвай пристает к берегу прямо у хаты Галабурдыхи. Он забирает пассажиров, петляет по протокам, заходит еще в два села, огибая остров. Получалось, что мы кружим на месте. Солнце к тому времени уже выползло из-за горизонта, утренний холодок становился мягче. Трамвай постепенно наполнялся народом, и на верхней палубе уже не хватало мест. Наконец городская пристань. Первым делом мы с Таней тут же покупаем мороженое. Маленький местный молокозавод еще не испытал на себе индустриальной стандартизации, и, наверное, поэтому у белых рассыпчатых с желтизной крупинок свой особый, непередаваемый, аромат. Угощаю Таню калеными семечками. Она, коренная москвичка, не умеет их выбирать. Сам базар кажется нам ярмаркой красок. Шеренги ведер и корзин: абрикосы, смородина. Груды яблок, груш. Помидоры размером с мужской кулак. В дальнем углу визг поросят, овечье блеяние, мычание коров. У гончаров степенность и мелодичный перезвон: рачительные покупатели щелкают по крынке, а потом, наклонив голову набок, внимательно слушают, как утихает колокольный гул. Таня застряла здесь надолго. Я же тороплюсь в молочный ряд: забираю, не прицениваясь, брусочки крестьянского масла, его продают завернутым в хрустящие капустные листья. Масло все в росяных слезах, оно еще хранит холод погреба.
Возвращаемся нагруженными.
Олена Корниевна выпекла нам настоящий домашний украинский хлеб. Прижимая круглую паляницу к животу, она острым ножом отрезала нам по дымящемуся ломтю. Мы намазываем его слоем масла толщиной в палец и уплетаем за обе щеки. Таня, посмеиваясь, приговаривает:
– Такое даже в парижском ресторане «Максим» не подавали.
– Действительно, не дадут ни за какие деньги.
Хотя сам я в жизни не бывал в знаменитом парижском ресторане, но подыгрываю жене искренне, веря, что отведать вот такого, выпеченного в печи хлеба можно только у Галабурдыхи.
…Шла последняя неделя отдыха. Мы только что сели завтракать.
– Хозяйка! Постояльца пустишь? – в калитке, довольный произведенным эффектом, стоял Преображенский. – Смотрю, разнежились в холодке. Такое время – и впустую. Дед, а ну-ка давай тащи бредень.
Вакула, чуявший гостей за версту, крутился у плетня, ожидая чего угодно – выпивки, новых обстоятельных разговоров о политике, – остановился огорошенный.
– Та его у менэ немае, – нерешительно ответил он.
– Знаем, – решительно прервал его тренер. – В кладовке небось в уголочке держишь.
Желание отведать свеженькой рыбки вывело Вакулу из состояния прострации. Он добренько засеменил к себе. Вакула принес бредень и окликнул внука:
– Иван. Дэ ты? Злизай з шелковици зараз. Пиды, допомоги дядкам.
С бреднем мы потом не расставались. Ловили карасей. В тех ямах, залитых водою, которые мы процеживали, ловить считалось делом несерьезным. Иван – Подсолнух – придерживался другого мнения. И мы ему не перечили. Он, как человек самостоятельный, приспособил для лова корзину из ивовых прутьев. Эти верши малец тихонько подводил под затопленный куст и ногами топал по корневищу. Ошалевшая от жары рыба, стоявшая в таких тенистых уголках, шарахалась врассыпную, сдуру попадая частенько в корзину. У Подсолнуха сбоку болталась холщовая сумка. В нее он складывал свой улов. Наши «конкурирующие организации» никогда не конфликтовали. А набродившись до одури по болотам, мы часто устраивали совместные обеды. Иван угощал нас яблоками, помидорами и огурцами, мы же поставляли кофе, колбасу и конфеты. Наши собеседования, как правило, протекали в дружеской атмосфере. После трех секретных приемов, джиу-джитсу, показанных тренером, Подсолнух готов был ехать за ним хоть на край света.
Не знаю, чем нас так привлек бредень. Скорее всего не сказочностью улова, а тем, что в погоне за одним-единственным слитком живого золота величиною в ладонь мы делали по пять-шесть заходов. Тина набивалась в кошель, и на берег мы вытягивали водоросли тоннами. Уважающие себя рыбаки смотрели на нас с подозрением: этакий труд ради нескольких разнесчастных рыбешек. А мы, протралив одно озерцо, шагали к другому, третьему. И, вымазанные грязью, по макушку в чешуе, млели от удовольствия. Плечи покрылись бронзовым загаром. Когда мы уставали, то валились на песок и, разморенные жарой, словно крокодилы, лениво сползали с берега в воду. Вечером Таня заливала сковородку сметаной, и наши медные красавцы подавались на стол распаренными, благоухающими.
Вакула проявлял необычное стеснение и начинал крутить.
– Карась оно, конечно, видминно, – отдав дань кулинарному искусству Тани, тянул Вакула – А судак та короп мають инший смак, дуже гарный.
– Так за ними же в Днепр лезть надо, а там запрещено? – наивно вопрошал его тренер.
– Да я ничего, я тильки так гутарю, – отнекивался хозяин бредня. И быстро переводил разговор на иную тему: – Сеточку-то, сеточку не порвали, высушили? Пойду подывлюсь.
Иван рассказал нам по секрету про Куриную яму, но идти с нами наотрез отказался. Сказал, что если дед узнает… И хотя рыжий хлопец не очень-то боялся Вакулы, но, почесав икры, искусанные комарами, протянул:







