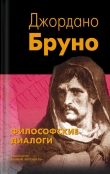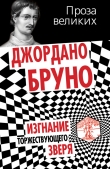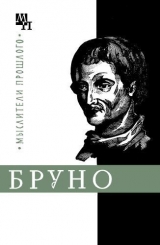
Текст книги "Джордано Бруно"
Автор книги: Александр Горфункель
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 10 страниц)
II. Пробудитель спящих умов
Он родился близ маленького городка Нолы, неподалеку от Неаполя, в 1548 г., и отец, Джованни Бруно, бедный дворянин, служивший в войсках неаполитанского вице-короля, дал сыну при крещении имя Филиппо в честь наследника испанской короны.
«Италия, Неаполь, Нола! – с гордостью и тоской будет вспоминать о родных местах философ-изгнанник. – Страна, благословенная небом, в равной мере именуемая главой и десницей земного шара, правительница и владычица иных племен, ты всегда почиталась и мной, и другими как наставница, кормилица и мать всех добродетелей, наук, искусств, установлений и приличий!» (8, стр. 183).
Счастливая Кампанья – так назывался этот край еще с римских времен. Из домика Джованни Бруно с садом и виноградником на склонах горы Чикала виднелись невдалеке развалины старинного замка, а на горизонте – то мирный, то грозный Везувий. Зеленеющие склоны, покрытые оливами и плющом, опоясанные рощами каштанов и тополей – эти первые впечатления Бруно сохранил на всю жизнь. И в философских поэмах он будет вспоминать то прогулки с отцом к подножию вулкана, то странную молнию, пролетевшую однажды над крышами Нолы, то восходы солнца над равниной, то бездонное звездное небо – огромное над маленькой Нолой.
В Лондоне и Париже среди ученых докторов и блестящих придворных он не забудет своих земляков: крестьян, ремесленников, солдат, бедных священников, добродушных и трудолюбивых, суеверных и насмешливых – и заселит ими страницы своих диалогов. И бог Меркурий будет рассказывать о дынях огородника Францино и о щенятах в доме Антонио Саволино, а подруги детства Филиппо Бруно, его двоюродные сестры Лаодомия и Джулия, и приятели его отца солдаты Франческо Северино и Джан Доменико Чезарино будут вести ученые философские беседы, а в комедии «Подсвечник» еще не раз посмеются над забавными историями из жизни ноланцев. И себя самого не итальянцем, не неаполитанцем даже, а ноланцем назовет он в своих книгах и прославит родную Нолу, назвав ее именем свою «философию рассвета».
Но жизнь в Ноле была не легкой. Отцовского жалованья не хватало. «С детских лет вступил я в мучительную борьбу с судьбой» (16, стр. 324), – скажет о себе Бруно и, прославляя родину, добавит с горечью: «Не в меньшей степени называют ее учительницей всех пороков, обманов, скупостей и жестокостей…» (8, стр. 83).
Однажды один из юношей Нолы уехал на север Италии в поисках знаний; там по доносу был схвачен инквизиторами, выдан венецианским сенатом Риму и предан мучительной казни как нераскаявшийся еретик. История эта поразительно напоминает судьбу Бруно, но юношу звали иначе – Помпонио Альджерио, он тоже называл себя Ноланцем. Когда до жителей Нолы дошел страшный рассказ о том, как их земляка в течение четверти часа постепенно опускали в кипящее масло, Филиппо Бруно шел девятый год.
Другом Джованни Бруно был воин и поэт, участник многих походов и морских экспедиций против турок Луиджи Тансилло. Его жизнерадостная, пронизанная грубоватым юмором крестьян Кампаньи поэма «Сборщик винограда» призывала к земным радостям и советовала не пренебрегать наслаждениями этой жизни ради загробного блаженства. Имя поэта, было занесено в «Индекс запрещенных книг». Много лет спустя в диалоге Бруно «О героическом энтузиазме» появится в качестве одного из собеседников поэт Тансилло и вновь зазвучат его стихи рядом с сонетами самого Бруно.
Сын Джованни Бруно не собирался повторять военную карьеру отца. После обучения латинской грамматике в местной частной школе, вероятно в 1562 г., Филиппо поселился в Неаполе. Там он получил первоначальное философское образование, прослушав лекции ученого монаха-августинца Теофило да Вайрано. Впоследствии Бруно тепло вспоминал о нем как о первом своем учителе и в одном из диалогов дал имя Теофила главному защитнику Ноланской философии.
Но в Неаполе способному и любознательному юноше было где набираться знаний и помимо монастырских школ. Там держались еще традиции гуманистических кружков и вольных обществ – «академий», образовавшихся в противовес университету – хранителю официальной науки. Там помнили еще Симоне Порцио, глубокого мыслителя, возродившего изучение подлинного, не искаженного схоластами Аристотеля. Вслед за Пьетро Помпонацци он отвергал учение о бессмертии души, а в книге «О началах природных вещей» (1553 г.) называл материю «началом и рассадником, из коего возникает все движимое, источником и причиной движения» и отрицал божественное творение. В годы ученичества Бруно в Неаполь из Рима вернулся Бернардино Телезио с готовой рукописью главного своего труда «О природе в соответствии с ее собственными началами», где провозглашал основой всякого знания ощущение и призывал к изучению природы, независимому от церковных и светских авторитетов, отвергал Аристотелево учение о первом двигателе и доказывал единство материальной природы неба и земли. Природу, эту бесконечную творческую способность, прославлял в своих посланиях и диалогах Николо Франко, в едких сатирических памфлетах он обличал монахов, священников, римских пап, издевался над суевериями и предрассудками, смело выступал против запрещения книг. Увлеченные изучением природы, братья делла Порта собирали коллекции кристаллов и трав, занимались медициной и астрономией, математикой и оптикой. В их «Академии тайн» изучали «натуральную философию», обсуждали старинные и новые книги, экспериментировали.
Но инквизиторы не дремали. В 1564 г. они устроили публичную казнь двух дворян, обвиненных в ереси; под пыткой осужденные успели оговорить многих неаполитанцев. Восстание потрясло город, и инквизитор Санторо вынужден был спасаться бегством. Шестнадцатилетний Бруно был очевидцем этих событий и впоследствии в аллегорической форме рассказал о них в диалоге «Изгнание торжествующего зверя».
Когда страсти поутихли, инквизиторы вновь принялись за искоренение ересей, пустивших корни в Неаполе. «Академии» были разгромлены. В изгнание в родную Козенцу удалился стареющий Телезио. Джамбатиста делла Порта был вызван в инквизицию, где ему посоветовали оставить сомнительные эксперименты. В Риме был казнен Николо Франко.
Сын бедного дворянина не мог уехать в Падую, чтобы продолжить образование в знаменитом университете. Да и здешний, Неаполитанский университет был ему недоступен. Для Бруно, как и для многих его современников, единственно возможный путь к науке шел через монастырскую келью.
Однажды Филиппо Бруно присутствовал на ученом диспуте в монастыре Сан-Доменико Маджоре. Известные профессора состязались в учености. Ссылки на авторитет святого Фомы сменялись цитатами из Аристотеля. Изысканное красноречие, строгая последовательность доказательств, глубочайшее знание текстов, остроумие полемических приемов – все это производило впечатление содержательнейшего философского спора. Заманчивый и не доступный еще мир науки притягивал к себе жаждавшего знаний юношу. Семнадцатилетний Бруно принял решение стать монахом.
Сан-Доменико Маджоре был богатейшим монастырем Неаполя, знаменитым во всей Европе. Доминиканский орден хранил традиции схоластической учености, это был орден богословов, орден Альберта Больштедтского, прозванного Великим, и его ученика Фомы Аквинского. У входа в одну из аудиторий висела мраморная доска с памятной надписью: «Прохожий, почти сей образ и эту кафедру, с которой великий учитель Фома при огромном стечении слушателей внушал свое поразительное богословское учение». Библиотека монастыря была одной из богатейших в Европе.
Правда, доминиканский орден был не только орденом богословов, но и орденом инквизиторов: тюремные камеры располагались неподалеку от монашеских келий. Правда, великолепная библиотека монастыря делилась на две части, и вторая была недоступна: книги злонамеренного содержания выдавались только с личного разрешения генерала ордена. Но всего этого не знал еще молодой послушник. Он думал, что сумеет совместить тонзуру со стремлением к знаниям.
В монастыре он не считал нужным скрываться и хитрить. Одному послушнику, читавшему благочестивое сочинение о семи радостях богородицы, Бруно посоветовал отбросить эту чепуху и лучше уж почитать жития святых. Пренебрежительное отношение к популярной религиозной литературе пахло ересью. В другой раз Филиппо, явно не без влияния реформационных идей, выставил из кельи образа святых, оставив одно лишь распятие: в почитании образов он видел остатки языческого многобожия и идолопоклонства. К этим же первым годам жизни в монастыре относится и возникновение у Бруно сомнений в догмате троицы. Однажды компания послушников в шутку гадала по книге Ариосто, кому какой выпадет стих. Бруно открыл «Неистового Роланда» на строке, испугавшей и поразившей окружающих:
«Враг всякого закона, всякой веры…»
Веселая забава обернулась пророчеством.
Вскоре Бруно убедился в том, что в святой обители его окружали тайные шпионы и, хуже того, добровольные доносчики. Наставник послушников вызвал Филиппо к себе и показал ему донос. За слова гораздо менее резкие, за поступки куда менее опасные людей отправляли на галеры. Но умный старик не стал ни наказывать, ни грозить. Он порвал донос в присутствии Бруно: ордену были нужны способные люди, а грехи юности можно загладить хорошим поведением. Религиозные сомнения Бруно были еще не столь глубоки и основательны, чтобы толкнуть его на разрыв с церковью и религией. По прошествии года новициата в 1566 г. он дает монашеский обет и получает имя Джордано.
Он не строил себе иллюзий относительно окружавшей его братии; драки и попойки, тайный и явный разврат – всем этим славились монахи доминиканского монастыря. Были здесь и другие – те, кто честно постились и отстаивали обедни. Но не ради этого Бруно шел в монастырь. А монастырское начальство, озабоченное подготовкой образованных слуг католической церкви, не жалело сил на способных учеников. Лучшие богословы – профессора Неаполитанского университета преподавали в монастырской школе. Устав поощрял усердные занятия.
О том, как много работал в эти годы Джордано Бруно, мы знаем из его сочинений. Никогда больше при нем не будет библиотеки: беглому монаху и странствующему философу не придется обзаводиться книгами. Огромная эрудиция, глубочайшее знание сочинений Аристотеля, его арабских, еврейских и христианских комментаторов, древних и новых философов и ученых, комедиографов и поэтов – знание, так пригодившееся ему потом в разгаре ученых диспутов, в университетских лекциях и при писании книг, – все это было результатом десяти лет обучения в монастыре.
Мы не знаем, удалось ли Бруно добраться до запрещенных книг монастырской библиотеки, или он иным способом, через друзей в Неаполе, добывал книги, не пропущенные церковной цензурой; скорее всего, он использовал оба пути. Коперника он мог прочесть и в монастыре: эта книга не была еще запрещена. Других приходилось читать тайком. Так или иначе, он прочел много больше того, что надлежало знать начинающему богослову.
Способного юношу, отличавшегося необыкновенной памятью, возили в Рим к папе показать будущую славу доминиканского ордена. После получения сана священника и недолгого пребывания в провинциальном приходе Бруно был возвращен в монастырь готовиться к получению ученой степени доктора богословия. Многие из его соучеников по монастырской школе сделали церковную и ученую карьеру, став епископами, регентами монастырских школ и профессорами университетов. Бруно, превосходивший знаниями и способностями их всех, мог рассчитывать и на большее. В Коллегии мудрости в Риме – высшем католическом университете – нужны были обличители ересей.
Годы учения подходили к концу. Неумолимо вставал перед монахом-доминиканцем вопрос о выборе дальнейшего пути.
В качестве тезисов своего диссертационного диспута Бруно должен был защищать следующие два положения: «Истинно то, что говорит Магистр сентенций» и «Истинно то, что сказано в „Своде против язычников“». Обе темы были посвящены творениям двух столпов католического богословия. Первый из них, прозванный Магистром сентенций, один из основателей схоластики – Петр Ломбардский. На протяжении столетий его «Книги сентенций» служили главным сводом богословия, и лишь постепенно их начали вытеснять труды Фомы Аквинского, в том числе его «Свод против язычников».
Богословско-философская система томизма возникла в конце XIII в., в период первого серьезного кризиса церковного мировоззрения, когда труды и учение Аристотеля и его арабских и еврейских комментаторов, в первую очередь великого кордовского ученого Аверроэса (Ибн-Рошда), несмотря на повторяющиеся запреты, проникли в европейскую культуру. Развивавшийся на основе материалистических элементов философии Аристотеля аверроизм, исходивший из признания вечности и несотворенности материи, господства естественной необходимости и смертности индивидуальной человеческой души, выражал в философии бюргерскую оппозицию феодальному строю и его идеологии. Церковь боролась с новым враждебным течением с помощью не одних только репрессий, хотя история аверроизма знает немало жертв. Против учения «великого комментатора» Аверроэса было направлено рационалистическое богословие, созданное «великим систематизатором» Фомой.
Аквинат допускал правомерность философии и науки, но лишь как ступень в познании бога: разум может подводить мыслителя к усвоению божественных истин, но ни доказать, ни опровергнуть их он не в силах. Выводы рационального знания не должны вступать в противоречие с религиозным откровением. К этому в конечном счете сводилась гармония веры и знания в томизме. Там, где философия и наука приходили в противоречие с верой, следовал вывод о бессилии разума и надлежало возвращаться к тезису Тертуллиана: «Верую, ибо абсурдно», т. е. недоказуемо. Таким образом, принятие рационализма оказывалось мнимым, а свобода, предоставленная в рамках томизма разуму – фиктивной: догматами веры разуму был положен пусть отдаленный, но непреодолимый предел.
С этим неизбежно должен был столкнуться Бруно. Предложенные ему темы заранее предполагали упразднение всякой самостоятельной мысли. Ему предстояло в сотый, тысячный раз, используя цитаты из богословских авторитетов, изыскивая новые доводы и аргументы, доказать истинность положений, не подлежащих сомнению, наново опровергать суждения противников богословия. Пустое упражнение в красноречии, игра в логические доказательства, недостойная уважающего себя ума.
Диспуты прошли для Бруно успешно, и то, что происходили они не в Неаполе, а в Риме, должно было, видимо, придать больший вес полученной им степени доктора римско-католического богословия. Перед ним открывался путь, к которому готовил его монастырь: он должен был стать героем богословских словопрений, превратить свои знания и способности в щит святого невежества, пойти на сознательное усыпление мысли, замкнутой в догматические рамки предвзятых и недоказуемых положений, не подлежащих ни критике, ни обсуждению. Это был не путь, а тупик, нравственный и интеллектуальный. Самоубийство разума – такова была неизбежная цена открывавшейся перед ним карьеры.
Человек и мыслитель, ставший перед новым решением, был очень далек от того наивного юноши, который увидел свет науки в Сан-Доменико Маджоре и чьи первые религиозные сомнения вызывали трепет невежественных монахов. Годы учения не прошли даром. Монастырь воспитал в нем ненависть к духовенству; изучение теологии вызвало отвращение к богословскому пустословию; принудительное следование Аристотелю заставило пристальнее вглядеться в иные философские системы, а знакомство с новейшими научными трудами требовало критически пересмотреть традиционные представления. Молодой доктор богословия мучительно искал выхода. Ему поспешили помочь.
Однажды на диспуте в монастыре выступал почитаемый в ордене богослов Агостино да Монтальчино. Он обличал александрийского священника Ария, отвергавшего в IV веке учение о единосущности божественной троицы. Не считая нужным вдаваться в тонкости еретических учений, он предпочитал излагать их упрощенно и оглупленно, называл Ария невеждой, незнакомым с элементарными понятиями, благо не приходилось рассчитывать на возражения.
Неожиданно для всех раздался голос в защиту еретика. Джордано Бруно Ноланец заявил, что Арий излагал свои взгляды вполне понятно, не хуже, чем сами отцы церкви, что воззрения его в ортодоксальной полемической литературе были извращены и искажены. Спор имел далеко не исторический и не академический характер. Арианство в новых формах в виде различных течений, отвергавших догмат троичности божества, широко распространилось в Европе XVI в., в частности и в Неаполе.
Собратья по ордену яростно набросились на Джордано. В его келье произвели обыск и обнаружили сочинения св. Иеронима и Иоанна Златоуста с комментариями Эразма Роттердамского. В своих комментариях Эразм противопоставлял нравы и обычаи ранних христиан современной практике католического духовенства, выступал против накопления церковных богатств и лицемерия монахов, осуждал светскую власть церкви и римских первосвященников, утверждал, что и в сочинениях еретиков могут быть найдены глубокие и ценные мысли. Книги с комментариями Эразма Роттердамского значились в папском индексе. Хранение запрещенных книг было тягчайшим преступлением, одного этого факта было бы достаточно для обвинения в ереси. Были и другие основания – против брата Джордано было возбуждено инквизиторами дело, содержащее несколько десятков обвинений. Предупрежденный кем-то из друзей, Ноланец бежал в Рим, чтобы «представить оправдания» (12, стр. 336).
В Риме свирепствовала инквизиция. В 1567 г. был казнен бывший папский протонотарий Пьетро Карнесекки, в 1568 г. было осуждено 60 человек, пятеро из них были сожжены. Четверых приговорили к смертной казни в 1569 г. Среди казненных в 1570 г. – философ и поэт Аонио Палеарио. Пять еретиков было казнено в 1572 г., трое – в 1573 г.; оставшихся в живых ждали каторжные работы или мучительная смерть в инквизиционной тюрьме.
В конце 1576 г., убедившись, что нет надежды на оправдание, Джордано покинул папскую столицу. Начались долгие годы скитаний.
«Отторгнутый от материнской груди и отцовских объятий, от любви и ласки родного дома» (15, стр. 43), он больше никогда не увидит свою Нолу. Один, без друзей и близких, без куска хлеба, сбросив ненавистное монашеское облачение, Бруно отправился в странствие по городам Северной Италии [2]2
Упрощенным является представление о том, что на протяжении всех лет скитаний Бруно за ним следили тайные агенты римской инквизиции. Бруно в момент своего бегства был одним из многочисленных заподозренных в ереси монахов и не представлял для инквизиторов специального интереса. Кроме того, римская инквизиция не обладала ни всеевропейской сетью агентов, ни властью на большей части Европы, даже в католических странах.
[Закрыть].
Генуя, Савона, Турин, Венеция, Брешия, Милан… Случайные заработки: то курс лекций «О сфере» (т. е. о строении мира) в кружке молодых дворян, то книжка «О знамениях времени», изданная анонимно в Венеции (ни одного экземпляра ее пока не удалось найти, и содержание ее неизвестно). После неудачной попытки обосноваться во Франции Бруно идет традиционным путем итальянской религиозной эмиграции XVI в. – в кальвинистскую Женеву.
Поддержанный земляками (они одели изгнанника и дали ему работу корректора в местной типографии), Бруно присматривался к жизни реформационной общины, слушал проповеди, знакомился с сочинениями кальвинистов. Реформа религии, отказ от наиболее примитивных суеверий и форм культа уже не могли его удовлетворить. Проповедуемое же кальвинистскими богословами учение о божественном предопределении, согласно которому человек оказывался слепым орудием неведомой и неумолимой божественной воли, было ему враждебно.
Бруно бежал из монастыря и от инквизиции – и попал в город, превращенный в монастырь, где религиозное ханжество и мелочный контроль за нравами и поведением граждан были возведены в закон, где инквизиция слилась с государственной властью, где всеобщая слежка, добровольный и официальный шпионаж привели к установлению строжайшего контроля за мыслями.
20 мая 1579 г. Бруно был записан в «Книгу ректора» Женевского университета. Университет готовил проповедников новой веры. Каждый студент при поступлении произносил исповедание веры, содержащее основные догматы кальвинизма и осуждение древних и новых ересей. Статуты университета запрещали малейшее отклонение от доктрины Аристотеля. Правила ведения диспутов предусматривали, что каждый желающий выступить должен «воздерживаться от ложных учений, опасных умствований, суетного любопытства и трактовать предмет спора благочестиво и религиозно», не забывая предварительно представить тезисы своего выступления.
Уже первые выступления Бруно на диспутах навлекли на него подозрения в ереси. Но, несмотря на это, Ноланец напечатал памфлет, содержащий опровержение 20 ошибочных положений в лекции ректора университета Антуана Делафе, второго человека в Женеве, ближайшего соратника и друга самого Теодора Безы – главы кальвинистской общины. Тайные осведомители донесли городским властям о печатавшейся брошюре, и автор ее был схвачен и заключен в тюрьму. Кальвинистская инквизиция не уступала католической в жестокости, а фанатизмом последователи нового вероучения превосходили своих римских коллег. Многие из итальянских сторонников Реформации, бежавшие в Женеву в надежде найти осуществление своих чаяний, встретились там с той же религиозной нетерпимостью и нередко кончали свой путь на костре. Выступление Бруно рассматривалось женевским магистратом как политическое и религиозное преступление. Он был отлучен от церкви, подвергнут унизительному обряду покаяния и сразу же после освобождения из тюрьмы, в конце августа 1579 г., уехал из Женевы.
Из Лиона, где знаменитые типографы не нуждались ни в его рукописях, ни в его опыте корректора, Бруно перебрался в Тулузу. «Здесь я познакомился с образованными людьми» (12, стр. 338) – как ему не хватало их в доминиканском монастыре и кальвинистской Женеве! Объявленный им курс лекций о сфере – снова о сфере: именно в эти годы он уяснял для себя новую космологию, путь к которой открыл Николай Коперник, – привлек многочисленных слушателей. Долгие годы вынашивал он сокровенные мысли о строении вселенной: настало время громко сказать о них людям. А когда освободилась должность ординарного профессора (получить степень магистра искусств было нетрудно), Бруно был допущен к конкурсу и стал читать курс философии. В Тулузе никто не требовал от него исполнения религиозных обрядов, но университетский устав предписывал строить преподавание по Аристотелю, а Ноланец разрабатывал свою, враждебную аристотелизму философскую систему. Выступление против схоластической традиции ему простить не могли; лекции Бруно и попытка выступить с диспутом вызвали злобное возмущение его университетских коллег. «Повсюду я подвергался ненависти, брани и оскорблениям, даже не без опасности для жизни, от грубой и бессмысленной черни, побуждаемой скопищем увенчанных степенями отцов невежества», – вспоминал он позднее (17, стр. 7). Возобновившиеся на юге Франции военные действия между католиками и гугенотами и усиление католической реакции в Тулузе положили конец этому первому опыту университетского преподавания Бруно.
Летом 1581 г. Бруно прибыл в Париж. Факультет искусств знаменитой Сорбонны когда-то славился свободомыслием своих профессоров, чьи труды по математике и астрономии готовили кризис аристотелизма. Теперь здесь царил богословский факультет: его решения приравнивались к постановлениям церковных соборов.
От предложенной ему ординарной профессуры Бруно отказался: штатный профессор должен был посещать церковь и исполнять религиозные обряды. Ноланец предпочитал независимость.
Он объявил экстраординарный курс лекций по философии на тему о 30 атрибутах (свойствах) бога. Формально это был комментарий к соответствующему разделу «Свода богословия» Фомы Аквинского, по существу – опровержение томизма.
Лекции в Париже принесли славу безвестному до той поры философу. После монотонных и однообразных курсов парижских схоластов, повторявших пустые и лишенные смысла дефиниции, в аудиториях Сорбонны прозвучала страстная речь мыслителя. По воспоминаниям слушателей, Бруно говорил быстро, так что даже привычная студенческая рука едва поспевала за ним, «так скор он был в соображении и столь великой обладал мощью ума» (18, стр. 5). Но главное, что поражало студентов, – это то, что Бруно «одновременно думал и диктовал». Мысль рождалась на глазах, она обрастала аргументами, находила свое выражение в ярких образах древней мифологии, в смелых и неожиданных сопоставлениях, в решительных выводах, вдребезги разбивавших стройное здание схоластических умозрений. Слушателей охватывало удивительное чувство: они присутствовали при рождении новой философии.
Слава о новом профессоре, о его необычайных способностях и поразительной памяти дошла до королевского дворца. Генрих III в эти годы вызывал нарекания католиков своей политикой веротерпимости и интересом к наукам; испанский посол с осуждением замечал, что король тратит драгоценное время на философские беседы. Впрочем, как показало время, политика веротерпимости Генриха III оказалась непрочной, а интерес к наукам – поверхностным и недолговечным. Но пока что королевское покровительство обеспечивало Бруно известную независимость от университетских и церковных властей.
Вероятно при дворе, Бруно смог сблизиться с кружками французских гуманистов. Здесь, как и в неаполитанских академиях, находила себе приют новая наука, не допускавшаяся в университетские стены. В академиях Парижа обсуждались научные и философские проблемы: Жак Дюперрон излагал взгляды Коперника; член знаменитой Плеяды – содружества поэтов, обновителей французской лирики – Понтюс де Тиар в своих диалогах высказывал дерзкие мысли о бесконечности вселенной. Не меньший интерес вызывала во внеуниверситетских ученых кругах проблема метода. Кризис схоластической логики был ясен всем. Реформа логики была предпринята Пьером де ля Раме, павшим жертвой фанатизма в Варфоломеевскую ночь. Другим течением в антиаристотелевской логике было так называемое люллиево искусство, названное по имени каталонского мыслителя конца XIII – начала XIV в. Раймунда Люллия.
В Париже Бруно издал первые свои книги. Написаны они были раньше, вероятнее всего в Тулузе; многое в них было задумано еще в монастыре. Самая ранняя из дошедших до нас книг Бруно, его трактат «О тенях идей» (1582 г.), содержала первое изложение основных тезисов Ноланской философии; другие парижские сочинения посвящены искусству памяти и реформе логики.
Вследствие возникновения волнений, связанных с обострением гражданской войны, как объяснял Бруно свой отъезд, он отправился в Англию, получив рекомендательное письмо от короля к французскому послу в Лондоне. Одновременно к секретарю королевы Елизаветы Уолсингему шло другое письмо – от английского посла в Париже: «Синьор доктор Джордано Бруно Ноланец, профессор философии, собирается ехать в Англию. О его религиозных взглядах я не могу дать хороший отзыв» (84, стр. 329).
Годы, проведенные Бруно в Англии (начало 1583 г. – октябрь 1585 г.), едва ли не самые счастливые в его жизни. Французский посол в Лондоне Мишель де Кастельно, крупный политический деятель, бывший воин, человек просвещенный (он перевел с латинского на французский язык один из трактатов Пьера де ля Раме), убежденный сторонник веротерпимости и враг религиозного фанатизма, поселил Бруно у себя в доме. Впервые за многие годы одинокий изгнанник ощутил дружеское участие и заботу и мог работать, не зная материальных лишений.
В Лондоне Бруно близко сошелся с поэтом и переводчиком Джоном Флорио, сыном итальянского изгнанника, и с группой молодых английских аристократов, среди которых выделялись врач и музыкант Мэтью Гвин и поэт-петраркист, много лет живший в Италии, Филипп Сидней. Земляк Бруно, знаменитый юрист, «дедушка международного права» Альберико Джентили и дядя Сиднея, фаворит королевы Елизаветы, канцлер Оксфордского университета Роберт Дадли обеспечили Ноланцу доступ к чтению лекций в Оксфорде.
В течение полугода Бруно читал лекции по философии в этом знаменитом университете, о славных традициях которого он писал с уважением и восхищением. Но в Оксфорде давно забыли о знаменитых «мастерах метафизики». Задолго до приезда Бруно была проведена чистка университетской библиотеки, причем особенно досталось книгам и рукописям по математике. Теперь здесь безраздельно царил педантизм грамматиков, которые, по словам современника, «пока возятся со словами, забывают о самих вещах». Цицероновское красноречие и декламаторское искусство прикрывали пустоту и убожество мысли. Насильственная верность традициям и власть авторитета сковывали разум. Специальный декрет предписывал бакалаврам на диспутах следовать только Аристотелю и запрещал заниматься «бесплодными и суетными вопросами, отступая от древней и истинной философии». За каждое мелкое отклонение от правил Аристотелева «Органона» полагался денежный штраф.
Лекции Бруно были приняты сперва холодно, потом с открытой враждебностью; один из его слушателей, Джордж Эббот, впоследствии архиепископ Кентерберийский, писал о лекциях «филотео Джордано Бруно Ноланца, доктора богословия, чей титул был длиннее, чем его рост»: «Более смелый, чем разумный, он поднялся на кафедру нашего лучшего и прославленнейшего университета, засучив рукава, как фигляр, и, наговорив кучу вещей о центре, круге и окружности, пытался обосновать мнение Коперника, что Земля вертится, а небеса неподвижны, тогда как на самом деле скорее кружилась его собственная голова…» (96, стр. 208). К открытому разрыву привело выступление Бруно на диспуте, устроенном в июне 1583 г. в честь посещения университета польским аристократом Ласким. Защищая гелиоцентрическую систему Коперника, Ноланец «пятнадцатью силлогизмами посадил 15 раз, как цыпленка в паклю, одного бедного доктора, которого в качестве корифея выдвинула академия в этом затруднительном случае» (8, стр. 130). Не сумев опровергнуть Бруно в открытом споре, университетские власти запретили ему чтение лекций.
Отвергнутый Оксфордом, Бруно был принят в ученых кругах столицы, пользовавшихся поддержкой наиболее просвещенных и дальновидных представителей придворной аристократии. Английские ученые проявляли глубокий интерес к проблемам коперниканской астрономии. Еще в 1557 г. Джон Ди опубликовал новые астрономические таблицы, приведя их в соответствие с вычислениями Коперника. Его ученик Томас Диггс защищал гелиоцентрическую систему и высказал мысль о бесконечности вселенной. Важные открытия в области земного магнетизма сделал Уильям Гилберт.
Друг Филиппа Сиднея поэт и драматург Фолк Гривелл пригласил Бруно к себе в дом с целью устроить обсуждение проблем новой космологии. Об этом домашнем диспуте, происходившем 14 февраля 1584 г., Ноланец рассказал в диалоге «Пир на пепле» – первом из лондонских итальянских диалогов.