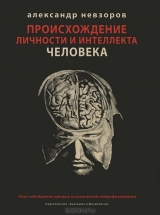
Текст книги "Происхождение личности и интеллекта человека. Опыт обобщения данных классической нейрофизиологии."
Автор книги: Александр Невзоров
Жанр:
Научпоп
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Opportune, моя же собственная формулировка кажется мне здесь не совсем корректной.
Фраза «род homo вел чисто животное существование» по нелепости своей равноценна заявлению «медведь в тайге ведет чисто животное существование», как будто бы у медведя есть некая альтернатива, как будто бы мы повествуем о горьких приключениях профессора, потерявшегося в лесопарке без примуса, микроскопа и биотуалета. Более точной, хотя и более неприятной будет спокойная и трезвая констатация того, что род homo в течение всего этого неизмеримо огромного времени был просто частью животного мира и жил по его законам и правилам, общим для всех животных.
Бедные креационисты бледнеют от мысли о маленьком дриопитеке ( dryopithecus proconsul major), чей крошечный пенис почти восемь миллионов лет назад дал жизнь сразу нескольким ветвям приматов. Именно на нем обычно концентрируется «неприятие самой идеи нашего животного прошлого». Единственное, что служит слабым утешением для теологов, так это все-таки огромная отдален– ноетъ дриопитека во времени, она как-то смягчает болезненность и пикантность вопроса.
При этом совершенно упускается из вида, что обыкновенным животным человек был еще совсем недавно. Причем именно тот человек, что уже обладал анатомическими параметрами, которые сделали бы его незаметным в сегодняшней городской толпе. (При наличии одежды, разумеется.)
Здесь следует, вероятно, напомнить о т.н. позоре Вирхова. Виднейший и авторитетнейший анатом XIX века, антрополог и археолог Рудольф Вирхов 21 , осмотрев и изучив череп, который принес ему на идентификацию и обследование доктор Фульрот ( Johann С Fuhlrott), заключил, что данный череп не является «древностью», как склонен был думать Фульрот, а принадлежит «спившемуся казаку, который в 1813 году погиб в Неандертальской долине во время боевых действий русской армии против армии Наполеона».
Заключение Вирхова было объемным и очень основательным. Великий антрополог продемонстрировал стушевавшему доктору несколько десятков вполне современных пациентарных черепов с такими же точно особенностями лобной кости, надбровных дуг и глабеллы, как и у принесенного Фульротом артефакта.
Надо сказать, что Вирхову удалось убедить не только доктора, но и всю научную общественность Германии, что найденный в пещерке долины Неандер череп не представляет ровно никакого палеоантропологического интереса.
Лишь спустя значительное время было установлено, что осмеянный Вирховым череп является абсолютной сенсацией, первой находкой останков древнего вида людей, которым по месту географического обнаружения черепа дали научное обозначение – неандертальцы – homo neanderthalensis.
Существует мнение, что красивую историю о казаке предложил не Вирхов, а доктор Майер из Бонна, а Вирхов просто характеризовал череп как останки некоего деграданта и алкоголика, страдавшего рахитом, артритом и родовыми травмами. Но «датировка» черепа началом XIX века была поддержана Вирховым.
Бывали, правда, и обратные случаи. В республике Чад, в Коро-Торо, в 1959 году в озерных отложениях были найдены фрагменты черепа, идентифицированные как лицевой скелет homo habilis, т.е. как нечто, имеющее древность не менее двух миллионов лет. В процессе споров о научном имени находки (предлагалась номенклатура – tchadanthro– pus) было установлено, что находка все же является останками современного человека, череп которого из-за чрезвычайной эрозии ветром и песком приобрел сходство с ископаемым гоминидом.
Ceterum, если пытаться серьезно говорить о некоем хотя бы формальном интеллектуальном прогрессе homo за два миллиона лет, то необходимо найти материальные, однозначные, осязаемые свидетельства его деятельности. Более того, эти свидетельства должны иметь датировку хотя бы относительно точную, чтобы мы могли констатировать происходящие с течением времени изменения. И уже на основании этих изменений делать выводы о наличии или отсутствии прогресса.
Единственное, что в данном случае подходит нам по всем параметрам – это каменные орудия. Но, боюсь, на их примере разговор об интеллектуальном прогрессе, скорее всего, совсем не получится.
Рассмотрим каменные орудия.
Если сравнить «олдувайские» 22 образцы оббитой гальки, сделанные примерно 2000000 лет назад, с гораздо более поздними рубилами питекантропов и образцами «мустьерской» техники неандертальцев, то прогресс либо отсутствует вовсе, либо он есть, но незначителен.
Potius, он есть лишь настолько, чтобы заметить некоторые отличия, но не более. Принципиальных изменений ни в обработке камня, ни в конструкции или форме орудий не происходит в течение всей, поистине космической по своей протяженности эпохи.
Два миллиона лет homo колошматит камнем по камню, чтобы придать ему некоторую приладистость к руке и несколько относительно острых граней, но в результате каждый раз получает крайне неудобный и малоэффективный инструмент.
Специализация орудий в течение всего палеолита не меняется и не расширяется, это всего 3-5 «типов» крайне примитивных орудий. Причем «типами» их назвать сложно, небольшая разница форм и сколов связана, вероятно, лишь с первоначальной формой и породой обколотого камня, но не является намеренной.
Только в Ашельской культуре (а это всего 30000 лет назад) ассортимент расширяется до 5-15 типов, имеющих некоторые функциональные различия.
(Лишь 20 тысяч лет назад стала известна «огненная» обработка камня, когда острота грани на орудии достигалась нагреванием– охлаждением обсидиана или кремния 23 .)
Здесь уместно будет вспомнить знаменитую лекцию И. П. Павлова на одной из его «сред».
Лекция сопровождалась опытом: обезьяне предлагалось достать «лакомство», вставив палку в отверстие ящика.
Отверстия были трех видов: круглое, квадратное и треугольное.
Три палки, соответственно, тоже имели круглое, квадратное и треугольное сечения. «Обезьяна решала задачу, пробуя поочередно воткнуть ту или иную палку. (Когда задача решалась, то местоположение отверстий менялось. – Прим, автора). Если меняли отверстие, то обезьяна пробовала опять поочередно втыкать каждую из палок, так и не научившись сопоставлять форму палки с формой отверстия» (Сепп Е. История развития нервной системы позвоночных, 1959).
И. П. Павлов комментировал фиаско обезьяны следующим образом: «Теперь вопрос, почему человек в конце концов решает задачу легко, и какими детальными физиологическими процессами определяется поведение обезьяны? Надо думать, что к решению той же задачи человек подходит потому, что имеет общее понятие о форме, а у обезьян этого, очевидно, нет. Обезьяна каждый день начинает снова» ( Павловские среды, 1949. Т. 2. С. 296).
В этих выводах Ивана Петровича заметна игнорация как фактора времени, так и фактора эволюционности любого процесса.
Павловские обезьяны имели в своем распоряжении от 15 до 60 минут, пока продолжался эксперимент. Такие эксперименты проводились 2-5 раз в месяц в течение двух лет.
Homo на решение задачи, вполне сопоставимой по сложности с «павловской задачей», имел не менее, а возможно, и более двух миллионов лет. От него требовалось сопоставить форму каменных скребков и рубил – с возможностью воздействия ими на мучительный процесс добывания еды. (Вырубку из подтухших туш относительно съедобных фрагментов.)
Для любого существа с полноценным мозгом этот срок кажется вполне достаточным, чтобы получить понятие о связи формы предмета с эффективностью его использования.
Nihilominus, в течение двух миллионов лет homo не мог установить эту связь, практикуя только самый примитивный и, в известном смысле этого слова, ошибочный вариант из всех возможных в данной ситуации.
Вы можете мне возразить, что эти же два миллиона лет были и у обезьяны.
Несомненно.
Но у обезьяны не было ни малейшей потребности в изготовлении орудий, свои пищевые потребности она решала, мобилизуя возможности к древолазанию и являясь почти единоличным обладателем плодовых ресурсов. (Взаимосвязь еды и инструмента для обезьяны, вероятно, впервые возникла лишь в лаборатории Ивана Павлова.)
А вот для homo инструмент был категорическим условием выживания.
Падальщик, лишенный полноценных когтей и зубов, был обречен на использование искусственных предметов, позволяющих отделять от костей съедобные фрагменты и органы, прорубаться сквозь шкуру, отчленять конечности, дробить кости в поисках костного мозга.
Sine dubio, на протяжении этих двух миллионов лет мы видим отчетливую, более того, настоятельную потребность в совершен ие
ствовании орудий. (Это касается как метаморфизации части рубил в реальное оружие, так и улучшения режущих и рубящих качеств бытовых инструментов.)
Более эффективные приспособления в руках homo могли бы обеспечить ему иное место в очереди к падали, а через это: к минимизации риска отравлений продуктами разложения в тушах, к органам, поедание которых не ведет к повреждениям зубов, к чрезвычайно важным возможностям выбора поедаемых фрагментов, к установлению менее жестких отношений внутри собственных стай за счет элементарного увеличения количества еды et cetera.
Nihilominus, мы видим, что на протяжении двух миллионов лет (как минимум) homo неизменно повторял ошибки, сопоставимые с ошибками обезьян из экспериментов И. П. Павлова, будучи не в состоянии соотнести форму предмета с эффективностью его использования.
Тут уместен простой вопрос – а была ли потребность в этом усовершенствовании? Была ли та форма рубил ошибкой?
Лучшим ответом на этот вопрос будет сам факт состоявшегося в конце концов усовершенствования (исправления ошибки), примеры которого я привел в качестве образцов ашельской неолитической культуры.
Следует помнить и то, что совершенство орудий было единственной надеждой homo реализовать свой потенциал агрессий, получить возможность убивать самостоятельно и начать, наконец, свою эволюционную «карьеру».
Ad verbum, И. Павлов, как выяснилось, ошибался, говоря о «знании человеком форм». Естественно, никакого врожденного «представления о форме» homo не имеет, что было доказано исследованиями М. Wertheimer «Hebb and Senden on the Role of Learning in Perception» (A.J. P., 1951. № 64)·, G. Weill, C Pfersdorff«Lesfonctionsvisuellesdel'aveugle– зЭ орёгё», 1935; M. Senden «Raum– und Gestaltauffassung bei operierten Blindgeborenen vor und nach der Operation», 1932. (Исследования проводились на слепых от рождения людях, которым после удаления катаракты было частично возвращено зрение). Эти исследования были корректно обобщены в академическом труде J. Delgado «Physical Control of the Mind» (1969): «Способность понимать видимое не является врожденным свойством мозга, а приобретается только через опыт». Не менее убедительными были и аналогичные изыскания А. Барнетта : «Ранее полагали, что люди обладают врожденной способностью к распознаванию самых простых форм, таких, например, как квадраты или круги; казалось даже, маленький ребенок “мгновенно” и без труда определит разницу между ними. Однако это предположение оказалось ошибочным. Человек, слепой от рождения (из-за врожденной катаракты), впервые увидев окружающий его мир предметов и красок, в состоянии сообщить только о смешанной массе света и цветов. Назвать предмет он не может, как бы тот ни был знаком ему из прошлого опыта, приобретенного путем осязания, обоняния и т.д. Формы вообще нельзя “узнать”: чтобы отличить квадрат от треугольника или круга, приходится считать углы, и то, что выучено сегодня, назавтра уже забыто. Известен, например, такой случай: мужчина, уже научившийся определять квадрат из белого картона, не смог узнать его, когда ему показали тот же квадрат, но выкрашенный в желтый цвет» (Барнетт А. Род человеческий, 1986). Любопытно, но примерно такие же результаты приведены В. Д. Глезером и Н. Праздниковой как результат опытов с рыбами: «Выработка различения красного круга от красного квадрата не дает переноса на зеленые круг и квадрат, и различение приходится вырабатывать заново» ( Глезер В. Зрение и мышление, 1985; Праздникова Н. Исследование инвариантности опознания зрительных изображений у рыб и обезьян // Механизмы кодирования зрительной информации, 1966).
Разумеется, существует ряд теорий, берущихся объяснить кажущуюся «драматическую невероятность» перехода homo от чисто животного состояния в состояние тщательно скорректированной животности, когда его поведение стало мотивироваться не только агрессиями, но и мышлением, интеллектом и сложными социальными играми.
Возникновение мышления и, как его следствие, интеллекта у весьма обычных животных, которыми являлись homo, конечно, можно отнести к самым впечатляющим загадкам и неким «поворотным» моментам в истории всей эволюции жизни на Земле.
Ceterum, это возможно только при условии некоторой «нетрезвости» в оценке самого факта «мышления».
Безусловно, это очень любопытное явление, но всякая попытка его сакрализации или абсолютизации может существенно затруднить понимание его происхождения.
Для начала, вероятно, следует признать, что присвоение «мышлению» титула «поворотного момента эволюции» пока не имеет особых оснований, так как цель эволюции и, соответственно, судьба мироздания как были, так и остаются неведомы.
Навешивание ярлыков «поворотности и чрезвычайной важности» на кратковременную специфичность одного из видов млекопитающих животных без знания общей задачи как данного вида, так и эволюции в целом, противоречит, puto, традициям и принципам естествознания.
Возможно привести и еще более жесткий, реалистичный довод: следует признать, что мозг homo, как некий экзерсис эволюции, помимо всех достоинств, наделен и всеми признаками определенной «тупиковости». Перспектив размерного увеличения или структурных метаморфоз – у него нет, хотя уже понятно, что потенциал этого типа мозга (по ряду параметров) не так велик.
Тот размер черепа, что сейчас может пропустить самка homo через свои родовые пути, уже пределен. Форма (геометрия) мозга, а следовательно, и его структурная организация – предопределена сложившейся архитектурой черепа. А череп неразрывен (морфологически и функционально) с общей конструкцией организма.
(Есть еще примерно триста шесть сверхважных параметров, начиная с васкуляризации мозга, калибра вен, артерий, скорости ликворотво– рения et cetera, заканчивая расположением большой форамины и возможностями тактильных анализаторов, которые накрепко спаивают мозг данного типа с именно тем организмом, которым располагает на сегодняшний день homo).
Sane, метаморфозы мозга возможны, но они увязаны с глобальными метаморфозами всего организма, и, соответственно, обладателем более совершенного мозга будет и совершенно другое существо, даже анатомически не напоминающее привычного нам homo.
Впрочем, мы отвлеклись от темы.
Сакрализация мышления (о которой я говорил чуть выше) приводит к появлению различных теорий о его весьма странном происхождении.
Самой экзотичной и радикальной принято считать концепцию классика «философской антропологии» Гельмута Плеснера (1892– 1985).
Согласно Плеснеру, развитие коры головного мозга – это генетическая и эволюционная ошибка, которая выкинула человека из его естественной биологической колеи и равновесия.
Плеснер пишет: «Человек стал жертвой паразитического развития органа. Паразитизм головного мозга, основываясь, возможно, на нарушениях секреции, одарил его умом, знанием и осознанием мира. Может быть, это осознание – всего лишь грандиозная иллюзия, самообман биологически вырождающегося, высосанного полипами мозга живого существа» ( Плеснер Г. Ступени органического и человек. Введение в философскую антропологию, 2004).
Пассаж Плеснера, конечно, экзотичен, но базируется он на грубой ошибке в области общей физиологии и на недостаточном знании принципов эволюционизма. «Нарушение секреции», конечно, может привести даже к аккордным изменениям в организме, но оно никогда не принимает характер пандемии и не может быть закреплено эволюционно.
Что же касается «паразитического развития мозга», то в данной реплике содержится столько же наивности, сколько и самой банальной морфологической неосведомленности.
(Но Плеснер – не анатом, а философ, так что ему простительны как некоторое невежество, так и надуманность аргументов.)
Плеснер с его фантазийной гипотезой предельно типичен, и только по этой причине упомянут в данном исследовании. Как и все фантазеры, он выбирает самый легкий путь объяснения – вмешательство «некой силы», которая существенно изменяет жизнь целого вида млекопитающих животных.
Причем происхождение этой силы необъяснимо и не может быть доказано или опровергнуто.
У Плеснера это нелепо-загадочные «нарушения секреции», но такой поиск некоего нереального (или необъяснимого) воздействия может прямиком привести и к какому-нибудь из «богов».
Гипотеза «бога», конечно, имеет такое же право на существование, как и любая другая, способная помочь в решении столь запутанной задачи, как наша.
Puto, правомерно сравнение гипотезы с отмычкой; при этом, не является существенным, из чего именно «сделана» отмычка: из «бога», «черта», кости австралопитека или экспериментов Шерринг– тона. Исследователь с равным чувством может воспользоваться той из них, что окажется наиболее эффективной.
В нашем случае гипотеза «бога» проигрывает в эффективности даже кости австралопитека; в масштабах открытий эволюционной нейрофизиологии хорошо заметны ее невнятность, мелкость и отсутствие элементарного, даже теоретического «оснащения» (кроме чисто декларативного). Три этих фактора выводят ее за пределы «рабочих гипотез» даже в том случае, если термин «бог» заменить любой другой сходственной номинацией. (Как это сделал Плеснер с загадочной «секрецией»),
(Пример Плеснера ценен еще и тем, что сразу становится понятно, насколько введение в данную тему любых подобных теорий парализует научный поиск. Естественным образом наука на этом заканчивается и начинается «теология». Здесь дело даже не в том, что история интеллектуального развития есть, прежде всего, история освобождения от всякой религиозной веры. И даже не в том, что любая «вера» – это не более чем отсутствие знания. Но! Как только начинается теология, мы лишаемся возможности просчитывать причины и следствия, теряем право на выводы, утрачиваем сомнение как основной инструмент, а исследование превращается в «охоту на привязанного кабана» и простую формальность с предопределенным результатом. Все равно все упрется в чью-нибудь «непостижимую волю», а любой поиск выведет на заготовленную поколениями теологов «сверхъестественную причину». У меня нет уверенности, что на таков стоит терять время.) 24
«Плеснеровская» (ничего не объясняющая) теория, repeto, просто самая экстравагантная из множества экзотических теорий о происхождении мышления. (Чем, собственно, и известна.)
Теории «неэкзотические» нельзя назвать более реалистичными, они просто более унылы и бесцветны. Чаще всего, это лишь покорные, бездумные кивки на эволюционный процесс. Причем, покорность кивка свидетельствует не о парализующем почтении к «Дарвину», а лишь о полнейшем нежелании вникать в логику аро– морфоза и «считать повороты» извилистого и авантюрного процесса эволюции. Любопытно, что при всей их «тусклости», они точно так же бездоказательны, как и радикальный философский экзотизм Плеснера.
(Ad verbum, сам Ч. Дарвин никогда и не пытался дать никакого однозначного объяснения факту «перехода» homo к более сложным формам поведения и мышлению, мудро ограничиваясь ссылками на естественный отбор, половой отбор, изменчивость, влияние сред, размножение, наследственность, соотносительные изменения et cetera.)
Самой «расхожей» из «тусклых» можно признать гипотезу социализации homo в процессе «совместной охоты». Второе место принадлежит известному утверждению Ф. Энгельса о роли некоего «труда».
Обе версии давно и прочно стали locus communis.
Но «почтенность» и обиходность данных версий лишь маскируют полное отсутствие всяких археологических доказательств «охотничьей» или «трудовой» деятельности homo erectus, вплоть до самого позднейшего периода, т.е. до той эпохи, которая обобщенно именуется «кроманьонской», и по самому строгому счету включает в себя лишь последние 15-20 тысяч лет истории homo. (По другим, более размытым оценкам, около 30 тысяч лет).
Explico.
На данный момент археология свидетельствует, что ни один из раскопов «докроманьонских слоев» ни в одной части мира не обнаружил орудий, применимых для какой-либо охоты на какое-либо крупное животное или для реальной трудовой деятельности.
Все рубила, скребки (и прочий каменный инструментарий), известные на сегодняшний день науке, применимы, вероятно, только для «расковыривания» туш и являются простым компенсатором неполноценных когтей и зубов homo, не пригодных даже для разгрызания и разрывания падали.
Любые гипотезы об охотничьем применении дубин, острых палок, рогов или костей животных – имеют статус чистой фантазии, так как не
подтверждаются никакими археологическими находками.
(Здесь мы позволили себе обобщить и суммировать взгляды нескольких школ палеоантропологии, представленные в трудах
В. Бунака (1966), Л. Кельсиева (1883), Л. Лики (1903-1972), G.Shaller, С Lowther (1969), М. Dominguez-Rodrigo (2001), R. J. Blumenschien (1995), М. Е. Lewis (1997), б. Поршнева (1974), М. М. Selvaggio (1994), М. Мензбира (1934 ),Д. Кларка (I960).
Разумеется, тут мало уместен любой категоризм. Разумеется, существует и другая (более привычная) точка зрения, имеющая вес и признание. ( Р.Дарт, А. Окладников, В. Зергель, С. Семенов et cetera.)
Однако само наличие авторитетных и серьезных сомнений в доказательности гипотез о «совместных охотах» или «труде» ранних homo – не позволяет строить теорию происхождения интеллекта на столь зыбком и спорном материале, как «охотничья» или «трудовая» версии развития человека.
Puto, что сама основа предположений о происхождении мышления и интеллекта должна быть значительно более прочной, чем то, что предлагают сегодня палеоантропологические гипотезы. (Диску– тивность, sine dubio, превосходна, но не в качестве фундамента.)
Nihilominus, такая основа существует и находится она, естественно, в сфере нейрофизиологии, т.е. нашего знания о возрасте, функциях и особенностях того субстрата, который, собственно, и генерирует мышление.
Более того, именно понимание особенностей и функций различных структур мозга – практически не оставляет никаких шансов ни мистически экстравагантным гипотезам, ни «почтенным». В основах всех этих версий лежит некая предполагаемая возможность естественной передачи навыков мышления от поколения к поколению.
(Вероятно, опровержение такого рода «уверенностей» не входит в задачи данного исследования, но для примера придется один раз расставить точки над і.)
Рассмотрим фактт. н. передаваемости навыков мышления и, как следствие, их суммации – интеллекта.
Возьмем за основу классическую анатомию головного мозга и те открытия, что были сделаны лауреатом Нобелевской премии Сантьяго Рамон-и-Кахалем (1852-1934), отцом и основоположником «нейронной теории», гласящей что «каждый нейрон является патологической единицей» и что «каждый нейрон является анатомической единицей». Бесспорность данного утверждения (как это часто бывает) помешала в свое время сделать из него само собой разумеющиеся выводы.
Что же явствует из открытия Кахаля и основных принципов классической нейроанатомии?
Ответ предельно прост, но чтобы быть понятым, нуждается в некоей развернутости и поэтапности.
И нейрофизиология, и гистология мозга не оставляют никаких иллюзий по части того, что ни навыки мышления, ни интеллект не передаются, не закрепляются, не наследуются.
Более того, интеллект в его сегодняшнем понимании, естественно, не является врожденным качеством человека.

Илл. 33. С. Рамон-и-Кахаль
Навыки мышления и интеллект – это РАЗОВОЕ, искусственное явление.
В каждом новом человеке, появившемся на свет, он должен быть создан заново, с абсолютно чистого листа. Такое создание может быть успешным, а может и не быть таковым.
Любопытно, что несмотря на то, что в мышлении есть вроде бы некая потребность, оно не закрепляется, не становится наследуемым качеством, частью человеческой сущности.
Ceterum, это неудивительно, так как не существует никакого физиологического способа его передачи по наследству, от особи к особи.
Интеллект – это прежде всего объем систематизированных и точно номинированных понятий, меж которыми установлены миллиарды ассоциативных связей.
Т.е. это информация и свобода распоряжения ею.
Нигде и никаким другим образом, кроме обеспеченных всем необходимым нейронов коры головного мозга, эта информация не находится и не может располагаться. Она копится всю биологическую жизнь человека и, соответственно, умирает вместе с ее физическим носителем, так как ее существование неразрывно связано с физиологическими процессами всех структур головного мозга. И биологически «передаваться» она могла бы только вместе с теми миллиардами нейронов, в которых заключена, что физиологически неосуществимо.
Интеллект – это продукт, а не свойство организма, и даже не физиологическое качество.
Более того, интеллект смертен.
Он погибает вместе с нейронами коры через 6-8 минут после наступления «биоэлектрического молчания» головного мозга, т.е. его биологической смерти.
А уже через шестнадцать минут «обитавшие» в миллиардах нейронов коры головного мозга образы Ричарда III, Онегина, Леонида, звуки вагнеровских опер, лица жен и детей, графика формул Эйнштейна – превращаются в холодеющую слизь. И в этой слизи начинаются нормальные процессы разложения, уже без следа стирающие образы и звуки, когда-то населявшие этот мозг.
Ridicule, но тут и генетика вынуждена отставить характерную для нее многозначительность, жонгляцию открытиями-однодневками и честно признать, что «вы наследуете не интеллект, а способность развить свой мозг до определенного уровня при благоприятных условиях» {Ridley М. Genome, 2008).
Да, для того чтобы иметь «хороший мозг», необходимо получить его хороший проект.
Этим проектом, собственно, и является шестая хромосома генома.
Но это лишь проектная документация, «инструкция по сборке», не более. Документация, которая будет пытаться диктовать анатомическое и физиологическое построение данного органа, возмож
но, предопределит его анатомическую нормальность или аномалию, но она не имеет никакого отношения к интеллекту.
Explico, можно взять сколь угодно длинную династию философов, ученых или писателей.
Озаботиться тем, чтобы на протяжении любого (сколь угодно долгого) количества лет данная династия могла получать все виды практических знаний, изучать и познавать все типы наук, искусств и важнейшие языки мира.
В конце этой династической цепочки можно разместить новорожденного младенца, имеющего в качестве отца, матери, дедов, прадедов и прапрадедов только представителей этой интеллектуальной династии. И... поместить этого малыша в «джунгли», лишив его всякой возможности получить даже самое примитивное образование и воспитание, т.е. лишив его общества тех людей, которые являются носителями коллективного интеллекта.
Это существо не будет знать не только ни одного из человеческих языков, оно не будет знать ни собственного имени, ни единой буквы алфавита, оно не будет подозревать о существовании Будды или Чайковского, мобильных телефонов или Фермопильской битвы, оно будет иметь все повадки и манеры обычного животного.
Возможно, если это существо выживет, оно рано или поздно возьмет камень и ударами другого камня попробует приладить его к своей руке. Данное существо, по сути, вернется в палеолит, несмотря на то, что никаких анатомических преобразований мозга «обратно» не произошло, а геном во всех его вариациях и со всеми мутациями был добросовестно передан и унаследован.
CAPUT VI
«Мауглеоиды». Мальсон. Скорость возвращения homo
в дикарское состояние. Свидетельства Тюльпа и Вагнера.
Изыскания Линнея. Полушарная асимметрия. Круг замкнулся.
Мнение Гердера.
Примеров того, с какой волшебной скоростью человек возвращается в свое палеолитическое, животное состояние много до чрезвычайности. Часть из этих примеров попахивает мифами, но то, что было собрано профессором Люсьеном Мальсоном, достаточно убедительно.
Мальсон систематизировал порядка 60-ти подобных случаев, в документальной достоверности которых мог удостовериться лично или проработав все имеющиеся свидетельства и документы.
Мальсон описывает классические образчики «диких детей», выросших в изоляции или в животной среде, вроде Виктора изАверо– на, цейлонского мальчика Тиссы, девочек Комалу и Амаду (о судьбе которых мы знаем из отчета доктора Дж. Сингха, попечителя сиротского приюта в Мандапоре), «ребенка изЛокнау» (1874), Дины Сарни– чар из Минспури (1872), «мальчика из Овердайка» (1803), «волчонка из Гесса» (1344), «мальчика-волчонка из Ваттерави», «Дикого Питера из Гамелина» (1724), китайских «мальчиков-панд», обследованных биологом Хоу Мень Лу, «Миммиле Блан» из Шампани et cetera.
Косвенными (не столь тщательно фильтрованными и документированными, как у Мальсона) можно считать и собранные Р. Берн– хаймером свидетельства в его труде «Дикие люди в Средние века».
Более ценным и не вызывающим сомнения в безупречности изложения фактов можно счесть описание очередного «мауглеоида» анатомом Николасом Тюльпом (1593-1674). Осмотрев выловленного в ирландских горных районах подростка, Тюльп оставил замечательное описание:
«Доставленный в Амстердам, этот юноша в возрасте около шестнадцати лет был выставлен здесь для обозрения. В Ирландии он, потерянный родителями, жил среди горных овец и с раннего детства перенял овечьи повадки. Тело у него было быстрое, ноги неутомимы, взгляд суровый, сложение плотное, кожа обожженная, члены мускулистые. Был он грубый, без рассудка, бесстрашный, лишенный человеческого вида. Впрочем, он удивлял своим здоровьем. Лишенный человеческого голоса, он блеял наподобие овцы».







