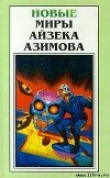Текст книги "Навсегда (СИ)"
Автор книги: Александр Круглов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)
– Как твой Бегемот? – сорвался вдруг, не выдержал Ваня.
– Кто, кто, кто?
– Да этот твой, толстозадый, что тебя в Киев таскал, завгороно.
– Что-о-о? Завгороно? – изумилась жена. – Ха-ха-ха! Вот это новость, вот это да! – Даже глаза свои – бархатистые, темные, чуть удлиненные, так округлила и выпучила, что они, казалось, захватили все ее еще подбеленное, сохранившее с вечера пудру лицо. – Ну и ну! Уже полгода прошло! Неужели терпел до сих пор? Да как же ты, Ванечка, смог? Как? Не похоже так на тебя!
– Считай, что это я так, на всякий случай. Пока не было у вас ничего. А если бы было… Если случится – убью! – потряс он над ней кулаком. И непонятно – в шутку ль, всерьез.
– Дурак ты, вот ты кто! Настоящий дурак! Да я же не одна на учительской конференции этой была, не одна! Только из нашего города больше десятка историков. И ты хорошо это знаешь. Ишь, надумал, как обозвать – Бегемот! – и вдруг дерзко, задиристо выпалила:– А Бегемот этот, кстати… Что бы ты там ни думал о нем… Хоть и толстозадый, как ты говоришь, а очень даже приличный, просто шикарный мужчина, солидный, какой-то даже величавый, величественный.
– Нашла, идиотка, чем восхищаться! – взвился вдруг он. – Величавый, величественный… Дурочки… Дура! Усвоили идеал! А я так считаю, что чем человек солидней, величавей, величественнее… Да-да!.. Чем больше пыжится, тем от него меньше проку, тем вернее в нем скрывается бюрократ, дубина и внутренний хам. Человек должен быть беспокойным, вечно метаться, искать. Вот тогда, может быть, ему еще и удастся важное что-либо понять. Да ненавижу я этих вальяжных, внушительных! – ударил он кулаком по столу – аж кружки подпрыгнули. Оглянулся с испугом на дверь – не очень ли громко. Но вроде бы нет, ничего… И, принизив чуть голос, отрезал:– Плевать на них я хотел на солидных этих, вальяжных… Плевать!
– Это потому, что ты сам не такой, – ухватилась сразу за Ванин возглас жена, – совсем, совсем не похож! И я не уверена, что надо этому радоваться. Совсем не уверена! – повторила она. – Почему ты всю ночь сегодня терзаешься? А? Почему?.. А не нарушил бы приказ, не поступил бы по-своему, не полез бы на этот бугор – были б твои солдаты целы. А теперь вот ночами не спишь. И разве что-нибудь изменилось? Да ничего! И теперь суешься в каждую дырку, в каждую щель… Ничего, никого не пропустишь…
– Ты это о ком, о чем? – вскинулся Ваня.
– Да не о бабах, не о них! – поняла сразу его и жена. – Хотя и они… Но я сейчас о другом. Будешь нос свой повсюду совать, не станешь другим… Запомни, когда-нибудь и ты там окажешься, где твой Николай.
– Да разве я за то себя упрекаю, что всюду нос свой совал. Господи, поняла называется! – взмолился обиженно Ваня. – Да не за это! Совсем за другое! Как это говорится: хочешь узнать, настоящий мужчина перед тобой или так, размазня, узнай прежде всего, добился ли он в своем деле настоящего мастерства, стал ли он подлинным профессионалом. За это! На фронте не смог. И теперь… Два года почти в газете уже, а все какие-то фитюльки, всякую бездарь строчу.
– Да кто же в том виноват?
– Да никто, – поник, склонил голову Ваня, – разумеется, я. Один только я.
И Любе вдруг снова стало жалко его.
– Давай-ка еще чаю попьем, – предложила она и, не дожидаясь ответа, схватилась за чайник. Он был еще теплым. Нацедила неполные кружки, заварки плеснула, насыпала сахару. – Пей. – И принялась первой сама. Ваня за ней.
– Я только с одним не согласна, – возобновила она прерванный разговор. – Почему именно мастерство? Разве первейшая добродетель мужчин не ответственность, не долг, не отвага?
– Мастерство! – остановив на полпути ко рту неполную кружку, оборвал ее, подтвердил подчеркнуто Ваня. – Мастерство! Есть в мужчине оно, особенно в каком-нибудь трудном, сложном, большом деле – и не надо больше ничего выискивать, ни в чем сомневаться, гадать… Ну в чем, сама посуди, в чем еще в наше время могут воплотиться и проявиться во всей своей полноте вековые, исконные мужские черты? Ну в чем? Разве мыслимо оно, мастерство, да и вся дорога к нему без напряженного поиска, без самых мужественных из всех присущих мужчине начал – без долга, ответственности и терпения? Да-да, терпения! Того великого, не заменимого ничем терпения, когда, зубы стиснув, кулаки, всего себя зажав в железный кулак, выждав момент, наконец сокрушаешь все нестерпимое, враждебное на пути. Все! Вот так же, как мой напарник на фронте, Нургалиев умел, как, чему учил нас, да так и не смог научить меня, дурака, взводный наш, Матушкин. С детства, от отца, от деда перенимал, накапливал он в тайге, на охотничьем промысле умение всякие трудности одолевать, побеждать, затем в кадровой армии, а потом и на фронте – в первые, разгромные дни и недели войны. И как же потом все это победительно, торжествующе выдал! Особенно тогда – по горло в снегу, на заброшенном старом погосте, в глухой и бескрайней сальской степи. Весь день, всю ночь не давал взводу спать, заставлял нас и самих себя, и орудия в сугробы, в лед, в землю закапывать, маскироваться, куклы ставить между могил. Зато когда пошли на нас танки… Как он нас тогда сдерживал, как рычал свирепо на нас, матюкался, грозил кулаком, чтобы мы – глупые, нетерпеливые, пугливые пацаны, не дай бог, не испортили все, не начали б раньше… И только выждав, точно выбрав момент, когда немецкие танки подошли к нам вплотную и деваться им некуда… Впереди-то, как надолбы, могильные плиты, а справа и слева река, а за ней батареи полка… Только тогда наш взводный яростно рявкнул: «По гадам! Огонь!..» И не стало, как и не было, целой колонны вражеских танков. Целой колонны! Разметали, уничтожили всю! Мы начали, подхватил взвод Зарькова, а уж полк доконал… Вот это был мастер – взводный наш, Матушкин! Вот это мужчина! Да все, все, что есть в мужиках самого-самого, все в тот момент, в этом искусстве его воедино слилось, проявилось, блеснуло как в капле, как в зеркале!
Люба как открыла рот, чтобы чаю глотнуть, так и застыла, глядя на Ваню – на руку, вознесенную им и коротко, жестко рубившую у самой груди, на побелевшие, тисками сжатые короткие пальцы, на, казалось, вонзившийся прямо в нее, но в действительности устремленный неизвестно куда – куда-то в прошлое, далеко-далеко, неукротимый, упорный, будто бешеный взгляд. И пораженная, с возгласом: «Ванечка! Ваня!» – Люба вскочила со стула, через стол, склонилась порывисто к мужу, стала, будто о чем-то прося, призывно шептать:
– Ванечка, милый… Мой бедненький… Ваня! – Поймала руку его. Он ее вырвал.
– А сегодня, сегодня, – не слушал Ваня ее. Он весь был настроен на то, чтобы внимали только ему. Только ему! – А этот прораб, бывший сапер? – продолжал доказывать он. – Когда его топором по башке и в трубу… Да разве бы выбрался он из нее? Да ни в жизнь! – ударил Ваня опять кулаком по столу. Но осторожней, потише. – Да не знай он ее, не знай всего водовода, не собери весь свой прошлый и нынешний опыт сапера, прораба в кулак… Да не выбраться бы ему никогда. Ни за что!
…Бывший сапер, фронтовик (правда, старше, чем Ваня, чуть ли не вдвое), теперь строитель, прораб третий год тянул водовод – без малого сто километров, от горного озера к городу. От работяг требовал жестко. Ни прогулять, ни своровать, ни приписать не давал. Хочешь заработать – работай. Не брал и сам ничего. И дневал, и ночевал на своем водоводе. Не пил, не курил, баб избегал (не раз, видать, насолили ему, оттого бобылем, наверно, и жил) и смысл всей своей жизни видел в работе. Так что требовать от других право имел.
Ну, на участке и невзлюбили его. И накануне пробного пуска воды двое, подкараулив, тюкнули его обухом топора по башке и в трубу. Люк задраили. Кто догадается искать начальника там? Да и смоет водой все следы. А бывший солдат возьми да и очухайся. С разбитым затылком, мучимый жаждой, в кромешной непроницаемой тьме, задыхаясь от гнилого, спертого воздуха, за трое суток без малого двадцать километров прополз. Колени, кисти рук истер до костей, путь свой по железному поду трубы отметил живым мясом и кровью. Хорошо еще, что в поисках прораба опробывание водовода отложили. Так что вода настигла его уже в самом конце пути и как выстрелила им в бассейн из трубы.
Потом больница, следствие, суд. Как ни странно, каждое слово против убийц из пострадавшего приходилось вытягивать. Он не жаждал отмщения. Только еще больше, чем прежде, замкнулся, погрузился в себя, всех избегал. А Ване, явившемуся к нему из газеты, показал молча спину. И докапываться до всего Ване пришлось стороной. И все-таки под конец, прежде чем приняться за очерк, опять явился к нему.
– Не уходите, – взмолился начинающий журналист. – Я тоже ведь воевал. Вместе с вами, на Третьем Украинском. А теперь вот работа такая. Пожалуйста, без ваших ответов я ничего не смогу написать.
Молча, набычась, бывший сапер смотрел, смотрел на молодого газетчика… Светленький, крепенький, щеки – кровь с молоком… Ни шрамика нигде на лице, руки и ноги целы… Не похоже как-то, чтоб воевал. Ну да не врет же… Просто, видать, ошивался где-нибудь в службах, при штабе, во вторых эшелонах и не нюхал передовой. Да все едино… Чего тут рассказывать? И шевельнув ссохшимися там, в трубе, да так и оставшимися, словно гармошка, губами, подрагивая прикошенной слегка головой, протянул Ване еще розовые от новой нарастающей кожи ладони, задрал, повыше штанины и показал сплошные, в ужасных рубцах сине-лиловые шрамы вместо колен.
– Смотри! – Полюбовался с каким-то злорадством и сам – желтыми, в кровавых прожилках, мигавшими беспрерывно глазами. – Это нельзя рассказать. Попробуй-ка сам! – И, бросив брючины, поглубже в карманы ладони заткнув, опять показал журналисту спину.
Случай с прорабом Ваню потряс. Почудилось что-то очень-очень знакомое, похожее на пережитое всеми ими на фронте. Родную, схожую душу остро ощутил Ваня в нем. Очерк – первый по-настоящему стоящий – давался с трудом, особенно когда дошел до описания, как прораб полз почти трое суток в трубе. Вымучивал каждое слово, корпел, перекраивал – по выходным, по ночам. А работе и теперь еще не видно конца.
– Ты что, бросил очерк писать? – спросила жена. Когда до Вани дошло, о чем она спрашивает, он удивился:
– А ты откуда знаешь, что я очерк пишу? Я же тебе не показывал, не говорил…
– А мы и сами с усами, – таинственно заулыбалась жена.
– Ты что, по папкам моим, что ли, лазаешь?
– Полазаешь у тебя… Ты же голову оторвешь.
– Ну ладно, хватит… Выкладывай.
– Ха-ха-ха! – расхохоталась Люба. – Откуда? Да оттуда! – ткнула она пальцем за кухонную дверь. Ваня не понял.
– Куда ты складываешь черновики?
– На шкаф, – ответил растерянно Ваня.
– Вот именно. А оттуда они по хозяйству, в том числе и туда, – снова ткнула она пальцем на дверь. – Да-да, в туалет! Ничего не поделаешь, – сочувственно покачала она головой, – должна же быть какая-то от твоей писанины отдача. Вчера, представляешь, Олежке приспичило… Ножкой на стул, ручкой на шкаф… А там – ничего. Ни листочка. И кричит: «Мама, а что, разве наш папа бросил писать?» Представляешь? Я как услышала – так чуть не упала! – И, не сдержавшись опять, Люба и теперь давай хохотать, да так, что пришлось уткнуться лицом в полу халата, чтобы сына, соседей не разбудить.
– Не может быть! – подивился отец. – Так и сказал?
– Не веришь? Проснется, спроси сам. Рассмеялся и Ваня. Стали смеяться вдвоем. Наконец успокоились.
– Откровенно говоря, я даже встревожилась, – все еще весело призналась жена, – почему туалетной бумаги не стало? Надеюсь, – вдруг серьезно взглянула на мужа она, – ты не сдался, не забросил свой очерк? Ну что, о чем ты прежде писал?.. Информашки, репортажи, корреспонденции… На них тебе никогда стоящим журналистом не стать. А это уже настоящее… Тут жизнь, тут судьба. Неумело, слабо еще, – честно, прямо сказала она, – художественность тут и не ночевала пока. Но главное есть. Есть – и надо работать.
Ваня слушал, и ему хотелось слушать еще и еще, ухватить все то, что пусть так необычно, так неудобно, поневоле тайком, но все-таки прочла и сумела трезво и требовательно подметить в его первой серьезной журналистской работе жена. И как все-таки важно порой взглянуть на себя, на дело рук, сердца своего со стороны. Господи, как это важно, чтобы кто-то, кто до конца, хорошо тебя знает, кто верит тебе, верит в тебя, добра желает тебе и кому веришь ты, однажды рассмотрел вот так твои дело и душу – бескорыстно, бесстрашно и так же откровенно и честно, как есть, все сказал, чего о себе не знаешь и сам.
– Ваня, а ведь прораб этот прав. Я тоже так думаю, – вдруг призналась жена, – сам не полезешь в трубу, не проползешь по ней хоть сколько-нибудь, ничего у тебя не получится. Хочешь верь, хочешь нет, но это, по-моему, так.
Что-то вдруг скрипнуло в коридоре, вне кухни. Поначалу негромко, чуть слышно. Оба невольно вскинули головы. Скрип повторился – четче, настойчивей. Но не в их комнате, нет. Не их это дверь. Олежка тут ни при чем. И не за дверью Лидии Николаевны, а где-то левее, за кладовой, где была комната Шурки. Теперь что-то щелкнуло, треснуло там. Топнуло, шаркнуло. И то, что вдруг оба увидели, что открылось вдруг им, как ошпарило их, будто подкинуло.
В распахнувшихся наконец дверях ближайшей комнаты, наверное ослепленная электрическим светом или просто со сна протирая кулаками глаза, возникла неожиданно Шурка – совершенно нагая, без рубашки, без лифчика и без трусов, в чем мать родила. И не соображая, видать, пока ничего – что свет почему-то на кухне, что, может, кто-то там есть, что надо, значит, назад, – все так же протирая кулаками глаза, зашлепала к туалету.
То, что сталось тут с Ваней, ему в этот миг невозможно было понять. Ни намека на какие-то воспоминания, чувства, догадки о давнем, глубинном, былом – о первых его довоенных детских влюбленностях, о терзаниях, страхах, что навалились вдруг на него, когда в последний раз осколком садануло его, о неожиданной страсти к далекой чужеземной девчонке, о встретившихся потом случайных его утешительницах – и в армии, и после нее… Ничего из этого даже и капельки не промелькнуло у него в голове. Но все это было в нем. Было! Когда-то вошло, впилось в каждую его кровинку и клеточку, во всю его душу и плоть и в любой момент готово было схлестнуться, завязаться в запутанный темный клубок, вспыхнуть внезапным неодолимым огнем. И потому только увидел Шурку, такой, какой иногда лишь себе представлял, а теперь вполне реальной, во всей своей обнаженной красе, так весь сразу и обомлел, малость даже как будто затрясся, впился глазами в нее, и они сами невольно выбрали одну самую главную, самую важную точку – в центре, посредине ее и, не отрываясь, так и глядели, просто вонзились в нее. Какая все-таки Шурка другая, непохожая на всех, кого он видел, знал до нее, а тем более на жену. Люба – яркая, темная, даже зимой золотистая, смуглая, а уж летом и вовсе как шоколад. И фигура… Тоже… У Любы как бы устремлена, тяготеет вся кверху, с центром тяжести не столько у бедер, увы, сколько у плеч, у груди, и от ее учительской сидячей работы чуток уже затяжелевшая и оплывшая. А у Шурки… Ваня и прежде угадывал, воображением просто срывал все одежды с нее. Не раз себе ее рисовал. А тут не нужно и рисовать, не нужно и воображать. Смотри, не зевай. И Ваня смотрел – пугаясь, смущаясь, остерегаясь невольно жены, но, не в силах удержаться, смотрел и смотрел. Даже нет, не смотрел, а пожирал глазами нагую соседку. Ну кто она, чтобы вот так его захватить? Кто? Простушка-буфетчица, скандальная, вздорная, разгульная баба. Намного моложе жены. Хотя сын, Серега ее, только чуть младше Олега. И шестнадцати еще не исполнилось ей, когда родила. И двух лет не живут с ней в общей квартире, а уж сколько успела сменить мужиков. Теперь электрик Борис у нее. Является слегка под газком, по ночам. Частенько колотит ее, а она вопит на весь дом. Потом затихает. И только слышно, как за стеной ходуном ходит кровать.
Вдруг Шурка замерла перед кухней. Видать, дошло до нее, что она не одна, что кто-то на кухне будто бы есть. Остановилась, скинула-с глаз кулаки, распахнула глаза. И все поняла. Соседей увидела – Любовь Ефимовну, Ивана Григорьевича… И, ахнув, ойкнув: «Ой-ей-ей!»– развернулась и устремилась обратно, к себе. Но тут, на беду, с ноги ее соскользнул узорный, с красным помпоном новенький тапочек. Она машинально согнулась, рукой потянулась за ним. И вовсе ввергла Ваню в смятение, в трепет и пламень. Все, все самое дурманное, знойное, могучее в ней так во всей красе своей и предстало вдруг перед ним – округлое, пышное, ослепительно белое. Но как же быстро исчезло! Как быстро! Подхватив с полу тапочек, выпрямившись и тем самым водворив опять центр тяжести свой, свой главный объект, на свое обычное центральное место, она уже хотела устремиться к себе. Но до комнаты ей, должно, показалось чересчур далеко, а дверь туалетная рядом. И, вскинув, выставив вперед, как таран, свою налитую, высокую, такую же, как и то, что сверкающим пышным ядром только секунду назад было нацелено Ване прямо в глаза, устремилась на дверь. Отбросила ее. Скрылась за ней. Тут же щелкнул крючок. И понеслось:
– Падлы! Мало им комнаты! Посцать не дадут! – вопила и вопила она. – Ну что, что, падлы, сидите? Дайте уйти!
– Пошли, пошли, – перепуганно вскочила с табурета, ухватила Ваню за руку жена. Он словно прирос. Онемел. – Ну пошли же, пошли! Да хватит тебе! Нашел на что пялить глаза!
3
– А ты у меня негодяй, – втолкнув мужа в комнату и захлопнув дверь за собой, возмутилась жена. – Противно смотреть!
Горло у Вани как спазмой сжимало еще. Боясь, что голос подведет, прохрипит, выдаст его, промолчал.
Надувшись, скинув халат, Люба упала в постель.
Пошагав еще виновато, растерянно туда и сюда между дверью и ширмой, за которой посапывал тихо Олег, Ваня, все еще возбужденный, горя, не выдержал наконец, решительно скинул пижаму, свет погасил и нырнул под одеяло, к жене под бочок.
– К ней, к ней давай, – сжалась в комочек она. – Я, конечно, знала, что ты за кот, но чтобы так?
– Как?
– А так! Посмотрел бы на себя со стороны. Противно было смотреть. Ужасно. Эти глаза… – Глаза, глаза… Мало ли какие глаза…
– Да ладно, бог тебя когда-нибудь за это накажет. Нарвешься на какую-нибудь – проучит тебя.
– Хрен с маслом меня проучишь, – хмыкнул самонадеянно он. – Я кого угодно сам проучу.
– Ну давай, давай! Это тоже с фронта у вас. Там пронесло, остался живой, думаешь, и здесь всегда будет везти? Нет уж, так не бывает, чтобы только везло.
Ему сейчас не разговоры были нужны. Всего распирало, жгло изнутри. И он прохрипел:
– Ладно, хватит. – И, не считаясь с ее настроением, с гневом, презреньем, может быть, даже еще больше распаляясь от них, вдруг решительно сцапал ее.
– Да отстань ты! Слышишь, отстань! – негромко вскричала она. – Ишь, разобрало. Вот к ней и давай. – Все еще упрямясь, но уже не так решительно, цепко, она пока не сдавалась ему.
– Еще чего? К ней… – подсознательно чуя, угадывая, что именно это ей и нужно, приятно услышать сейчас, выдохнул он прямо в ухо жене. – К черту ее. Для этого ты у меня есть, – еще круче, уверенней стал ее себе подчинять.
…И не заметили, как утро пришло. Сквозь шторы уже проникал в комнату свет. Потягиваясь, Ваня поднялся с тахты, дернул за шнур. Окно обнажилось. Ночник уже был ни к чему – погасил. Распрямился, руки вскинул, зевнул – почти прорычал. Получилось громче, чем можно. Оглянулся с опаской на ширму. Но поздно. Олежка проснулся.
– Мама! – первое, что со страхом, с надеждой выкрикнул он.
– Я здесь, здесь, – отозвалась с любовью, нежно она.
– Я к вам хочу… К вам!
– Ну давай… Беги ко мне. Папа уже встал.
– Вот что, – наблюдая, как они, обнявшись, целуясь, наслаждаются вместе в постели, исполнившись нежностью от того к ним и сам, объявил вдруг Ваня, – собирайтесь, поедем сегодня за город.
– Ура-а! – вскочил, запрыгал на диване Олег. – Мама, скорее, скорее! Вставай! – И потянул ее, не давая ей больше ни минуты лежать.
– Спроси папу, куда? – не выспавшись, оттягивая расставание с постелью, подсказала она.
– Секре-е-ет! – вскинул Ваня вверх палец. – Ба-а-альшой секрет! Военная тайна!
– Тайна, тайна! Военная тайна! – еще пуще заголосил, запрыгал Олег. – Мама, вставай! Ну вставай же, вставай!
4
Сажать сына перед собой на бензиновый бак Ване теперь не пришлось. Это было рискованно – мало ли что ждет на дороге двухколесный неустойчивый мотоцикл: поскользнется на масляном дорожном пятне, подхватив ржавый гвоздь, спустит камера, или вдруг потребуется затормозить. Тогда передний, Олежка, прежде всего и пострадает. И, словно предвидя эту неблизкую нынешнюю поездку, Ваня накануне переоборудовал мотоцикл. Снял оба резиновых отдельных седла и вместо них сшил из старого ватника и голенищ изношенных кирзачей и пристроил одно длинное, общее.
– Совсем другое дело. А ну-ка сядем, Олежка, попробуем. Садись-ка и ты. – Когда и Ваня уселся, Люба положила ему руки на плечи, зажала сына между ним и собой. – Ой, как здорово! Раньше сидела словно на каланче. И отдельно. А теперь все вместе. Удобно. Я всегда говорила, что в тебе пропадает талантливый изобретатель и инженер. – И в какой уже раз пожалела: – Лучше, Ваня, пошел бы ты по науке, по технике. Настоящее мужское, полезное дело. И запретов, табу тебе никаких…
На фронте в артиллерийской бригаде всякого транспорта – и своего, и трофейного, и по ленд-лизу, особенно когда перевалили границу, было с лихвой. Там еще научился Ваня и мотоциклы, и трактора, и машины водить. И сейчас с Любой, с Олежкой вел мотоцикл особенно осторожно.
– Что ты задумал? – только теперь, увидев, куда он завез их, забеспокоилась Люба.
Это был новый, только что начатый участок водовода – от основной, законченной трассы в сторону порта. К ней его не присоединили еще, но уже успели сварить более трех десятков – по двадцать метров в длину и три четверти метра в диаметре – труб, и лежал водовод на невысоких бетонных опорах.
– Это тот самый, по которому полз твой прораб? – спросила жена.
– Вон!.. По тому, основному… А этот пока только кладут.
– Неужели полезешь? – сразу обо всем догадалась жена.
– Полезу. Ты же сама… Кто посоветовал мне?
– Да я просто так, – испугалась она. – Я же не думала…
– Правильно посоветовала. Молодец и прораб, – решительно заявил он, словно отрезая себе пути к отступлению. – Пока сам не пролезу по трубе, мне очерка не написать.
– Как, ты полезешь в трубу? – изумился Олег. – Мама, он не врет, это правда?
– Не знаю, – в испуге, с недоумением смотрела на мужа она.
– Правильно, правильно, папа! – вскричал восхищенный Олег. – Не слушай, папа, ее, не слушай! Лезь, лезь!
– Все, сынок, решено. Надо лезть.
– А я бы не стала, – еще пыталась остановить его Люба. – Жутко все-таки. Да и опасно, наверное.
– В один конец проползу, – чувствуя, что жена немного права, пошутил излишне приподнято Ваня, – а назад, пожалуй, не стану.
– Ты что? – окончательно струхнула жена и обратилась за помощью к сыну:– Наш папа сдурел. Еще и назад!
– Ну, посмотрю, – вроде бы не решив еще, согласился отец.
– Я прошу тебя, – схватила его за руку Люба, – не вздумай назад. А лучше и вовсе не надо.
– Вот видишь, – насмешливо напомнил он ей, – то надо, то не надо…
– Ладно, лезь, лезь! – вдруг сообразив, какой она выставляет себя, спохватилась, перебила мужа она. – Только зачем так много? Вон, – показала она на отдельные, валявшиеся неподалеку ржавые металлические трубы-хлысты. – Тебе же только почувствовать, представление получить? По одной трубе туда и сюда – и довольно.
– Это каждый дурак проползет, – неожиданно снова вмешался Олег. Озабоченно молчал, слушал какое-то время с тревогой – а вдруг маме удастся папу уговорить, – а тут не стерпел:– Ты, папа, не слушай ее. Давай я полезу с тобой. Ты же сам меня учишь, чтобы рядом всегда кто-нибудь был – товарищи, люди…
– Еще чего не хватало! – вмиг взвилась, сразу переключилась с мужа на сына Люба. – Хватит нам одного дурака. Только дурак полезет туда. Мало что одна дура посоветовала, так другому сразу и выполнять?
– Ну так что будем делать, сынок? – не без издевки спросил довольный отец.
– Лезем, лезем! – возбужденно закричал, захлопал в ладоши, запрыгал Олег, – Не слушай ее! Зачем ты тогда сюда нас привез?
Люба перепугалась вконец, а Ваня позвал:
– А ну, подойди-ка, сынок. – Заметил, как еще больше сжалась и побледнела жена. Но, не показывая этого ей, вытянувшись на носках, заглянул в водовод. – В любом деле, сынок, всегда надо сперва оглядеться. Как нас Матушкин, взводный, учил… Оглянись вокруг себя, – покосился он озорно на жену, – не…
– Ваня! – ужаснулась, вскричала она, уже прежде слыхав от него эту безобразную солдатскую присказку.
– Что – Ваня? – огрызнулся он добродушно, с усмешкой. – Что – Ваня? Я хочу только сказать… В общем, сынок, – обернулся он снова к нему, – в любом деле, прежде чем к нему приступить, сперва оглядись: вдруг тебя кто-нибудь… Ну, плохое что-нибудь с тобой собирается сделать, – озорно оглянулся опять на жену. – Изучи сперва обстановку.
Жена покачала осуждающе головой, выразительно покрутила пальцем у лба.
– Итак, – вскочив на огромный булыжник, Ваня почти по пояс сунулся во входное очко водовода, – начнем. Вот, пожалуйста, – почти сразу же прогудел его искаженный, с гулом, гундосливый голос. – Во-первых, тесней, чем я думал. Трудновато будет ползти. – Помолчал, видимо, продолжая что-то там изучать. – Во-вторых… Это похуже… Светящейся точки на противоположном конце почему-то не видно. – Высунулся, недоуменно повел туда-сюда головой, губы поджал. – Одно из двух: или завалено там чем-то внутри, или нитка водовода искривлена. – Выпрямился, посмотрел с булыжника вдоль и поверх водовода. – Да вроде бы нет, не видно дуги.
– А земля-то круглая! – сообразив раньше всех, вдруг первым вспомнил Олег.
– Ну и что?
– Он прав, – поддержала сына жена. – Дуга может быть не в горизонтальной, а в вертикальной плоскости.
– А что? – с гордостью посмотрел на сынишку отец, – дельная, в общем-то, мысль. – Потрепал по головке его. Олежка, довольный, гордо зарделся. – Так, так, так… – Посмотрел еще вдоль водовода. – Только полкилометра, пожалуй, для этого мало.
Олежка, всегда, в общем, мамин, больше связанный с ней, а сегодня, сейчас весь уже слившийся с отцом, во власти затеянной им необычной – и серьезной, и любопытной – игры, стал его торопить:
– Ну скорее, скорее, папа!
– Ты что? – всполошилась мама опять. – Да я тебя не пущу!
– Значит, так, – поддержал ее и отец, – пойду я один. Да-да! – оборвал он решительно, увидев, как Олежка сразу сник и раскис. А Люба, напротив, воспряла, как всегда, заулыбалась опять. – А у тебя, сынок, будет другое задание. Очень важное. Подстрахуешь меня. Если буду кричать из трубы или если меня долго не будет, беги скорее к людям. Понял? Зови их сюда.
– А что, на самом деле это опасно? – еще больше встревожилась Люба.
– Всюду каждого подстерегает опасность. И на улице вдруг может обрушиться на твою голову цветочный горшок. Так что, сынок, учись быть осторожным, предусматривать все, – ему прежде всего обратил отец свой ответ. Его самого-то этому научила война, особенно взводный – Матушкин, покоя им не, давал, все учил и учил осторожности. И теперь не только осознанно, но и бессознательно, автоматически Ваню побуждало повсюду все предусматривать. – Значит, понял? – повторил он Олежке. – Если что, сразу к людям.
– Папа, возьми… Я с тобой хочу.
– Нет, все, Олег, не возьму. Будешь меня страховать. Кто же за людьми побежит?
– Папа, а где здесь люди? – ухватившись за это последнее, завертел Олежка светлой вихрастой головкой. – Не видно нигде здесь людей. Может быть, это люди? – показал он на уже полусгнившее с лета огородное чучело – палки крест-накрест, на них шляпа, черный издырявленный плащ, красные женские ботики, уморительно безнадежно пожал своими легонькими, словно крылышки, не начавшими еще развиваться детскими плечиками. И Ваня опять вдруг отчетливо, остро увидел: а ведь Люба и тут совершенно права. Да, надо, надо, пора уже приучать сына к спорту и к делу. Все, откладывать больше нельзя, с завтрашнего дня и начну.
Впрочем, почему с завтрашнего? Будем считать, что уже и начал.
А Олежка все озирался и озирался, по-видимому, продолжая высматривать людей на заброшенных к зиме огородах, на пустыре, превращенном в безобразную свалку, на поросшем пожухлым бурьяном и кустами шиповника холмике. Мамины, мамины глаза у него, невольно сравнивая, метнул Ваня взгляд на жену, – чуть приуженные, удлиненные и с заметной каринкой, даже, пожалуй, и с чернью слегка. А волосики нет. Черта с два, мои у сынишки волосы, мои – русые, шелковистые, мягкие, и сейчас они малость дыбились и выплясывали на поднимавшемся заметно ветру.
– Значит, нет людей, говоришь? – оглянулся вслед за сыном вокруг и отец. – А будку, сторожку вон видишь? – ткнул пальцем за пустырь. – Вон, вон – за колючим забором, в кустах, у подножия холмика, где бульдозер стоит.
– А-а, вижу, вижу! – заметил сын. И удивился: – Там люди? Да у нас во дворе собачья будка такая!
– И в этой… Цербер сидит, – улыбнувшись, подыграл сынишке отец. – Собака такая…
– Знаю, знаю, нечего меня учить, – презрительно фыркнул Олег. – Он учить меня будет. Я у мамы в книге прочел. Правда, мама?
– Правда, правда…
– Ну и прекрасно. Всем все известно… Так вот, зовут этого Цербера, стражника, что в сторожке сидит, – снова ткнул в сторону будки папа рукой, – тетей Дашей. Есть там еще тетя Муся. Мария Петровна. И третья есть, но как ее зовут, я не знаю. Неважно. Так вот, если что, беги, сынок, сразу к ним. У них телефон. Знают, что делать. Понял?
– Да, папа, понял, – подтвердил сын, но тут же вновь заканючил:– Папа, ну возьми меня. А, пап? Я с тобой хочу.
– Олежка, да как же ты говоришь, что понял, – поразился отец, – если собираешься лезть со мной? А кто же к тетям тогда побежит? Я же для того и оставляю тебя, чтобы тетям сказал, если что.
– Мама пусть побежит, – нашелся моментально Олег.
– Ты что, Олежка? Тебе маму не жаль? Да мне, с моим-то сердцем… Да мне и полдороги не пробежать, – запросила пощады она. – Это очень важное поручение. Мне не справиться с ним.
Олежка подумал и глубоко, с сожалением вздохнул:
– Ладно, папа, теперь я все понял. Хорошо, я буду стоять.
– Ты здесь немного постой, а потом вон туда, на другой, противоположный конец, – мотнул головой вдоль водовода отец. – Я буду там выходить. А маму здесь оставим – присмотреть за одеждой, за мотоциклом. – И, развязав притороченный к багажнику узел, начал переодеваться. Сняв шапку и куртку, натянул на себя матросскую парусиновую робу, а на голову замызганный, когда-то, видно, белый чехол морской бескозырки, распатланные во время езды волосы под него затолкал, в карман сунул спички (а вдруг понадобятся там, в темноте). – Значит, так… Мама останется здесь, а ты, значит, туда, – мотнул он опять головой вдоль трубы. – Ну, как говорится, с богом, благословись. – И перекрестился размашисто, широко.