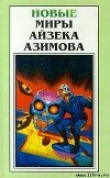Текст книги "Навсегда (СИ)"
Автор книги: Александр Круглов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
– Я дубленку из мутона тогда на себя, с меховой оторочкой, через грудь витые золотые шнурки! Вот бы Любе теперь! – рассказывая, с веселым сожалением вздыхал каждый раз Ваня.
Или как за освобождение Австрии всех наводчиков и командиров орудий представили к медалям и орденам. Тут-то как раз Ваня и удрал из части со своей веночкой Ретзель. Хорошо, гауптвахтой отделался – не отдали под трибунал. А солдаты потом издевались: «Что, товарищ старший сержант, накрылась ваша «Звезда» молоденькой горячей…?»
Жена морщилась от его откровенных солдатских признаний, затыкала ладошками уши, но тут же просила продолжить рассказ и слушала очередную Ванину байку.
Глядя сейчас, как муж свесил с постели голые ноги и, склонив голову, думает, думает, спросила участливо:
– Не спится? Ваня вздохнул.
Села, скинула ноги с тахты и она. Подняла взгляд на часы.
– Ого! – поразилась. Оглянулся и Ваня на ходики. Спать оставалось совсем ничего.
– Может быть, чаю попьем? – предложила Люба.
– Давай, – буркнул он.
2
– …Мать твою…! – сорвалось с языка по приставшей к Ване и уже неистребимой солдатской привычке. Спохватился, да поздно – назад не воротишь. Да и как удержаться? С десяток спичек уже перевел, все пальцы пообжигал, а проклятая керосинка продолжала коптить. Не утерпев, ругнувшись опять, Ваня оставил как есть.
– Фу, гадость какая! – принеся на общую кухню заварку и сахар, поморщилась Люба. – На всю квартиру слыхать.
– Ты о чем? – не понял Ваня.
– Я о прелестях твоего языка. А вонь… Форточку хотя бы открыл.
Пришлось все окно открывать. Ночной воздух осени, пусть и южной, но все же прохладной, промозглой, хлынул на Ваню и Любу (он в полосатой пижаме, в цветастом халате она), погнал с кухни смрад.
– Прикрой, – боясь за себя (не дай бог, еще простудиться, за сердце хвататься, всякую гадость глотать), потребовала жена.
Но муж не спешил выполнять.
– Ты что, нарочно? – тотчас почувствовала это она. – Мне уже холодно.
– А мне воняет, – заупрямился он. – Пусть проветрится еще.
– Но я же прошу! – взмолилась жена. – Тебе же хуже придется, если я слягу. Бегать придется тебе.
И только тогда, уловив в ее голосе мольбу и тревогу, Ваня потянулся к окну. И все же, прежде чем его затворить, помедлил еще, глянул неторопливо в темень, в прохладу, в глухую осеннюю ночь. Звезды увидел – наиболее крупные, горевшие тусклым, почему-то не острым, синеватым, как обычно, в ведро, а сырым и тяжелым красным огнем. Туман, видно, наплыл – с моря ли, с гор, задернул все пеленой. Поглядел, поглядел с минуту еще с внезапно охватившей тоской за окно, ощутил всем нутром вольность и таинственность беспредельного мира, вдохнул жадно в себя. И только тогда с досадой прихлопнул давно немытые оконные створки. Но тут же вскинул рукой, с силой дернул плотно сидевшую форточку. Потише, но снова потянуло свежей струей. Хоть так, а все-таки оставил по-своему.
Чай на уродливой керосинке не спешил поспевать.
– Да отлей ты, не хватит нам, что ли, по кружке? – Ваня мог бы и сам – ближе сидел, так нет, жене повелел.
Слив из чайника половину воды, она вновь поставила его на огонь… Не садясь, стал ждать.
– Гаси, – попросила, когда, всклокотав, кипяток запарил и запел.
Вот затушить чадившую керосинку Ваня взялся охотно. Вдохнув во все легкие смрадного воздуха и с удовольствием ощутив нажитые во всех своих тяготах и испытаниях мощь и объемность груди (даже немец в лагере для военнопленных, брея Ваню, однажды воскликнул: «Зеер гут брюст. Грос, грос! <Очень хорошая грудь. Большая, большая!> Арийский, классический есть грудь и вскинул в льстивом подобострастии палец) Ваня напрягся, направил сведенные трубочкой губы на огонь. «А ну-ка, хватит духа, погашу в один дув, прямо отсюда, из-за стола, или нет?»
Дунул что было сил. Огонь, вспыхнув и будто бы мстя, еще гуще выбросив копоть и вонь, тут же погас. Довольный (словно поставил рекорд), Ваня поднялся, сам подхватил тряпкой чайник и опустил на решетку, на стол.
– Фу-фу, – отфыркиваясь, замахала ладошкой, как веером, Люба. – Правильно нас Шурка ругает. И Лидия Николаевна. Надо, Ваня, что-нибудь другое купить. Так же нельзя.
– Денег нет, – неохотно выдавил он.
– Заработай. Или не купи себе что-нибудь. Крючки, порох, дробь, например. На рыбалку, на охоту раз-другой не сходи. Или на что ты там еще тратишь? На мотоцикл… Они же правы, – осторожно наступая на мужа, поддержала соседей жена. – Хоть примус какой-нибудь, что ли? Есть же дешевые.
– Нету денег. Потом, – отрубил уже резче, напористей он. – Вот получу гонорар – хоть весь забирай. – Сколько там этого гонорара?
– Хватит. Расширенная информация о новой больнице. Строк двести… А то и больше. Хватит с лихвой. Люба поняла: бесполезно убеждать, раз уж он так.
– Смотри, – с шутливой угрозливостью вскинула она свой крашеный ноготок, – запомни, что обещал. А то опять понакупишь ерундистики всякой для мотоцикла, только примус забудешь купить.
– Между прочим, – уставился он на жену, – на мотоцикле я вожу и тебя.
– А как же, Ваня, иначе? Муж ты мне или не муж? Кстати, должна тебя похвалить. Я совершенно спокойна, когда ты везешь. Ничего с тобой не боюсь.
Не возразив ей больше ни словом, Ваня приподнялся и потянулся за чайником.
– Наконец-то, сообразил, – обрадовалась жена. – У тебя руки луженые – разливай.
– А ты тогда тащи сухари, – потребовал он.
Высушенные на батарее парового отопления огрызки ржаного, серого и белого хлеба с началом отопительного сезона появились в доме опять. И зашлепав тапочками из старых поношенных туфель, она принесла из комнаты небольшую коробку. С минуту смотрела, как муж макает корочки в чай и, обжигаясь, хрямкает их (сам же так выражается).
– Вот за что я люблю тебя, так это за то, как ты ешь и пьешь. Некультурно, прямо скажем, – не без издевки подчеркнула она, – но от души. Как малый ребенок. Обо всем забываешь, даже глаза зажмуриваешь. Представляю, как ты… Как все вы там, в окопах, в холодину и слякоть, на горячее набрасывались…
Что-то послышалось чуткому материнскому слуху. Люба вскинула голову, настороженно повернулась к двери. Теперь услышал и Ваня. Олежка бился в кроватке и плакал.
– Ой! – вскинулась Люба и побежала. Вернулась минут через пять. На этот раз двери из кухни и в комнату оставила чуть приоткрытыми.
– У меня к тебе просьба… Совет, – прислушавшись, не проснулся ли Олежка опять, заговорила она. – Завтра выходной. Собственно, сегодня уже. Вот проснется твой любимый сыночек и займись-ка по-серьезному им. Отец называется. Хоть раз ты рассказал ему о себе? А? Все я да я. А сам? Да хотя бы вот о войне. Рассказывал? – с обидой спросила она. – Какие-то посторонние люди рассказывают – в детсадике, теперь в школе… Няни, вожатые, учителя… А родной отец, фронтовик, как воды в рот набрал. Это же сказать кому– не поверят! – всплеснула руками она. – Он же мальчишка! От кого же, как не от отца, научиться ему мужскому всему? Как же ты мужчину думаешь воспитывать из него?
– Рано ему еще… О войне, – отставив кружку, подумав, не сразу буркнул Ваня. – Не поймет.
– А ты ему пока только то, что поймет.
– Это как? Без крови, без смертей?
– Ну-у, – растерялась, запнулась жена. – В общем-то… Да, именно это я, наверное, и имела в виду: без Пашукова, без Сальчука, пока без того, что не дает тебе спать.
– То есть, – вскинулся он, – без того, что и является главной, отвратительной сутью войны – убивать! Без убитых! Это ты хочешь сказать?
– Не надо, Ванечка, – настойчиво, но мягко запротестовала жена. – Ты же понимаешь, что я имею в виду. О том, например, расскажи, как командовал, как стрелял, награды за что получил. Мальчишка же у тебя, мальчишка! Сын! О котором… Сам же рассказывал, как ты еще в детстве о сыне мечтал. Сам ребенок еще, а уже мечтал. Вот и воспитывай теперь. Как только ты можешь? Отец! – все так же просительно, мягко, но с горечью возмутилась она. – Да он еще больше полюбит тебя. Гордиться станет тобой, подражать. Знаешь, как у них? У меня в кармане гвоздь… Моя мама, мой папа… Так что давай, начинай. Еще не совсем опоздал. А то вырастет у тебя не мужчина, а хлюпик. Потом будешь жалеть, да поздно будет. И зарядкой надо с ним уже заниматься. Закалять его, укреплять. Сам-то… О себе не забываешь небось… Каждое утро… А то и в горы с ружьем… А он?
– Коли уж воспитывать… Коли уж начинать рассказывать ему о войне, то тогда уже все. Все! – отрезал решительно Ваня. – Ничто вообще не терпит неправды. И полуправды. Ничто! А уж война… Тут ни в чем от правды нельзя отступать, ни на гран!
– А я что, разве против? Я тоже за! Мы же на уроках рассказываем… И у них, в первом классе, рассказывают…
– Вот так вы и рассказываете… Что, как рассказываете, то и получается. Вернее, детишки ваши получают.
– Ванечка, ну зачем ты? Ты же знаешь, мы и фронтовиков приглашаем…
– Ну, а они-то, бедные, что, как в школе у вас говорят? То, что им снится, что спать не дает, за что грызет совесть?
– А может быть, их не грызет?
– Тогда и вовсе нечего им перед детишками выступать.
– Да просто если им не за что? Не совершили против совести ничего. Не все же, как ты, виноваты? – И запнулась.
И Ваня ее оборвал:
– Не может этого быть! – моментально, уверенно отреагировал он. – Не может! Если действительно воевали, особенно если командирами были, если бездумно, покорно выполняли любые чужие приказы, других посылали на смерть. Такое мимо совести не проходит. Не может пройти. Не должно! – невольно сжал и чуть даже вскинул перед собой кулак. – Потом обязательно мучает. Не может не мучить. Конечно, если она у них есть, совесть-то. Мне Коля Булин рассказывал, как у них на Херсонесе было. А у нас как было? Тоже… Своими глазами, сам повидал… И как свои же стреляли своих… И сами стрелялись. – Замолк на миг, видно, что-то представляя себе. – Вавилкин, начштаба наш… Это же надо… – Ваня губы поджал, покачал головой, вспоминая, видно, что-то. – Во был мужик! Все, все… Что в котелке твоем, что на тебе, в каком окопе лежишь… Командир не проверит, бывало, а он… Не его это дело совсем, не штабного, а проверял. Сам во все дыры нос свой совал. Как постоянно за нас хлопотал, так за нас и погиб. – Снова замялся, вздохнул. – Приказ сверху: снарядов фугасных, осколочных нет, да и болванок – и этих в обрез, так нет – все равно, без снарядов, одними пустыми стволами, колесами станцию отбивать. А он, Вавилкин, начштаба наш, против был. Требовал артподготовки и чтобы пехота была да и танки. А сверху свое: приказ получили? Так и гоните! Чтоб нынче узел был наш! Понял? А не выполните, станции не возьмете, – сам тебя, своею рукой! И чтобы не гнать нас на верную смерть, не брать на себя этот грех, а возможно, и для того, чтобы заставить пересмотреть этот трусливый приказ, прямо в штабе, в землянке, у телефона сам себе пулю в лоб и пустил. – Ваня понуро склонился к столу, помолчал, покачал головой. – Вот так… А добился своего, отменили приказ. Оттого я, может, здесь сейчас живой и сижу. По совести начштаба наш поступил. Бригаду целую спас. А я двоих не смог уберечь. Только двоих. Загубил. – Губы у Вани задергались, склонилась к груди голова, судорожно заходила рука по столу. – Закон такой есть, – выдохнул он. – Не бумажный. Он внутри нас. У всех нормальных людей. Все более или менее можно простить – ошибки, проступки, даже, может быть, и какие-то преступления. Все! Но только если при этом не были загублены жизни безвинных людей. Хотя бы одного человека. А загубил – нет, это уже не прощается. Никогда. Это уже на всю жизнь. Навсегда. – Ваня как-то надрывно сапнул, как будто даже затрясся легонечко.
Люба перепугалась. Да как же это она допустила, разговор этот опять завела? Зачем? Надо бы помолчать… И, насколько возможно непринужденно, спокойно, пытаясь в сторону его увести, вдруг спросила:
– Вот ты артиллеристом был, по танкам из пушки стрелял… Так ведь? А вот сколько ты их подбил, я до сих пор так и не знаю. И Олежка не знает.
Ваня все еще угрюмо сутулился над столом. Не отвечал.
– Интересно ведь все-таки. И мне… А уж Олежке и вовсе.
– Не знаю, – ответил неожиданно он.
– Как так – не знаю, – поразилась жена.
– А вот так. Точно не знаю… И знать не могу.
– Другие же знают…
– Кто, может, и знает. Возможно. Вполне могло быть. А я… Нет, точно не знаю.
– Пожалуйста, объясни, – серьезно попросила она. – Что-то совершенно новое для меня.
– А нечего и объяснять.
– Это для тебя – нечего…
– Я же не снайпер, – начал он раздраженно. – Это снайпер сам, в одиночку, по им же выбранной цели из своей винтовки стрелял. А я из пушки, целым расчетом стрелял. Семь человек… Пока не убило еще никого. А рядом другие пушки стреляли, по тем же танкам, по которым и я. Это в начале войны, – стал уже, кажется, расходиться, рассказывать с увлечением Ваня, – «соро-капятки», «хлопушечки»… Да и тех-то раз-два, и обчелся. Вот тогда… В мои первые военные дни это было… Тут точно знаю… Других орудий не было рядом, только наше стреляло. Вернее, из трофейной мы стреляли тогда, из фрицевской «пятидесятипятимиллиметровки». И подбили тогда две «тэшки» и бронетранспортер. Пусть со страху, а все же подбили, – невзначай, похоже, но все-таки немного гордясь, даже заносчиво выплеснул он. – Меня и инженера Голоколосского… Это до войны он был инженером, а тогда замковым… Нас зацепило. Его в грудь, пулей, насквозь, а меня… Чуть в лоб не попало и в руки, – слегка вскинул он обе руки. – Когда в госпиталь нас отправляли, даже фамилии записали… Вроде бы наградить…
– Наградили?
– До сих пор награждают, – отшутился не без иронии он.
– Но это же нечестно, несправедливо…
– А все могло быть. Мы же из другой части были, чужие. И к пушке из охранения тоже чужой нас привел. А тут как раз немцы снова в атаку пошли. Нас тут же в госпиталь. А бумажку, должно, затеряли.
– Так, возможно, вас ищут? – забеспокоилась Люба. – Надо писать.
– Да писали… И потом, мы со страху их подбили тогда. Один танк пропустил. Тоже со страху. И стал он наших солдат в окопах давить, – смущаясь, Ваня замолк.
– Это тогда? – потянулась Люба через стол к небольшой, бескровно-белой ямочке на Ванином лбу.
– Да, скользнуло по черепку. Из пулемета, наверное, или из автомата. Еще б миллиметр, – тронул он пальцем висок, – и хана.
– Бедненький, – все-таки дотянулась, погладила она шрамик на Ванином лбу.
– Главное, остался живой, – успокоил Ваня жену. – И Голоколосский остался… Поправился усатик наш, инженер. Потом снова встретились, в новой бригаде «эргэка»– резерва главного командования. И Пацан, и Лосев, и Нургалиев… Все там собрались… Матушкин всех собрал… А мне повезло… Вот тогда уж трудно стало подбитые танки считать. Особенно под конец войны – у Будапешта, на Балатоне… Или у Граца, у Вены… Всей бригадой уже палили тогда, около полсотни стволов! И не «сорокапятки», не «хлопушки» уже, а «зисы»– мощные, красивые: пятидесятисеми-семидесятишестимиллиметровочки! А там и «сотки» пошли! И чуть ли не вплотную, одна возле другой… «Фердинанды», «тигры», «пантеры», бывало, и кучей валили на нас. Но и мы уже тоже кучей по ним! Краска камуфляжная, резина, масло, бензин… Если хорошо угодить в этих железных ползучих тварей, они ведь как солома горят. Наши-то на солярке ходили, а у них на бензине. Только в двигатель, в бак угодишь – вспыхивали как спички. – Глаза разгорелись у Вани, расширились, помогая рассказу, размахались и кулаки. – А сами фрицы… Жарятся, трещат за раскаленной броней, как шашлыки. Вонища, смрад. – Ваня поморщился, с отвращением сплюнул на пол. Опомнился – на кухне, не на дворе – затер, затер плевок каблуком. – С неделю потом в носу и в горле свербит. А пушки наши… Думаешь, что, не горели? Еще как горели! Масло веретенное в противооткатниках, на колесах гуссматика… Это мы по танкам болванками, бронебойными, подкалиберными били, а они-то по пушкам, по нам осколочными да фугасными. Угодят – тоже такая копоть стоит! О-го-го! В общем, грохот, дымище, земля в воздухе столбами стоит! – вскинул Ваня руками, закатил под самые веки глаза. – Попробуй, разберись тут, кто чего сколько подбил. Попробуй! Чей снаряд угодил, чей срикошетировал, а чей в молоко?.. Хрен тут что точно, уверенно разберешь!
– И не спорили? – еще пуще подивилась жена.
– Ты это о чем? Кто чего сколько подбил, что ли? – Ну да. Ведь каждый хочет… Каждый думает – он! А награды? Ведь за это же, за них получали? Ваня нахмурился, губы поджал.
– Да нет, вроде бы не было, – только на миг, на секунду-другую замешкался он. – Что-то не помню. – Подумал еще. – Да нет, не помню, – не спорили. Просто не до этого, наверное, было. И о наградах не думали. Вот убей меня, точно, не помню, чтобы мы там о них думали. Одно только в башке: успеть бы хоть на секунду, на миг, а первым, раньше немецкого танка бы выстрелить. Только попасть бы в него. И остаться живым. Пусть даже раненым, искалеченным, пусть, но живым. И кто там попал… Ты или другой кто… Да кому там было до этого? Да никому! Никто и не думал об этом. Лишь бы попасть, остаться живым. – Снова замолк, растерянно почесал кончик своего мясистого, чуть с горбинкой и с веснушками носа. – Вообще-то наводчики… Кто-кто, а наводчик-то чувствовал, он подбил или не он. Да и командиры орудий… Тоже видели. Но этим было сложней. Я вот… До сих пор так и не знаю, правильно ли было на моей пушке девять звездочек или я чужие себе приписал? Точно не знаю.
– Это еще что за звездочки?
– Да на орудийном стволе или на щите белой масляной краской, чтобы всем было видно. Танк подбил – большая звезда, как блюдце. За бронетранспортер – чуть поменьше. Еще поменьше – за орудие, за миномет. А пулемет вражеский уничтожил – еще одну рисуй, самую маленькую. Ну как солонка, скажем, или донышко стопки. Фрицев убитых – этих не отмечали. Да и как нам, артиллеристам, было учесть их? Ну, которые в танках… Три там обычно, четыре… Этих еще можно было… А когда по наступающей пехоте прямой наводкой или с закрытых позиций лупили… Не-е-ет, тут невозможно учесть, – покачал решительно он головой. Что-то прикинул еще. – У Нургалиева, напарника моего… Командир орудия тоже… Почти вдвое больше звездочек было. Да и наград. У нас, у артиллеристов-истребителей, как?.. Один танк подбил – медаль «За отвагу», два – орден Отечественной войны: первой степени за тяжелые – «фердинанды» и «тигры», а за «тэшки», «пантеры», за средние и легкие танки – второй степени. А три, четыре тяжелых танка или самоходок подбил – орден Славы второй, первой степени. Но подбить их надо в одном бою. Тут в чем загвоздка? Один, первый, танк во время боя многим удавалось подбить. Тебя они не видят еще, пушка замаскирована, в землю зарыта. Поймал ползучую тварь в прицел, на крест посадил и ведешь, ведешь его… Выбрал момент, рукой на рычаг… Бац! И загорелся, гад, задымил. Но в тот момент, когда ты стрелял, другие танки тебя засекли, маскировка при выстреле наполовину рассыпалась. И как на ладони ты. Танки и давав по тебе дружно палить. Если «королевский тигр» или «фердинанд», держись… Своим тяжелым снарядом угодят в твою пушку – колеса, станины, щит, а заодно и ноги, и руки, и головы – все в разные стороны! – развел отчаянно Ваня руками. – А уж третий, четвертый танк из одной пушки в одном бою уничтожить и остаться живым – редкое счастье! – Что-то вспомнил, нервно затылок заскреб. – Конечно, счастье счастьем… Было, было на войне и оно. Было! Но почему Нургалиев?.. Не я, не кто другой, а именно он?.. Только ему тогда… И не раз, а дважды такое счастье далось. Почему? Другие на первом, втором танке гибли, а он дважды по три – и живой. – Ваня снова примолк, прижмурил глаза, затылок заскреб. – Все-таки, – выдохнул он, – в схватке, в бою счастье – это какое-то особое, недюжинное мастерство, особенное человеческое состояние, это характер! Вот Нургалиев этот, узбек. Лишнего слова не скажет, все больше молчит, сдержан, собран всегда, все со своей пушечкой возится, чистит, драит, ни на шаг солдат от себя и сам от них никуда. Правда, постарше меня. И в горах рос… Конюх, наездник из Таласского Алатау, – оправдался будто бы Ваня. – Маленький, жилистый, глазки щелками, зубы хищные, как у зверька. Кажется, так и рвался сам в бой, только б стрелять. Ну и шельма же был! Похоже, попадись ему фриц, зубами бы глотку ему перегрыз. Теперь-то я завидую иногда, почему не смог стать таким же, почему и во мне тогда не проснулись такие же ненависть, злость, почему не тогда, а позже пришли? Может, у него что-то личное было? Узнай я тогда об отце, тоже, возможно, стал бы таким. Но я-то услышал об отце от Николая, когда вернулся домой. – Губы у Вани сразу жестко поджались, приузились, блеснули глаза. – Больше, больше надо было их, гадов, уничтожить тогда, больше! А теперь вот жалею. И о наградах порой жалею, – откровенно призвался вдруг он. – Тогда радовался, счастлив был… Да черт с ней, с потерянной «Звездочкой»… Хорошо еще под трибунал не отдали. Пожалели меня, дурака. А ведь могли… Обязаны были! Вполне заслужил! Командир ведь орудия… Старшего сержанта только присвоили, в партию приняли… В Будапеште, когда освободили уже. А я… Война еще не закончилась, фрицы нет-нет да и вылезут вдруг где-нибудь. Сколько еще наших побили. А я, дурак такой, из части к девчонке… Это же надо, на целых три дня! А если бы что?.. Да и тоже могли бы прирезать, прибить… А Пашуков и Сальчук?.. Этот проклятый бугор?.. Ох и дурак же, дурак! – простонал, исказился невольно Ваня в лице, уткнулся в кулаки, закачал, закачал головой.
– Не надо, Ваня, – испуганно и сочувственно потянулась снова Люба к нему через стол. – Что поделаешь теперь? Извлекай хотя бы необходимые выводы. Ты же и сегодня нередко такой.
Слышал ли Ваня? А если и слышал, то прислушался ли, намотал ли на ус, что верно, умно говорила жена? Как и большая часть человечества, учась лишь на собственном опыте, не внимая чужим, самым мудрым словам, он продолжал поступать, как велели ему его собственные плоть и душа. А они у него в эту ночь обращены были, в прошлое.
– Не забыла, как ты в Мариинку, в Александринку просилась, на Райкина? – вспомнил вдруг он. – А я не мог тебя пригласить. Приглашал, когда получал за награды…
– Какие награды?
– Ну, за награды… До сорок восьмого за каждую медаль, за орден платили.
– Впервые слышу, – поразилась она.
– Забыла.
– Как трофейные серебряные часы в ломбард заложил… Лонжинес. Да там и оставил… Это помню. Потом мне признался: подарок вздумал купить, когда я наконец решилась на загс. Тоже дура была, – расхохоталась она, – не меньше тебя. Из детства, из девочек в женщину, в бабу, в жену боялась переходить. Все оттягивала да оттягивала. Если бы не Олежка вот тут, – похлопала она себя ладошкой по животу, – так бы, наверное, и не пошла. – Посмеялась, поиздевалась еще, свою глупость кляня, и сказала: – Это вот помню. Про часы, про ломбард. А что за награды получал…
– Не верится, да? За долг, за совесть, за кровь рублями платить? – затер нервно лоб Ваня. – Как я этого прежде не понимал? Господи, как? Другие погибли, а я за них получал. За их кровь получал. – Заскреб снова лоб. Задумался. Теперь, казалось, надолго: одна рука на столе – голова о нее уперлась, другая легла на колено, глаза под ноги, в пол уставились.
Как, почему, несмотря ни на что, он не смог стать таким, о каких, пока валялся по госпиталям, по формировкам таскался, слышал по радио, в газетах читал, а то смотрел и в кино. В общем, таким, каким и должен быть настоящий советский боец. Ну разве может сейчас он признать, что в те, особенно в первые, самые горькие дни, в совершенстве пушкой, всей вверенной ему боевой техникой овладел, что старательно, точно выполнял все приказы, что был всегда со своими солдатами справедлив, не взваливал на них без нужды глупого, лишнего? Увы, этого он не может признать. То ли молод слишком был тогда, не дорос (у каждого ведь свои всему сроки), а может, и оттого еще, что тайно, подспудно, где-то глубоко-глубоко в нем постоянно жило отвращение к тому, что он солдатом вынужден был делать и переносить на передовой, – все эти невзгоды окопные, пугающий лязг и скрежет вражьих машин, бесконечные разрывы бомб, снарядов и мин, клохтанье пуль над головой, безжалостные расстрелы своих же солдат, увечья, кровавые лужы и смерть. И чуть только затихнет между боями, минует очередная опасность, как снова охватывала Ваню никогда не угасавшая, постоянно жившая в нем мечта о том прекрасном сказочном миге, когда закончится наконец проклятущая эта война и ты (неужто повезет – останешься жить?) снова маму, отца, брата, сестренку увидишь, город родной увидишь опять, родное искристое бескрайнее море, снова книги в руки возьмешь… И воевал поначалу Ваня (а может, и не он один так), как бы пережидая, сжавшись весь, весь погружаясь между боями в свои глубинные тоску и мечту. И лишь по приказу, по жестокой необходимости бросался, как умел, из пушки стрелять, землю копать, топать и топать по пыли, по грязи, по снегу, ночью и днем, пока не услышит: «Отбой!» или: «Привал!» Воевал в основном не столько умением, сознанием долга, ненавистью лютой к врагу, сколько тем, что по-мальчишечьи легко, мимоходом схватывал из военных наук на лету, чему учился случайно, урывками, что не воспринимал для себя как призвание, как дело, обретенное им навсегда, до конца своих дней. Потерянно, с отчаянием сперва воевал. Уверенность обретал постепенно. Пока не смог наконец порой даже лихо, с азартом бой принимать – как играя в какую-то рискованную роковую игру. Но так и не стал настоящим бойцом – умелым, расчетливым, сдержанным. А как был, так и остался просто везучим живучим щенком. Пьяным, дуракам и влюбленным везет, говорят. И когда после очередного ранения из госпиталя угодил сперва на турецкую границу, а оттуда в Баку, в эвакуированное из Ленинграда военно-морское училище (должно быть, как уроженец и житель приморского города, да еще со средним образованием), очень скоро так возненавидел его – дисциплину, порядок, режим (даже в столовую, жрать строем, под оркестр, под медные трубы шагали), что не успевал отбывать внеочередные наряды. Только закончит перебирать гнилую картошку на камбузе, как уже посылают чистить гальюны, оттуда – драить стекла в окнах, там же впервые понюхал и гауптвахты: не выдержал, в город удрал. И проклятый фронт со всеми его муками, диким разгулом случайностей и смерти, правом, даже долгом то и дело самому выбирать, решения принимать, стал представляться Ване как избавление. Два рапорта подал, чтобы его вернули туда. А его (не иначе как по принципу: нет, не выйдет по-твоему – сделаем наоборот), списав из училища, направили не на фронт, а в самую что ни на есть тыловую глубинку – обратно на турецкую границу.
«Дальше фронта не пошлют, больше раза не убьют!»– отчаянно вертелось у него тогда в голове. И, придя на вокзал, Ваня протиснулся в поезд, уходящий в противоположную сторону. Будто чувствовал, будто кто-то его направлял…
На полустанке под Харьковом увидел с задранными кверху стволами «зисы», могучие трехосные «студебеккеры» (которых прежде никогда не встречал), платформы порожние…
– Куда? – крикнул он в волнении из тамбура.
– Куда же еще? – весело гоготнули солдаты в ответ. – Туда! – и замахали руками на запад…
Ваня вещмешок на плечо и со ступенек на землю.
Бывает же так: бригада оказалась его! Пока был в госпитале, на границе да в училище, отдыхала, переформировывалась… А теперь снова на фронт.
Что значит мальчишкой еще оставаться – легкомысленным, безответственным, не загадывающим далеко наперед, да и вообще, наверное, русским родиться, уходящим корнями в века, и с молоком матери, с пеленок впитать в себя и бесшабашность, и раздельность, и могучесть родимой своей стороны, наслушаться, начитаться и насмотреться с детства созданных народом за тысячелетие былин и сказок, книг и картин, а перед самой войной и с десяток победных, поразивших воображение фильмов, – «Александр Невский» и «Петр Первый», «Броненосец «Потемкин» и «Чапаев», «Истребители» и «Если завтра война»… И так это все запало в Ванину впечатлительную душу, так заворожило (с перебором, видать, вперехлест), что он и в самые черные дни ни на миг, ни разу не усомнился в конечной победе, в несокрушимости родимого народа, государства, страны, в том, что сгниет в конце концов супостат. И подспудно, наивно уверенный в этом (не зная еще о фашистах всего, что мир о них позже узнал), так и не смог до конца войны избавиться от беспечности, от легкомыслия, не проникся жгучей потребностью научиться так воевать, как рядом с ним сражались уже зрелые, давно возмужавшие Нургалиев и Матушкин и немало других, настоящих героев.
«И неужто, – терзаясь всем этим на кухне, сейчас, подумал вдруг Ваня, – неужто все повторяется? Неужто Люба права? Правильно, правильно упрекает меня. И теперь я такой… Олежка, сын, например… Ведь единственный он у меня. Единственный! Дороже ведь нет ничего. Жизнь, не задумываясь, отдам за него. Жизнь! А один-единственный день да хотя бы часик-другой не могу выделить для него. Я, значит, только любить, жизнью жертвовать, если потребуется, а растить, ухаживать, отдавать ему свое время – это пусть кто-то другой, жена пусть. А у меня, видишь ли, есть другие, поинтересней, понеотложней дела. Ну а Люба, жена?.. Ей самой-то много ли я уделяю внимания? Достаточно ли? Порой ведь совсем забываю о ней. Ну не эгоизм ли это? Справедливо ли это, нормально?..»
И то удивительно, что, не зная всех подробностей, всего его прошлого, всего, что он вспомнил и передумал сейчас, лишь по его отдельным вздохам, признаниям Люба и тут сумела в минуту все тонко и точно почувствовать и угадать.
– И когда ты, Ваня, станешь настоящим отцом, настоящим мужчиной? – без упрека, скорее с каким-то недоумением, даже с тревогой спросила она. – Такое впечатление… У большинства, у всех как? Прошли один этап повзросления, оставили его позади – вступили в следующий, более зрелый. И так все дальше, до старости лет. А ты? – всплеснула руками она. – Ты же совершенно не желаешь ничего уступать. Ни на йоту! В тебе все разом сидит: и детство, и юность, и твое настоящее. И как только это удается тебе? И потом, зачем тебе? Это же трудно! Трудно и мне!
Неожиданное это признание озадачило Ваню. Он упорно уставился на жену. И как бы в ответ она с грустью посетовала:
– Лучше был бы ты у меня, Ваня, обыкновенным, нормальным мужем, мужчиной. Уравновешенным, спокойным, солидным…
«Как этот твой Бегемот?» – уже было сорвалось с Ваниного языка. Но успел удержаться.
– А я не такой, значит? – переспросил подозрительно он.
– Не надо, не надо… Нашел за что уцепиться. Я совсем о другом. Когда ты наконец станешь настоящей опорой семьи, станешь как все?