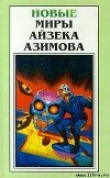Текст книги "Навсегда (СИ)"
Автор книги: Александр Круглов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 6 страниц)
Александр Круглов
Навсегда
1
– Какое, а?.. Наш взвод… Твой расчет… Какое мы получили задание? – сверкнул раскосыми, прищуренными злобно глазами Евтихий Маркович Матушкин. – Не обнаруживать себя! Танки ждать! Танки! А ты?..
Ваня совсем вобрал голову в плечи, ссутулился, сжался. Уставился себе под ноги ошеломленным невидящим взглядом. А взводный – приморец, таежник, охотник-промысловик до войны, не привыкший сдерживать чувств, совсем озверел:
– На самый пуп, значит, мать твою!.. Пушку, всех на голый бугор! Напоказ! По фрицам бегущим захотелось, гад, пострелять! Повеселиться, гад, душу потешить! – Взмахнул кулаком. Едва сдержал себя – за спину руку отвел. Челюсть поджата, с боков сплюснутый лоб, чуб из-под шапки черный и жесткий. – Это же надо! Подставить фрицу, снайперу весь свой расчет. А он что, дурак, снайпер-то? Разрывными, «дум-дума-ми» двоих вас и снял! – Метнул взгляд на лежавшие рядом в сугробах тела двух молоденьких, таких же, как и Ваня, солдат, ребятишек совсем – в кровавую рваную дыру на спине заряжающего Пашукова, в страшную, в осколках черепа, в ошмотьях кожи и склизкого мозга волосатую чашу вместо головы наводчика Сальчука. – Что вот теперь матерям, отцам их писать? Ну что, что? Каково им будет теперь, как похоронки получат, а, каково? – казалось взмолился в отчаянии он, вскинул руки к груди. – А если бы всех, а? Всех бы вас поснимал? С кем тогда танки встречать? Ну с кем, с кем? Мне самому? Одному? А мог бы, гад, и тебя пристрелить! Уж лучше б тебя! Хоть справедливо бы было – сам виноват! Все, баста! Нарушил приказ – получай! Трибунал! – И, не зная, как еще излить свои ярость и гнев, схватился за кобуру. Сапнул, мотнул головой. И стал расстегивать кобуру, доставать пистолет. Трофейный новенький «вальтер» с блестящей стальной накладкой на рукоятке вылез наружу, стал подыматься, зацепился стволом за Ванину грудь.
«Да это же было… Было! Я хорошо это помню! – так и пронзило удивлением, ужасом Ваню. – Вот так же он уже вскидывал на меня пистолет. Вот так же. Господи, да когда же это было уже? Когда? – Еще пуще сжался, заледенел. – Сейчас, сейчас… Выстрелит. Не пощадит. Убьет он меня».
На миг замер и Матушкин. Шрам от осколка повыше скулы, под виском лилово набряк, кровью налились углистые, с жаром глаза, весь даже легонько затрясся. Ненависть захлестнула всего.
– Ну, запомнишь, гад, у меня! На всю жизнь, гад, запомнишь! – выцедил яростно он и, не владея больше собой, то ли, чтобы нерадивого проучить (а заодно наперед и всех остальных, кто уцелел), то ли, скорее всего, чтобы дать вылиться бешенству, гневу, качнул «вальтером» в сторону, тронул предохранительную чеку, нажал на спусковой крючок.
Неожиданный выстрел в стылом воздухе раннего февральского утра грохнул будто из пушки. Брызнул снег из-под Ваниных подкосившихся ног. Номерные все вздрогнули, застыли испуганно.
И подумать Ваня ничего не успел… Охваченный ужасом, повалился в сугроб на спину. Хлынула темень в глаза. Закричал. Защищаясь, размахнулся, кинул вовсю перед собой кулаком.
Но будто что-то плотное, вязкое накинули ему на кулак. Так с этим – ватно, несильно – и двинул в живое, теплое нечто, словно сквозь одеяло, сквозь сон. Оно – это живое – глухо шмякнулось, сверху откуда-то, вниз, как тугой, набитый чем-то мягким мешок. Обидно протестующе вскрикнуло.
– Ваня, Ваня! Ты что? Боже, опять! – донеслось до него. – Да когда же это кончится?
Ваня, в холодном поту, весь дрожа, сверлил навалившуюся вдруг на него темноту незрячим, обезумевшим взглядом, не понимая пока ничего, словно в могиле очнулся. Привскочил. Вскинул защитно рукой.
– Ты же убьешь меня, Ваня! – Стон где-то рядом, снизу услышал, короткий прерывистый всхлип, дыхание тяжкое, горькое. – Когда же это кончится, боже? – Задвигалось снова там – слева, пониже него, жалко стеная и всхлипывая. Коснулось, похоже, влажной ладошкой Ваниной занемевшей щеки.
И только почувствовал Ваня, как это что-то, вернее, кто-то стал расти, возвышаться над ним, зашарил в его изголовье рукой, как тут же грохот услышал, треск, звонкую россыпь осколков…
– Боже! – простонал этот кто-то опять. – За что? – Всхлипнул еще обиднее, горше. – И вазу… Мамина ваза… Как жаль… – Голос, очень знакомый, какой-то даже близкий, щемяще родной, еще выше стал подниматься над Ваней. Раздался короткий, тоже знакомый, очень знакомый щелчок. И прямо Ване в глаза – навыкате, застекленевшие – резко, больно, как внезапный, среди ночи, в тиши снарядный или минный разрыв, вонзился ослепительным всплеском свет электричества.
Ваня зажмурился, инстинктивно рванулся вперед, как учил их, как всегда от них требовал Матушкин: стремглав, не раздумывая, головой в сторону воющей мины или лучше задницей к ней. И наземь, наземь – в снег, в воду, в болотную жижу без разбору, всей плотью, клеточкой каждой, всем своим существом, тогда, в те фронтовые смертельно опасные дни особенно чутким и трепетным, особенно переполненным хмельными, жгучими соками жизни, необоримой жаждой дышать, ощущать себя – жить. Так учил падать их взводный, так сливаться с землей, чтобы над тобой вся взрывная волна, а осколки чтоб мимо, вдоль тела. Вот так и сейчас: только свет по глазам, только грохнуло что-то со звоном, только взметнулся в неосознаваемой памяти, в животной клеточной памяти весь ужас давно минувшей войны, а Ваня уже по-зверушьи – инстинктивно, бездумно, стремительно – рванулся вперед, ноги вытянулись под одеялом, в шкап уперлись, а тело – голова, плечи, грудь – сломилось у поясницы, плотно прижалось к прикрытым одеялом ногам, ладони, защищая глаза, охватили лицо. Застонала тахта под Ваней – продавленная и скрипучая. Тут же опомнился, сел. Скинул ладони с лица. Начиная уже понимать… Кое-что уже понимая. Не веря еще, не смея покуда надеяться, верить, что все это опять только сон, а не явь – давняя, страшная. Тут же невольно обернулся с тревогой к противоположному углу небольшой, заставленной рухлядью комнатки. И, как и всегда, где бы он ни был, что бы с ним ни случилось, первым делом подумал о сыне – самом в их доме беззащитном и слабеньком. Напряженно прислушался. Олежка, видно, проснулся от этих криков и грохота, раз-другой растревоженно вякнул, захныкал за ширмой.
Поднявшись со стоном с пола, обернулась туда же, к углу, и жена.
– Тише, – одолевая обиду и боль, приложила она палец к губам. Тоже прислушалась. – Пойду посмотрю. – И, ощупывая чуть повыше ночной короткой рубашки, повыше груди остро нывший ушиб, зашлепала босыми ногами по облупленным, давно не крашенным доскам. Заглянула за ширму. – Засыпает, – шепнула, хотя и морщась от боли, но все, как и всегда при виде сына, в восхищении, с нежностью. На цыпочках, бесшумно зашагала обратно к тахте. Присела на краешек. Снова насторожилась. – Заснул. – Подбила подушку, легла рядом с мужем и еще с невольными обидой и слезами в голосе скорбно сказала:– Ваня, ты убьешь меня когда-нибудь так. Кулачищи вон какие у тебя, – кивнула она с опаской на них. – А не убьешь, так изуродуешь. Разве так можно? И ваза… Мамин подарок, – с грустью покосилась на осколки у тумбочки. – Неужели все, кто был на войне, вот так? Ужасно! – И опять принялась потирать ладошкой ушиб повыше груди.
Еще на первом курсе нагляделась она на этих бывших фронтовиков. Было, было в них – вроде бы сдвиг какой-то, какие-то воспаленные непоседливость, беспокойство. Порой и пугавшие, и смешившие, но и восхищавшие тех, кто, как и она, заполняли университетские аудитории, не успев нахлебаться фронтового кровавого лиха, прямо из-под родительских крылышек, со школьной скамьи. А на Ванином журналистском отделении, в его общежитии этих, прошедших через фронтовой передок, было особенно много. И казались они ей такими взрослыми, такими испытавшими все, искушенными, сильными, что, познакомившись с Ваней, сразу же откровенно, доверчиво потянулась к нему. Вскоре пригласила к себе.
Впервые явившись к Любе домой, Ваня услышал, как ее старшая сестра, конечно, все о нем уже знавшая от младшей, не без ехидства возвестила за дверью: «Встречай свое ясное солнышко в белых штанах».
В летней матросской форме, вымененной дома, в порту на трофейный фрицевский плащ, Ваня, весь еще просоленный и прожаренный южным морем и солнцем, в сумрачной старинной квартирке на Невском, должно быть, действительно выглядел слишком уж не по-питерски. И поначалу стесняясь, даже пугаясь всего этого в нем, особенно, как позже призналась, огромных грубых и бронзовых рук, Люба поскорее провела его в свой уголок. Ваня засиделся. И как же было не засидеться, если в первый же вечер она сама попросила, чтобы он поцеловал ее и потом доверчиво перед ним вся раскрылась.
Отец ее, потомок ссыльных поляков и более поздних – тех, кто вместе с русскими мужиками бунтовали на Демидовских фабриках и в рудниках, а затем в пух и прах расчихвостили Колчака, Ефим Стефанович Бесеневский перед самой Великой Отечественной, совсем еще молодым, был избран депутатом, а позже назначен завотделом одного из ленинградских партийных райкомов. В блокаду Кронштадт защищал. Демобилизовавшись, вернувшись в свой родной аппарат, вскоре включился в иную войну, теперь уже против собственных, внутренних врагов – космополитов. А когда дело дошло до врачей-отравителей, демонстративно оставил уже стареющую немилую жену – внучку тогда еще не забытого на Старо-Невском раввина – и ушел к своей молоденькой и смазливенькой секретарше. И Ревекка Соломоновна (это по паспорту, а в быту и на службе Раиса Самойловна), нежданно-негаданно потерявшая своего «ясновельможного пана» (как иногда со смешком величала мужа она), прямо на глазах стала полнеть и седеть, замкнулась, радушие и доброту сменила на скептицизм и сарказм. И чтобы в тяжелые послевоенные годы поднять как-нибудь двух дочерей – накормить, одеть и дать им дипломы, отдалась вся работе, только что не ночевала в машиностроительном главке своем, где инженером-экономистом тянула целый отдел.
Софья, старшая, такая же импульсивная и решительная, трезвая и практичная, как и отец, сразу возненавидела и вычеркнула его из сердца, очень быстро повзрослела, весь дом взяла на себя. Поступая в университет, из всех факультетов выбрала физико-математический. Студенткой на дом работу брала: что-то чертила, переписывала, подсчитывала. А Люба, младшая, баловень и любимица отца-беглеца, так была его изменой и предательством потрясена, что поначалу лила по нему горькие слезы, тайком от сестры бегала на свидания к нему. Переживала за мать. В противоположность сестре факультет выбрала самый причудливый – китайской истории, литературы и языка. (Не по своим ли по-восточному чуть раскосым и вытянутым словно сливы углистым глазам и косам – жгуче-черным, свисавшим до бедер, да литой и собранной миниатюрной фигурке; только что кожа, особенно на лице, на полненьких округленьких щечках не лимоном желтела, а скорее розовела как персик, но это с мороза, зимой, а летом, под солнцем, смуглела, как шоколад.) По привычке горюя по отцу, ощущая в осиротевшем девичьем сердце провал, еще нетерпеливее стала друга, спутника ждать, тосковать по нему – по мужской опоре, заботе и ласке. И тут как раз Ваня… И, изучая Китай, стала в свободные часы посещать и кафедру журналистики. И в общежитие иногда приезжала к нему. Тут-то и нагляделась на недавних фронтовиков. Кроме возраста, военной поношенной формы, медалей и орденов, увечий и шрамов на лицах и душах, отличали их еще от массы желторотых юнцов и особый строй мыслей и чувств, стиль всей замешенной на крови, долге и риске чудом сохранившейся жизни. Ночами, так же как Ваня, метались, кричали, вдруг срывались с кроватей и исступленно бились с кем-то во сне. А по утрам, чуть забрезжит рассвет, ошпаренно вскакивали со студенческих жестких постелей и одержимо бегали по коридорам, дворам и скверам кто в чем – в сапогах, в английских армейских ботинках на кожаной толстой подошве, в галифе, в гимнастерках, а кто и в трофейном белье. Как и в армии, в казармах когда-то, так и теперь, не умея уже без въевшейся в кровь и плоть физзарядки.
Так и учились: упрямо, напористо, почти фанатично. А если и срывались, то во все тяжкие уж, надолго и дико ударялись в разгул, как бы наверстывая когда-то упущенное. Так же, случалось, любили – порой до беспамятства, до беспутства, до драки. Но и тогда в глубине их, казалось, свихнувшихся душ сохранялось одно – то, что после всего пережитого и привело их сюда, в храм науки: неутоленная, жгучая жажда знаний, упорная и искушающая тоска по нему, которые надежней всяких собраний, проработок, выговоров возвращали бывших бойцов из внезапных провалов и срывов в аудитории, к книгам, к труду. А то и просто к зубрежке. Да, да, к примитивной школярской зубрежке, потому как иначе – без этого попугайского навыка, без тупых слепых повторений, без усидчивой задницы – такие предметы, как, скажем, старославянский, латынь, современные иностранные языки или, к примеру, цитаты, названия, термины, даты им, успевшим все позабыть, не прочитавшим за годы войны в окопах и книжки, было бы просто не одолеть. Только этим – настойчивостью, хваткой и брали. И то еще надо признать, что без этого не видать бы им повышенных стипендий – на пару сотенных, а после реформы на пару червонцев получали бы меньше. Из-за денег этих, недостающих всегда, а не только из долга, из армейской потребности, как и прежде, плечом к плечу быть со всеми, в едином строю, все они, вместо того чтобы летом, на каникулах, ехать домой отдыхать, дружно отправлялись на первые тогда студенческие стройки, куда-нибудь в глухомань – заготавливать лес, торф добывать, строить колхозные электростанции. Во время учебных семестров раз в неделю, а то и почаще собирались, как когда-то в армии, отделениями и взводами и, чуть стемнеет, на всю ночь, до утра так гуртом и топали в порт на Гаванскую или на ближайшие Московский, Финляндский, Балтийский вокзалы – баржи, вагоны и склады разгружать-загружать. Кроме денег перепадало порой и натурой. Картошку и свеклу, огурцы и капусту, морковку и яблоки заталкивали прямо в карманы, за пазуху. Позже, на старших курсах, когда началась журналистская практика, удавалось подработать на радио и в газетах кое-что и пером. И тогда гулял в общежитии пир.
Что касается Вани, то он без приработанных таким образом денег не смог бы диплом получить, да и просто прожить. Ведь Олежка у Вани и Любы самым первым на всем факультете, сразу после первого курса родился и на одни стипендии, даже повышенные, им бы ни за что не прокормить, не одеть, не согреть бы семьи. Хотя, как могли, от случая к случаю, помогали им и Ванины мать, брат и сестра, и Любина мать, особенно когда из общежития Ваня переехал к ним на квартиру.
И нет, не забыть, до сих пор помнит Люба: как ни счастлив появлением сына и как ни простодушен и даже растерян был Ваня в ту пору (из окопов, из провинции – и сразу в огромный исторический город, в старейший университет), но именно эти его солдатские непритязательность, выносливость и упорство и помогли ему тогда все одолеть.
И еще одно в нем вдруг тогда поднялось… Проснулся однажды: глубокая ночь, Люба, Олежка – и года еще не исполнилось – спят. Свет только с улицы – мрак. Смотрел, смотрел, едва различая, на них – и гордясь, и умиляясь, почему-то потом и с тревогой. И ни с того ни с сего, поклялся сам себе вдруг: самому никогда не обижать и никому другому в обиду их не давать, а главное, не предавать, как под шумок организованного кем-то идейно-патриотического угара предал своих дочерей и жену их бессовестный и трусливый отец. Вот так неожиданно поклявшись в ту ночь, Ваня еще долго смотрел в полумраке, как спят, прижавшись друг к другу, сын и жена. Смотрел и смотрел… И, словно ощутив его взгляд, Люба заворочалась беспокойно, сбила ногами с себя одеяло, опрокинулась на спину, разметалась… И Ваня еще упорней, теперь по-другому стал смотреть на нее. Эх, черт бы эту тещу побрал! Спит она там или нет? Покосился с досадой на дверь, поерзал у края тахты… И, была не была… Пусть уши заткнет… Подкатился осторожно к жене.
– А?.. Что?.. – подхватилась спросонья она. А разобравшись, что к чему, сама с пренебрежением махнула ладошкой на дверь, придвинула сынишку плотнее к стене и потянулась вся к Ване.
А потом, разомлевший, почти засыпая уже, он ненароком ей и признался, в чем поклялся минут десять назад.
Вспомнив все это сейчас, все еще поглаживая ушиб на груди, Люба заботливо поправила на муже и на себе одеяло и прямо в ухо ему зашептала:
– Ваня, почти десять лет войны уже нет. Десять лет! И восемь из них мы вместе. А ты?.. Не спишь по ночам, кулаками размахиваешь. Разве так можно? Пора уже про войну забывать. – Подождала, мостясь поудобнее у мужа под боком. Но Ваня молчал. Не трогал ее, не замечал. И Люба забеспокоилась. – Очнись, слышишь. – Схватила его за плечо, стала легонько трясти. Но он, как бы досадуя и отстраняясь, резко отдернул плечо. – Все, – обиженно и решительно заявила она, – больше я с краю не сплю. Чтобы ты снова сбил меня на пол! – И, как бы подчеркивая свое право на это – спать у стены и решимость впредь поступать именно так, приподнялась, навалилась на мужа и неловко перекатилась через него. Он слегка посунулся к краю. А она снова принялась, демонстративно уже, чтобы он видел, поглаживать ладошкой свой ушиб повыше груди. – Хорошо, что еще не в лицо. Разве поверил бы кто? Сказали б – нарочно. – И, так как муж и на это ничего не ответил, подосадовала: – Нас… Олежку, меня не жалеешь – себя пожалей. Вон, седой уже весь, а тридцати еще нет.
В двадцать два года, еще когда в университете с ним познакомилась, была уже на висках его седина. А теперь…
«И это, – подумала, – на русых, чуть рыжеватых его волосах. А будь потемнее… Будь он брюнетом… Да совсем бы уже белым ходил. – Вспомнила, в чем он сам ей однажды признался: вместе с другими одноклассниками приписав себе недостающие годы, вступил в проходивший мимо на фронт маршевый полк. Уже на пятую ночь вышли к переднему краю. Насколько захватывал глаз, фронт весь пылал, грохотал совсем рядом (немцы штурмовали Моздок), выли в предгорьях Кавказа шакалы (то ли сам так решил, что это шакалы, то ли ему кто сказал). Ваня стоял на часах, охраняя сон батареи, пушку единственную, единственный ящик снарядов (больше, видать, для отправляемого на фронт спешно сколоченного полка, не нашлось). Сестру, братика младшего, мать с отцом – всех вдруг вспомнил. Еще домом, супом горячим домашним, теплой постелью весь пах. Ему бы и дальше под отчей кровлей зреть и расти. А он боец уже, на часах. Прижал с непривычки, с испугу к груди карабин, в луну, в звездное небо уставился, в пылавшую вспышками тола, грохотавшую совсем рядом передовую… И заплакал вдруг, завыл, как затравленный одинокий волчонок. Стоит у орудия, за щитом и ревет, размазывая по растерянной детской мордашке горячие безутешные слезы. – Боже, – представив сейчас это себе, сразу об ушибе, о боли, об обидах своих позабыв, Люба еще плотнее прижалась к мужу. И вдруг улыбнулась: солдат, защитник Отечества и – в слезах, ревет как мальчишка. – Да он и был мальчишкой, – подумала. – Он и теперь-то… Еще столько ребячьего в нем, простодушного, чистого… И как ему удалось выйти таким из войны? И теперь еще может слезы пролить…» Когда смотрели недавно «Без вины виноватые» и Незнамов, подняв бокал, произносил свой изобличительный тост-монолог, Ваня с ней рядом на стуле подозрительно носом зашмыгал, заблестели у него в свете экрана глаза. Она, было, сразу к нему. Но он застеснялся, замер, затих. Так до конца сеанса и сидел. А когда щенок у них внезапно подох, что лесник подарил, как же по нему, бедный, он плакал. И уже хотела потянуться рукой к его ранним, правда, не очень приметным сединам, как Ваня сам неожиданно ее пожалел.
– Очень я сильно? – спросил он глухо. – Болит? – И сам потянулся к ней своей тяжелой, казалось, спокойной, безразличной рукой.
– А ты как думал? Тебя бы кто-нибудь так… Среди ночи, кулачищем таким, – покосилась она взглядом туда, где болело еще. – А ну посмотри. Очень заметно? Мне не видно.
Опершись локтем о подушку, Ваня неохотно привстал.
– Вот тут, – ткнула она пальцем.
На еще золотившейся с лета загаром нечистой, в родинках коже, там, куда тыкался ее крашеный розовый ноготок, он увидел большое, растекавшееся ядовитой синью пятно.
– Ну? – теперь уже требовательно, нетерпеливо спросила она.
– М-м-да, – буркнул он виновато, растерянно.
– Что?
– Синяк.
– Пожалей, – попросила она. – Поцелуй.
Ваня застыл на миг. Целовать он не стал. Но потянулся все же ладонью и лениво, нехотя поводил ею там, куда указывал пальчик. На миг ладонь замерла. Чуть ниже сползла, к Любиной, обычно крутой и упругой, а сейчас, в лежачем ее положении и без лифчика, казалось, немного опавшей груди. Задержал ее там – равнодушно, нетребовательно. Но ей сейчас, после очередных его сражений во сне, удара кулаком и такое его небрежное, умиротворенное прикосновение было приятно и дорого, может быть, даже дороже, чем обычное – в нетерпении, с жаром и страстью.
Немало и она натерпелась в войну. Недалеко от их дома, у Московского вокзала, нередко падали снаряды и бомбы. Несколько разорвалось во дворе. Блокадные холод, голод, потери родных… Только к концу зимы, по уже подтаявшему озерному льду, в глубокую пуржистую ночь, наконец и Любин третий класс, а с ним и мать, и бабушку, и сестру переправили на Большую землю, а потом на Урал. Но Люба тогда воспринимала все это как некую пусть и необычную, суровую, но все же игру. И только позже, вспоминая те дни, слушая рассказы старших, все больше узнавая о войне из книг, из кино, начала понимать, что довелось ей, всей их семье тогда пережить. А тут открылось еще, что проклятая эта война – постоянные лишения, простуды, плохое лечение беспощадно ужалила и ее: сердце, один из его клапанов поразил ревматизм.
«И все же, – подумала Люба, ощущая на себе тяжесть Ваниной замершей руки, – им там, на фронте было трудней. Почему-то я вот не вскакиваю по ночам, не мечусь, как безумная, не кричу… А он… До сих пор…» И с женскими самоотверженностью, великодушием, тактом, забывая сейчас о бедах своих, о себе, осторожно спросила:
– Что сегодня приснилось тебе? – Тронула легонечко его за плечо. – Бомбежка? Танки? Или, как вчера, снова на передовую тебя?
Но Ване, как и всегда, когда жена пыталась расспрашивать его о войне, не хотелось отвечать. Поначалу, вернувшись из армии домой, а потом, поехав учиться, он и слушать о ней ничего не хотел. Пытался уверить себя, мол, миновала – и ладно. Страшное, слава богу, давно позади, впереди – только интересное, доброе, вся его долгая мирная жизнь. Настоящим журналистом со временем станет, глядишь, когда-нибудь напишет и книгу. Не о войне, вовсе нет. Чего ее ворошить? О сегодняшнем, о будущем надо. Кое-что пытался писать. Не получалось. Все домашние хлопоты, в том числе и единственного любимого сына, все тревоги, заботы о нем взваливал на жену, даже не замечая того, нимало о том не тревожась. А она лишь тяжко вздыхала да упрекала порой: дескать, мог бы и помочь, пожалеть. Учитель истории в школе, по горло всегда занята – все эти программы и планы, уроки и экзамены, конференции, семинары и секции и еще сколько, сколько всего, а она – ну для чего, почему? – ни за что не хотела расставаться со своими иероглифами, с китайским, – за тысячи верст от Китая, никому здесь не нужными; просиживала со словарями и книгами. Выручала нередко и Ваню: то строгим глазом написанный им в газету очерк прочтет, то нужную тему подскажет, то для корреспонденции интересный заголовок найдет. И Ване казалось, что все хорошо, все как надо идет. Со временем и отдельную квартиру получат. Обещали уже. Придет и достаток. В общем, добьется всего.
Странно вот только: днем забывается как будто война – не до нее, так нет, она к нему по ночам. И почему-то не победами, торжеством – ведь было немало и этого, а чаще все поражениями, ранами, болью. В последний раз под Будапештом угодило в него – осколком снаряда из «фердинанда». Еще бы чуть-чуть и на что бы годился Ваня, что от него бы осталось? Ни Любы, ни сына – не было бы тогда у него ничего. Но осколок, как уверяли врачи, только ближайшие ткани порвал, к сосудам, к нервам, до самой сути мужской не добрался. Но все равно, как он, бедняга, терзался, мучился, пока лежал в полевом госпитале. Не ел почти ничего, только пил (почему-то много пил – чай, воду, компот), прогулок, компаний, бесед избегал. Все больше валялся на набитом соломой матрасе в огромной, натопленной жарко палатке и думал, думал, переживал. Кривят душой врачи перед ним, ох кривят, скрывают страшную безысходную правду. Но недолго ждать осталось уже, ох, недолго. Вот выпишут снова в расчет… И если… Все… Первый же бой и – конец. Жизнь не в жизнь казалась ему. Все проваливалось в тартарары: и первые юношеские знойные грезы – Карла Доннер с Любовью Орловой, в которых, только увидел в кино, сразу влюбился; и первые реальные радости – и тоненькая, рюмочкой, Оля Петрушина из городской балетной студии, крепко прижимавшая Ваню к себе, когда учила его танцевать, и Риточка Калнен из девятого параллельного, единственная из девчонок, позволившая Ване поцеловать себя в губы. Уже бегал на пляж – жадно пялиться на оголенные женские груди и бедра, ночами томился, не спал. Да и потом – на фронте, на передовой… Пусть постоянно в армейской неволе, в невзгодах, пусть в любой миг могли настигнуть увечье и смерть, а все одно, только представит себе по кому, по чему тосковал, сразу накатит ошеломляющий, сладостный вал и, обжигая, томя, тянет, тянет куда-то, да так, что на все становилось вдруг наплевать – и на приказ, и на долг, и на самую жизнь, лишь бы туда, туда, немедленно к ним – к Рите ли, к Оле, к кому-то еще… Да не все ли равно в этот миг, к которой из них? Все равно! Лишь бы приняли тебя, приласкали, утолили бы жажду.
Бродила она, эта жажда, и у всех остальных батарейных солдат. И чуть случатся спокойные часик-другой, не рвутся рядом снаряды и мины, не свищут пули над головой, как тут же и начинали о бабах языки чесать. Не стесняясь, бесстыдно, то весело-лихо, то яростно-зло. А в госпитале, в медсанбате и вовсе… Безопасно, сверху не каплет, тепло… Да и вот они, рядышком, – няни, сестренки, молодые врачихи. Так и лезут, лезут в глаза. Бывает, прокрутят вечерком и кино. И что ни артистка, то одна тебе краше другой. И понесло, понесло мужиков. Резвятся, гогочут… А Ваня побитой собачонкой завалится на койку, одеяло на голову, и ни звука, молчок. И едва выписали из полевого госпиталя, вернулся в расчет – палить прямой наводкой из Буды по Пешту, через Дунай, сразу начал искать в перерывах между стрельбой – нетерпеливо, беспокойно, рисково. И действительно (на ловца и зверь, как говорится, бежит), первым из всей батареи нашел, чего домогался, искал. Укрылись от пуль и снарядов мадьярочки в подвале почтамта. И только увидели русского – трофейный немецкий штык, лимонки, диск запасной на ремне, на плече автомат, из-под рваной и грязной ушанки рыжие лохматые патлы торчат – перепугались. Перепугался и Ваня: за мародерство, за баб, того и гляди, загремишь в штрафники. Да и… с Ритой, с Олей… Все было робко, невинно, исполнено трепетной возвышенной тайны. А как же иначе, если все эти книги, спектакли, кино – Евгений Онегин и Таня, Наташа, Болконский и Пьер, Петька и Анка, Жюльен и Реналь… И сколько, сколько еще?.. Бесследно, что ли, прошли для него? Навечно впились в его душу. И Ваня тоже затрепетал, не меньше, чем эта худущая, несмотря на войну, завитая, подкрашенная, что в ужасе, с дрожью уставилась на него.
– Вас волен зи, гер официр? – пролепетала она, хотя Ваня был только сержантом. – Вир гебэн ауф алес фюр зи. Ауф алес! <Чего желает господин офицер? Мы готовы для вас на все.>
На миг растерялся и Ваня.
– Нихель, нихель! – выдавил он, наконец, из себя. – Зи вас! Наин, найн! <Ничего, ничего! Вы что? Нет, нет!> – И, с трудом подбирая непослушные, чужие слова, объяснил кое-как: ничего, мол, не надо, просто он ищет, где бы солдат своих разместить. Согласятся ли фрейлен, если сюда?
– Битте, битте! – еще пуще расширив глаза, закричала мадьярочка.
Повыскакивали из углов, возбужденно застрекотали и все остальные:
– Я, я! Битте шен, битте шен! <Да, да! Пожалуйста, пожалуйста!>
Что-то лепеча, извиняясь, Ваня попятился. Так спиной и выбрался из подвала и побежал, от стыда весь пунцовый, как ошпаренный рак.
Передовая – не госпиталь. Здесь больше, чем где бы то ни было, каждый боец – часть огромного, неукротимого, слепого подчас механизма, весь без остатка принадлежащий только ему. Не до собственных терзаний, болячек, невзгод. Успевай убивать, не то укокошат тебя. И Ваня позабыл очень скоро о госпитале. Пока освободили – весь в огне, дыму и развалинах – Будапешт, оттеснили гитлеровцев и салашистов за Балатон, добрались до австрийской границы, Ванин расчет поредел почти на две трети. Сколько раз, только прицепят орудие к «студеру», чтобы за отступающим врагом по пятам, как – «К бою!» – опять, отцепляй снова пушку, снова мерзлую февральскую землю долбай, пали по развернувшимся вдруг в контратаку фашистам.
Немцы теперь изо всех сил цеплялись за Австрию: дальше – на запад – союзники. И Фюрстенфельд, Грац и Вену пришлось брать в тяжелых упорных боях. На южные окраины австрийской столицы Ванина бригада вслед за «тридцатьчетверками» ворвалась только в ночь на тринадцатое апреля.
Братскую могилу зарывали под вечер. Ваня затерялся в гуще притихших неподвижных солдат и ни сам в руки лопаты не брал, не приказывал и своим номерным. А, как и все (кроме, конечно, могильщиков), стоял истуканно и угрюмо молчал. Зарывали в землю и Лосева – самого старого из батареи, на Кавказе еще с ним воевал; пока не получили машин, был он ездовым, а сменили на них лошадей, направляющим стал – пушку за станины таскал-поворачивал. А теперь, под самую завязку войны, выпотрошил ему кишки осколок. Перед самым первым мая Ваниному полку вместо послуживших еще с освобождения Кубани «семидесятишестимиллиметровок» вручили новые «сотки» – с длиннющими пятиметровыми стволами, со щитами из надежной почти сантиметровой брони и со спаренными колесами на гусматике и масляных амортизаторах, а вместо «студебеккеров» могучие гусеничные тягачи с просторными кузовами, набитыми до краев ящиками с мощными унитарными снарядами.
«Эх, – вздыхал завистливо Ваня, – пораньше такие бы нам, на Кавказе еще. А то… «Сорокапяток» несчастных, «хлопушек» и тех… На всю батарею – одна. Да-а, тогда бы… Как вжарил бы по фрицевской «тэшке» – и пополам. А теперь-то зачем? – не мог понять он. Война кончалась уже. А для Вани здесь, в этой прекрасной австрийской столице (еще в довоенном фильме «Большой вальс» поразился ее красоте), похоже, уже и закончилась. Хотя… Как ни гордился новенькими мощными пушками, как ни сожалел, что не придется их уже применить, в глубине души все-таки таилось куда более сильное и стойкое чувство: – Неужто, – подкатывало под горло порой, – не досидим здесь до победного дня и снова нас куда-нибудь бросят?»