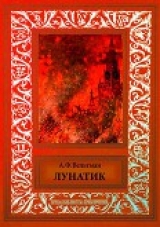
Текст книги "Лунатик
(Случай)"
Автор книги: Александр Вельтман
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)
II
На правом берегу р. Оки, за Серпуховым было, вероятно и теперь есть, селение, которого название да позволит мне читатель скрыть. Господский двор этого селения составляли следующие особы: сам помещик, человек богатый и больной; жена его, добрая, радушная женщина; дочь их, милая, огненная Евгения, девушка пятнадцати лет; брат хозяйки, чистая душа; подслеповатая Анфиса Гурьевна – непорочное сердце, соседка, вечная гостья; и только, – за исключением большой дворни, старых мамушек, бывших нянюшек, горничных девушек, трехаршинных малых, ленивых слуг, грубиянов холопов, сонных лакеев, Гришек, Федек, Ванек, Васек и проч. и проч….
Известие о приближении французов к Серпухову всполошило всех, все было на стороже, наготове к выезду; но поворот неприятеля от Малоярославца успокоил всех, и всё приняло прежнее положение. Вещи были расставлены снова по своим местам, платье развешано по крючочкам, белье укладено по комодам, посуда уставлена по шкафам, Китайские чашки по столам в гостиных. Помещик, сняв с головы шапку, а с ног медвежьи сапоги, снова поместился в подушки; добрая барыня села на свое место перед столиком у окошка, вязать теплую фуфайку; Анфиса Гурьевна подле нее начала опять тасовать обитую колоду карт, пересказывать былое, гадать про француза и про всех знакомых: живы ли, здоровы ли, когда приедут в дом, когда им будет дорога, скоро ли женятся или выйдут замуж и т. д. Брат хозяйки, отставной закоренелый холостяк, запалил трубку и по обыкновению стал думать и рассуждать со встречным и поперечным о доходах, которые можно иметь от мельниц. А Евгения, едва только вышедшая из пансиона и пользовавшаяся еще правом свободы как гостья, по прежнему, не посидя на месте, стала носиться мотыльком по комнатам, прыгать, хохотать, петь, играть на фортепиано, помогать маменьке вязать фуфайку, метать разложенные карты Анфисе Гурьевне потихоньку выдергивать у старой няньки вязальную иголку из чулка, уносить у ключницы очки, без которых она не могла найти место ключа в замке, рядиться в дядюшкин кафтан и шапку, и сердить подслеповатую Анфису Гурьевну, которая, принимая ее за Савелия Ивановича, заводила разговор о женитьбе и, раскладывая карты, говорила, что одна достойная особа давно уже постоянно его любит и составила бы его счастие.
Евгения была невинное, доброе, веселое, беззаботное, простодушное, счастливое создание, каких редко встречают на земном шаре. Однажды все семейство чинно сидело в зале и внимательно слушало гаданье Анфисы Гурьевны про сына хозяев, служившего в военной службе.
– Вот, сударыня моя, смотрите… раз, два, три… раз, два, три… девять, тринадцать… дорога в дом еще не скоро!
– Не скоро? – вскричала хозяйка.
– Раз, два… пять… девять, тринадцать…. Царская милость!.. десять, одиннадцать… тринадцать… в какой-то большой кампании!
– В кампании! да, на войне все в кампании, Анфиса Гурьевна! – возразил Савелий Иванович.
– Со всем не то, Савелий Иванович. Вот, изволите видеть: тут все дамская кампания, вот червонная вот и трефовая – марьяж, батюшка!..
– Будет вам гадать о братце! – вскричала Евгения, вскочив с места, и сметав разложенные карты. – Я сердита на вас: вы сказали, что братец не скоро приедет из похода! Этого я не хочу! – Анфиса Гурьевна, лучше погадайте мне, скоро ли я выйду замуж!
– Ох, Евгения Павловна, это уж и не годится! мешать карты! они иногда говорят правду.
– Миленькая Анфиса Гурьевна! погадайте мне.
– Пора бы однако ж получить письмо от Поля!
– Помилуй, матушка, до письма ли. походному человеку! – Лишь бы служил с честью и славой, да был здоров, а то по мне хоть совсем не пиши.
– Вы все отцы таковы, а материнское сердце болит да болит.
– Знаете, маменька, я видела сего дня братца во сне; что будто перед ним стоит кто-то и машет крыльями…
– Что ж это такое? мельница? – перервал Евгению дядя её.
– Нет, дядюшка, привидение, – страшное! я испугалась и проснулась.
– Какое привидение, душа моя: —уж коли рыцарь Дон-Кишот наяву принял мельницу за великанов, так тебе во сне и подавно мельница могла показаться за привидение.
– Дядюшка, дядюшка, да я с роду и не видывала мельниц: в Москве их совсем нет; – знаю только, что нас учили: по-французски мельница moulin; да инспекторша называла некоторых из нас мельницами.
– И ты большая мельница, душа моя!
– Вы, дядюшка, говорили, что у мельницы крылья; – дайте мне крылья! О, я сей час полечу!
– Какова мельница, друг мой, у иной нет крыльев; например, у водяной мельницы: в состав её входят колесы, шестерня, жернов, кулачное колесо…. Кажется, я и при тебе не раз говорил, что я намерен построить мельницу о шести поставах; шестерня будет состоять из 40 цевок. Это будет чудо в нашей стороне! Вообразите, Анфиса Гурьевна….
– Что прикажете, Савелий Иванович.
– Я уже выписал и жернова, да на моей земле воды нет.
– Вы мне про это ничего не говорили, дядюшка. Ах, да! помню, помню! вы говорили, что вы построите о шести поставах кофейную мельницу…
– Не то, душа моя! в роде кофейной; но так, чтоб ручку двигала вода; разница будет только в кулачном колесе, в валах, да в воронке, Воронка будет цилиндрическая, как самоварная труба; жернова будут чугунные и стоять вертикально; а лопаты совки, веретены…
Савелий Иванович не успел еще кончить своей речи, вдруг раздался на дворе звон почтового колокольчика. Все замолкли, прислушивались к звуку.
– Не братец ли? – вскричала Евгения, вспыхнув от одной этой мысли.
Вбежал слуга.
– От молодого барина денщик приехал! – произнес он, запыхаясь….
– Где, где? – вскричала Евгения, и бросилась в двери.
Савелий Иванович последовал за нею; все прочие остались, едва переводя дух от неожиданности.
– Господи Боже мой! что это значит? Жив ли мой Полюшка? – повторяла помещица.
– Ах, матушка, успокойтесь! и В его ли лета умирать! Ваши родительские молитвы сохранят его и в беде, и в напасти!.. – повторяла Анфиса Гурьевна.
– Желательно знать, что бы значил этот нарочной? – повторял сам помещик, охая от боли в боку и перекладывая ногу на ногу.
Между тем, Евгения успела уже выбежать на крыльцо, вырвать письмо из рук Улана, обсыпать его вопросами на счет своего брата и, перебивая слова его вскрикивать:
– Ранен! как ранен? когда, кто его ранил? для чего?… Едет сюда? Ах, братец едет сюда! какое счастие?… С кем говорить ты? – с Юрьегорским? – Кто это такой?… Офицер? Зачем же он едет?… Также ранен? ах, бедной! – Простой же, постой, постой, пойдем к маменьке, сам расскажи ей!..
И вот Евгения вбежала в комнату, и бросилась к матери и с словами: братец едет! обняла ее, отдала письмо, торопливо вырвала его опять из рук её, распечатала, развернула и вложив в руки матери, стала у ней за стулом и начала читать вслух.
Письмо заключало тоже, что Евгения выспросила у Улана; между прочим, Поль рекомендовал отцу и матери Аврелия Юрьегорского, своего друга и сослуживца, и просил принять его ласково и приветливо.
Обычная тишина в доме снова нарушилась. Евгения сама вызвалась убирать комнату для приезда своего брата и его друга. Суетилась, бегала, сама надевала бахромчатые чехлы на подушки, устанавливала вещи в порядок, приколола булавочками к обоям рисунки своей работы: Европу, Азию, Африку и Америку, l’innocence, la belle Espagnole, четыре времени года в лицах, и тьму других голов и изображений. В уверенности, что братец и гость его любят чтение, уставила она стол книгами, которые наскоро выбрала из домашней библиотеки, по хорошему переплету; тут попали:
Евфемион, или юноша образующий сердце свое похвальными и достоянными подражания примерами…
Любовный лексикон.
Любовная Школа, или подробное изъяснение всех степеней и таинств любовной науки. – М. в. Ун. Тип. 1791 года.
Смеющийся Демокрит, или поле честных увеселений, с поруганием меланхолии, перев. с лат.
Подлинное известие о славнейшей крепости, называемой Склонность…. Георга Беккера. Пер. Б. М.
Между работой задала Евгения работу и Анфисе Гурьевне: гадать, какой мужчина приедет с братцем Полем? черноволосый или белокурый, с голубыми глазами, или с черными?
Между тем как Анфиса Гурьевна раскладывала карты и считала указательным пальцем правой руки по направлению к левой, от 1-го до 13-ти и обратно, задавая про себя вопросы: не жених ли трефовый король червонной даме, лежит ли подле него бубновая десятка, означающая богатство и червонная семерка – любовные мысли? – сама хозяйка распоряжалась о столе, приказывая прибавить к обеду вафли, а для десерта вынуть из чулана варенье и разложить на фарфоровые блюдечки. Слуги, служанки, всегда усердные – перед приездом гостей – участвовать в общих хлопотах и приготовлениях, толкать друг друга, метать друг другу, кричать друг на друга, спорить и готовить пир горой и разливанное море, подняв содом, перебили несколько тарелок, стаканов и рюмок и наконец выбежали к воротам глазеть на даль, в ожидании молодого барина.
Когда хлопоты были кончены, нетерпеливое чинное ожидание заняло всех. Принарядившись, все утихли, уселись по местам, и Евгения, подобно всем, утихла, и ее стали беспокоить мысли: кто этот друг брата? хорош ли собою, молод ли?
Вопрос, сделанный ей мамушками, нянюшками и горничными девушками: «кто ж это такой, сударыня, что едет с братцем? Уж не жениха ли он вам везет?» стало повторять и собственное её сердце; оно же стало понемногу делать логические выводы по соображениям и придумывать ответы. Верно братец не подружится с каким-нибудь уродом, или стариком. Верно у его друга также доброе сердце, как у него самого. Кого любит братец, того и я должна любить, потому что я люблю братца; а кто любит братца, тот должен любить и меня. Но… братец может любить меня только за доброе сердце; понравлюсь ли я его другу?
Последний вопрос, произнесенный в глубине души, обратился во вздох и вылетел из уст Евгении. Она вскочила с места, подбежала к зеркалу. Румянец играл на щеках её; быстрые черные глаза наполнились, как будто блистающими слезами, темные локоны волос отражали на себе свет дня, как полированные из черного мрамора. Счастливая наружность Евгении была одна из тех, которые никогда не стареют, в которых живость, нежность, румянец, белизна, приятность, вечны.
– Ко мне не пристало голубое платье! – вскричала она и побежала в свою комнату перебирать и примеривать снова другие свои платья.
III
Прошел час обеденный; на сельской колокольне ударили к вечерне, а ожидаемых гостей еще нет, вопреки словам передового, который сказал, что едут в след за ним. В кухне все пережарилось, перепеклось, переварилось и наконец простыло; а обедать никто и не думал, все сидели около Анфисы Гурьевны, которая гадала, что случилось с дорожными. Евгения присмирела; при малейшем стуке, или шуме на дворе, подбегала к окну и возвращалась к столику, упрашивая Анфису Гурьевну еще раз разложить карты. Уже смерклось; беспокойство возрастало с каждым мгновением, только Савелий Иванович, по-прежнему, спокойно пыхтел, похаживая с трубкою в руках по комнате, и строил в голове мельницу о бесконечном числе поставов, которая приводилась бы в движение совокупной силою ветров, воды и лошадей; тысячи жерновов работали уже в воображении изобретателя, огромная шестерня била такту, перебирая зубцы колес, мука лилась как поток по желобу; вдруг голос сестры перервал золотые мечты Савелия Ивановича.
– Братец, – сказала беспокойная помещица, – возьми дормез и поезжай на встречу к моему Полю. Не к добру заболело материнское сердце: не случилось ли чего с сыном!
– Поезжайте скорее, дядюшка! – вскричала и Евгения, бросившись на шею к Савелию Ивановичу. – Я сошью вам мешок на муку для вашей мельницы и подарю вам мою головную сеточку, помните, ту, которая, говорили вы, хороша для сита, очищать зерны….
В другое время предложение Евгении рассмешило бы всех, но тут оно было подтверждено самим помещиком, который обещал согласиться построить мельницу по плану Савелия Ивановича.
– Давно бы хватился, брат! – произнес важно Савелий Иванович. – Если б послушал меня, мельница принесла бы уж теперь не одну тысячу дохода. Так нет! вовремя надумался! Зима на дворе, много ли настроить теперь!
Упреки Савелия Ивановича на потерянное время к постройке мельницы, были остановлены новыми общими просьбами ехать скорее на встречу к Полю.
– Оно так! – говорил он; —Да что по ночи увидишь? Не лучше ли до утра отложить. Кстати, по пути, осмотрел бы я место, где удобно поставить мельницу! – как вы думаете?
Предложение Савелия Ивановича не слушали; карета была готова; сама Евгения надела на него соболью шапку и потащила в переднюю, где ожидавший малый накинул на него шубу, а двое других повели под руки с лестницы, подняли на подножки, втолкнули в дормез, захлопнули дверцы; денщик сел с кучером на козлы, двое слуг стали на запятки, бич хлопнул, и четверка коней понеслась, в след за верховым с фонарем, по дороге к Серпухову.
IV
Куда ни брось, куда ни кинь человека подобного Савелию Ивановичу, он везде будет спать, или строить мельницу. Впрочем, у кого нет любимой цели, в которой не видел бы он своей славы, вооруженной рогом изобилия и окруженной играми и смехами? Для ума великого, своенравного, видимый мир тесен, беден, как не перенести себя в тот мир, в котором живет мысль, который так обширен, богат, где все нипочем;—где все живет, все растет, высится, красится; где целые хребты сокровищ ждут щедрости и расточительности; где не источники, а целые моря богатств, надежд, славы и желаний; где нет ничему ни основания, ни начала, ни конца, ни причины; где глухой все слышит, слепой все видит, раб царствует, бессильный ворочает мирами; где всякому весело как в добровольных гостях, беззаботно как во сне, тепло как в пламенных объятиях любви, безопасно как в могиле, просторно как в постоянном сердце.
В этом-то мире Савелий Иванович спокойно строил свою мельницу, за неимением средств и собственной земли в мире вещественном. Доставшееся ему наследство он обратил в деньги и прожил на модель мельницы, которую в продолжении пяти лет делал и переделывал ему в Москве один Немец механик и которая, к несчастию Савелия Ивановича и всех земных мельников, сгорела в пожаре Московском. Таким образом разорённый дотла, он приехал к сестре своей в деревню и жил, создавая в голове своей новый прожект, более огромный, более совершенный, и предлагая зятю своему исполнение по оному. Но, предложения его отвергались, как мы видели, до самой поездки на встречу племяннику Полю.
Между тем как Савелий Иванович сонный перекатывался в дормезе со стороны на сторону, Поль в селе Нечаеве, с подвязанной рукою и поддерживаясь костылем, сидел в отчаянии над беспамятным Аврелием, забывая собственную боль от растревоженных ран во время дороги. Полковой молодой лекарь, почитая рану Аврелия в плечо не столь опасною, чтоб отсоветовать пуститься в дорогу, не предвидел горячки и воспаления. Не доехав одной станции до дому, Поль принужден был остановиться в с. Нечаеве, чтоб дать хотя малейший отдых другу своему после езды в продолжении целого дня по самой тряской осенней дороге. Едва вынесли Аврелия из повозки в избу, жар и беспамятство обняли его. Поль не знал, что делать; с ними никого не было, кроме Павла дядьки Аврелия. Старик выплакал все слезы свои над барином, и наконец вспомнил, что должно искать помощи; поклонясь в ноги хозяину дома, он просил его посмотреть за барином своим, чтоб в бреду не разбередил он раны своей, покуда он съездит в Серпухов за доктором.
– Я буду смотреть за другом моим, сказал ему Поль.
Павел сел верхом и поскакал. Ночь была темная, город не близок; на половине пути догнал он карету, перед которою ехал провожатый с фонарем.
– Добрые люди! вскричал он, эта ли дорога в Серпухов?
– В Серпухов, брат! – отвечал ему кучер с козел; – а ты куда путь держишь?
– Да туда же!
– Попутчик! Ступай за нами.
– Нет, брат, вам ништо, а у меня барин умирает: еду за доктором.
– Тэк! ну как изволит; только, брат, смотри, по-ночи чорт ногу подставит, здесь дорога не гладь! А из какого, брат, села?
– Не знаю, приятель, из-под Малоярославца мы, проездом, верстах в пяти отсюда остановились.
– А что, брат, ушли французы?
– Не знаю, приятель! как ранили Аврелия Александровича, я света не взвидел.
– Да ты, брат, кто? – отозвался сидевший подле кучера усач в бурке и шапке.
– Слуга поручика Юрьегорского.
– Стой, брат, стой! – вскричал усач, вырвав возжи у кучера и остановив лошадей.
– Павел! это-ты?
– Я! Липин! куда ты?
– Где господа? мы за ними едем!
Шум разговора пробудил Савелия Ивановича.
– Приехали что-ли? – вскричал он, высунувшись из окна дормеза.
Ему рассказали про встречу с слугой Аврелия, и что они проехали уже деревню, в которой остановился Поль с другом своим.
После коротких расспросов и рассказов с той и с другой стороны, Павел отправился с проводником в город за Доктором, а дормез воротился.
Покуда счастливый случай сводил таким образом героев романа, Поль сидел над Аврелием, который в беспамятстве метался и в бреду говорил несвязные речи. За неимением свечей, заезженный кусок тряпки в плошке, наполненной салом, изливал печальный свет на бледного Аврелия и на черные стены избы, покрытые светящеюся копотью.
Аврелий не умолкал, что-то говорил про себя, иногда только произносил он громко мольбы и жалобы:
– Сбросьте с меня эту проклятую формулу!., она пожрала двойные и тройные буквы всех земных языков, она и меня хочет сжать своими железными скобами!.. Дальше, дальше! отодвиньте!.. Огнедышащее жерло земного полюса пышет! Смотрите, как сыплются бриллиантовые уголья, как реки металлов текут в недра земли; а горы льдов, облегающих страшные уста её, искрятся, стоят вечною преградой для предприимчивого человека, желающего постигнуть тайну полюсов!.. О! сдуньте этот мрак, который разлучил мои взоры с образом Лидии; пусть свернется этот туман неведения в тучу и улетит в другой мир; пусть солнце осветит ее, и дыхание Лидии да будет благовонным эфиром, наполняющим пространства между частями вселенной!.. Вот, вот она!.. приветная как нежность, как ласка, как спокойствие души…. Вот она!..
Аврелий стал приподниматься с места, протянул обе руки, устремил очи на свет плошки.
Поль не в силах был удержать его одной рукою; он уже хотел позвать хозяина, как вдруг подле избы послышался шум, топот лошадей, и наконец денщик Поля Липин вытянулся подле дверей и произнес:
– Здравия желаю, Ваше Благородие!
В след за ним вошел Савелий Иванович.
– Племянник! – вскричал он и бросился обнимать Поля.
Дядюшка, пощадите меня, у меня рука ранена! – вскричал Поль, едва переводя дух от неожиданной радости и от объятий Савелия Ивановича.
– А это кто растянулся на лавке? а?
– Тс! дядюшка, это мой сослуживец и друг Юрьегорский; он ранен и болен.
Тут дядя и племянник стали разговаривать тихо.
Между тем как Поль рассказывал дяде про свои походы, сражения и прочее, а Савелий Иванович, перебив его, стал в свою очередь рассказывать предположения свои насчет нового устройства мельниц, и о доходах, которые они могут принести, – стало уже рассветать. Аврелий время от времени произносил не связные слова. Приехал городовый лекарь из Серпухова. Раны и болезнь Аврелия нашел он опасными, но согласился, чтоб в этом беспамятстве перевезти его в поместье Белосельского. После перевязки ран больного перенесли в дормез, и все пустились в дорогу.
Еще было утро, когда дормез въехал на помещичий двор.
После долгого ожидания гостей, там все еще спали. Поль не велел будить даже Евгении; но едва только внесли беспамятного Аврелия в предназначенные для него и для Поля покои, она проснулась.
– Братец приехал – вскричала она, взглянув на лицо своей горничной, и в несколько мгновений была уже готова, чтоб бежать к нему; но ей сказали, что после дороги братец уснул, а гость болен присмерти.
– Болен! Присмерти! – вскричала Евгения жалобным голосом. В первый раз румянец исчез с лица её. Она задумчиво села и замолкла.
Вскоре все в доме проснулись, и, в зале, сидя за самоваром, с нетерпением ожидали пробуждения Поля.
– Что с тобой сделалось Евгения? спросила ее мать её; —Ты верно нездорова.
– Нет, маменька, ничего, – отвечала Евгения.
Между тем как Савелий Иванович рассказывал встречу свою с племянником, со всеми мелочными подробностями, Поль с подвязанной левой рукою опираясь правою на костыль, вошел в комнату.
– Братец! – вскричала Евгения бросясь к нему, и – рана Поля во второй раз потерпела от нежных, крепких объятий.
После радости, печали и слез, призванный Доктор должен был тысячу раз подтвердить, что раны Поля не опасны. На счет же ран Аврелия он оказывал сомнение, однако же надеялся.
– Вы такие добрые, Г. Доктор, – говорила ему Евгения, – Вы вылечите и братца и друга его.
В продолжении нескольких дней нельзя было бы описать беспокойства Евгении; то доктора, то брата спрашивала она про Аврелия. Ей хотелось взглянуть на него. Однажды, тотчас после обеда, Поль по обыкновению ушел в свою комнату, чтоб взглянуть на Аврелия, которого беспамятство еще продолжалось, вдруг двери полуотворились и голос Евгении произнес тихо:
– Братец, я сама принесла тебе кофий; можно войти?
– Войди, Евгения, только не стукни чем-нибудь, чтоб не нарушить сон больного; он в первый раз сего дня так спокоен. Не знаю, перед добром ли это?
Евгения, поставила кофий на стол, сложила руки, и став в отдалении от кровати Аврелия, вперила пристально на него очи свои, как будто заучивая бледные, но прекрасные черты молодого человека. На лице его было написано страдание, на закрытых очах его расстилались густые черные ресницы, уста его что-то произносили тихо, тихо; Евгения как будто прислушивалась к его шепоту… вдруг, вздохнул он глубоко, открыл очи, бросил взор на Евгению….
С испугом выбежала она из комнаты.
Аврелий преследовал ее глазами; по лицу его пробежал небольшой румянец.
Поль, видя, что он очнулся, подошёл к нему и спросил, как он себя чувствует?
– Тяжело спал я! но кто здесь был теперь? Поль, видел ты?
Сюда входила сестра моя, милый друг.
– Сестра твоя? Где ж она была?
– Ты теперь у моих родителей, в деревне; здесь ты как у родных, которые любят тебя, которые готовы предупреждать твои желания.
– Хорошо Поль, – отвечал Аврелий; – А ты видел Поль кто был здесь?…
Поль не отвечал на вопрос, заметя, что Аврелий снова впал в забывчивость.
Прошло еще несколько дней; положение Аврелия продолжало быть сомнительным. Что скажет тринадцатый день? говорил Доктор. Часто Аврелий, казалось, приходил в себя, и всматриваясь во все предметы, произносил:
– Поль, ты видел кто здесь был? – и потом опять забывался.
Евгения не смела уже входить в другой раз в комнату брата; неожиданный взор Аврелия врезался в её памяти, испуг остался в ней.
Несколько ночей сряду, с криком пробуждалась она и не выпускала от себя горничную.
Она утихла, не носилась уже беззаботно, шумно, по комнатам, но забывшись, иногда говорила шопотом и ходила на цыпочках, как будто опасаясь потревожить больного.
Настал тринадцатый день. После ужасного бреда, который напугал всех, Аврелий наконец умолк, впал в совершенную забывчивость, и после благотворного сна, все чувства ожили в нем вместе с пробуждением. В первый раз он улыбнулся на ласки и заботы друга, и пожал ему руку.
– Теперь вы опять наш! сказал ему доктор.
Сильная болезнь поглощает часто привычную тоску сердца, проносит с собою тучи печальных воспоминаний; выздоравливающий смотрит на все светлыми очами, как будто перерождённый, как дитя всему радуется, снова ко всему привыкает, учится ходить; его кормят как младенца, смотрят, наблюдают за ним как за неопытным ребенком, чтоб не простудился, не устал, не оступился, не съел лишнего.
Чувства его оживают, и он спокоен, доволен всем. Ему не дают скучать, его рассеивают; но едва произнесено слово: он выздоровел, – внутреннее небо снова начинает затягиваться облаками, над сердцем собираются новые грозы.
Когда Аврелий мог уже оставить постелю свою, его навестило все семейство; даже больной хозяин прибрел и сел в приготовленные для него глубокие кресла.
Евгения, встретясь взорами с Аврелием, вся вспыхнула и опустила очи свои.
Савелий Иванович полюбил Аврелия от души, за то, что он слушал внимательно рассказ его: до какой степени совершенства дошло в несколько веков изобретение мельниц.
– Вы не поверите, говорил он, с каким трудом в старину добывали муку! как вы думаете? по горсточке толочь зерны в ступе, особенно там, где такое, например, семейство, как у нас! вы возьмите себе: вот зятюшка с сестрицей сам четверть, да я, да Анфиса Гурьевна, да горничных… сколько бишь… да! Акулина первой, Феня другой….
– Ох, Савелий Иванович! – перебивал нетерпеливо отец Поля, – ты уж пошел молоть! другим слова не дашь сказать! Да и то бы взять в голову, что больной требует покоя. Я сам по себе знаю – поверите ли Аврелий Александрович, вот уж десятой год бьюсь с обструкциями в боку; правду сказать, сам виноват: худо лечил Лихорадку; да что ж, батюшка, один говорит, что ежедневная, другой перемежная, третий бродячая, а я начитал в Лечебнике, что у меня все признаки благоприятной нервической, и стал употреблять клистиры. Да вот, десятый уж год страдаю; совсем отбился от хозяйства. – Завод рогатого скота без собственного присмотра немного поопустился; никому в голову не придет, что новорожденного теленка должно немедля отнять от матки, покуда не облизала; прежде года на траву не пускать; и что, в рассуждении оставляемых для завода телят, надлежит наблюдать, чтоб они не были перворожденные, да не были бы о двух пупках. Да, этого никому и в голову не придёт! Сколько ни говори, а без своего глаза плохая надежда!..
Трудно было Полю выживать старика и Савелия Ивановича от больного своего товарища. Гость, новый знакомец, в деревне у помещика, есть существо страдательное; на его несчастное, окованное приличием внимание, взваливают всю обузу пошлых событий, семейных и окольных; перед ним раскрывают домашний эрмитаж деревенских редкостей; показывают ему семейные портреты, чайный Китайский прибор, дедовскую чеканеную серебреную кружку, кольца, перстни, кусок окаменелого дерева, кусочек дресвы, принимаемый за золотую руду, самородный камень за окаменелость…. Много разных вещей показывают ему, а показ всех этих драгоценностей преследуется длинными рассказами: что значат они и как приобрелись. Потом водят гостя по конюшням, по сараям, по мельницам, по погребам, по псарням, по овчарням….
Потом начинается подчиванье редкостями и домашним производством: солеными груздями и рыжиками, арбузами, сливами, яблоками, огурцами, ветчиной своего копченья, крыжовником и малиной своего сажения, морошкой… и Бог знает, чем еще!
Всему рассказы, всему похвала, всему история, всему предание, всему поверье, всему приговор.
Все хвали, всему радуйся, всему удивляйся, перед всем ахай.
Все это испытал Аврелий, когда здоровье его поправилось. Прошла зима, настала весна, честь звала молодых людей на поле битвы; войска русские изгнали уже врага из пределов отечества и преследовали к границам Франции при каждом получаемом известии о победах, Поль и Аврелий роптали на судьбу, что они не могут быть участниками русской славы. Их раны еще не позволяли им владеть конем и оружием; целый год срока положен был их терпению.
Пылкий Поль грустил более; ибо единообразная, домашняя жизнь в деревне ему уже давно прискучила; но Аврелий, как гость, обласканный как родной, в первый раз испытывал благо и спокойствие семейного счастия; по характеру своему он был к нему склонен, и если б не отголосок магического звука: Лидия, если б не воспоминание её образа и рокового события, то Аврелий предался бы вполне чувствам, которые красота и душа Евгении должны были поселить в сердце юноши. Евгения была неразлучна с ним, Евгения смотрела на него такими невинными, любящими взорами, Евгения так внимательна была к грусти его, так торопилась рассеивать ее ласками и вниманием. Все было для счастия Аврелия, кроме таинственности, которая окружала встречу его с Лидией, кроме несчастия, которое возвышало Лидию в глазах его.
Часто, задумчиво смотрел Аврелий на Евгению, забывая присутствие всего семейства; в голове его носились вопросы: что разделяет меня с Евгенией? где моя воля? чем прикован я к Лидии, к видению?
Во время подобных раздумий Аврелия, лицо Евгении горело, очи её были опущены; она страшилась поднять их, чтоб не встретить взоров Аврелия, который, часто, забывшись не сводил с нее глаз своих. Анфиса Гурьевна гадала, шептала в колоду, раскладывала карты, посматривая на Аврелия и Евгению, и рассказывала заключения свои, и то что выходило на картах, на ухо помещице; улыбка матери и наклонение головы подтверждали заключения Анфисы Гурьевны и имели большое отношение к судьбе гостя.
Начинались даже тайные семейственные совещания, про которые однако ж не знала еще Евгения.
В заговоре был и Поль; уверенный, что друг его забыл уже сон о какой-то Лидии и предался чувствам более существенным, он вызвался испытать Аврелия; одно обстоятельство совершенно подтвердило мнение Поля.
Однажды вечер был прекрасен, Луна светила на ясном небе. Это был один из тех вечеров, которые проливают в душу что-то сладостное.
Евгения ходила с Аврелием по саду.
– Я устал, Евгения, – сказал задумчиво Аврелий, и, сев на дерновую скамью, прислонился к дереву. Евгения села подле него. Видя задумчивость Аврелия, она молчала, ожидала слов его; но и Аврелий молчал; глаза его закрылись.
Вдруг, после мгновенного шепота и нескольких невнятных слов, Аврелий произнес:
– Бедная девушка! являлось ли тебе привидение, у которого вместо очей под ресницами светились два мира, населенные богами; вместо сердца был символ любви; вместо души вечность; привидение, которое походило на пришельца с того света, которое дышало не жизнью, а бессмертием, которого речи были похожи на глагол времени?…
Видала ли ты его? Вообрази же, и это привидение вздыхало, и у него из глаз падали слезы.
О, ты бы любила его! потому что ты земная, а на земле нельзя не любить; потому что ты раба вселенной, а во вселенной все невольно должно знать любовь; потому что ты искра, которая должна обращаться в пламень и возжигать сердца; потому, что ты женщина, и должна узнать, что такое жизнь; потому что ты дитя, которое плачет, не ведая само о чем, и понимает только томительную жажду!.. О, Бог над тобою, доброе дитя! Если б у меня в груди остался хоть призрак сердца, а в душе хоть тень воли, я бы забыл, что есть на земле привидение, которого мысли мои ищут повсюду, ищут напрасно, ищут как величину отрицательного количества!… Добрая девушка! скажи мне, где ты живешь?






