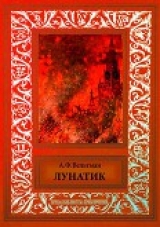
Текст книги "Лунатик
(Случай)"
Автор книги: Александр Вельтман
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
X
В исходе октября, около вечера, небольшой отряд, состоящий из драгун и казаков, пробирался без всяких кавалерийских правил чрез густой лес. По вспененным и фыркающим коням можно было заметить, что отряд только что вышел из дела. Впереди ехал офицер, которого мрачная наружность нисколько не соответствовала молодости лет. Выбравшись па поляну, он остановил отряд, разослал во все стороны патрули, соскочил с коня, раскинул плащ по траве и бросился на землю. Солдаты и Казаки также спешились. Драгунский унтер-офицер подошёл к нему.
– Ваше Благородие, коней-то-чай, расседлывать нечего, а не дозволите ли сварить кашицу?
– Только не разводить большого огня; кругом неприятель.
– Уж какой тут большой огонь, Ваше Благородие! Всего-то сухарей– чай, не наберется на вьючный котелок.
– Завтра, может быть, воротимся в свой отряд, будем сыты.
– Дай Бог, Ваше Благородие! Полки неприятельские как стена крутом нас; хорошо, как найдем где щель. Господин Майор завел нас; сам положил голову, да и наши головы легли-бы, если-б не Ваше Благородие.
Офицер не отвечал. Подставив руку под голову, он, казалось, забылся.
Унтер-офицер возвратился к команде и велел ломать хворост.
Драгуны поняли приказ его здоровья; мигом наломали хворосту; вырубили огонь, разложили под котелок, засели вокруг огня, повели беседу.
– Ну, братцы, сказал кашевар, давай у кого что есть в манерках воды, а в мешочках сухарей. Эх ма! не много! поди-кась кто ни наесть, выбеги на дорогу, да набери водицы.
Несколько человек отправились с манерками на дорогу. После бывшего дождя на дороге стояли лужицы. Манерочными крышками собрали они отстой, наполнили манерки, возвратились к огню, и каша заварилась.
Казаки, как люди посторонние драгунам, столпились в свой кружок.
– У них не было ни круп, ни сухарей.
– Что ж, братцы – сказал один казак, которого за отважность называли Бегидовцем – Драгуны-то кашу варят; а мы что? Без хлеба не приходится быть!
– Что-ж, кому-нибудь надо на фуражировку ехать, – отвечал урядник.
– Дело. Кругом деревни; как не добыть хлеба.
– Деревни! да заняты французом.
– Что-ж! Француз сам по себе, а мы сами по себе; по-ночи не усмотрят.
– Дело. Ну, кому-ж ехать?
– Ну-ка-сь, выломи хворостину, кинем жеребий: трем верхним.
– Ну!
– Нет, братцы – сказал Бегидовец – я без жеребья еду. Уж коли добывать, так добывать! Добуду – драгунам медным лбам понюхать не дам! Вишь, сами едят, и офицера не поподчуют! – Кто со мной охотники? Поедем ты, Вася, да ты Чюрюм.
– Нар иовьэ! аха! пойдем, брат, пойдем! – отвечал калмык Чюрюм, с густыми, повислыми усами, совершенно похожий на моржа.
Урядник с Бегидовцем отправились к офицеру просить дозволения.
– Ваше Благородие, дозволите казакам съездить хлеба промыслить.
– Что тебе? – спросил офицер очнувшись.
– Да так чего-нибудь на ужин, Ваше Благородие.
– Где-ж я возьму, мой друг?
– Да это уж наше дело где взять, дозвольте только съездить в ближнее село.
– Куда вы поедете: кругом нас неприятель.
– Что-ж, Ваше Благородие– отвечал Бегидовец – голодной смертью не приходится умирать; а без воли Божьей головы не снимут.
– Ступай, только осторожно; не выкажи дороги к нам.
– Покорнейше благодарим, Ваше Благородие! – произнес Бегидовец, очень довольный позволением.
– Ну, братцы, подтягивай подпруги! Хайд!
И вот Бегидовец, Вася и Калмык, вытянув коней нагайками, пустились вон из леса, как охотники за косым зайцем. Скоро выбрались они на торную дорогу, которая потянулась мелким кустарником.
Вечер лег уже на мрачную окружную природу; луга и пахотные поля, покрытые припавшим к земле туманом, казались морем, отдаленные леса берегами, а селение, верстах в трех, обнесенное густою рощею, казалось островом. К нему-то торопились Бегидовец, казак Вася и калмык Чюрюм.
– Видишь, братцы, в селе огни.
– Огни, да не свои.
– Не свои, так французские, все равно. Французов выживем! – сказал Бегидовец.
– Экой ты прыткой; да там чай их полк! Смотри, кругом села пикеты… чу! покрикивают.
– Не бось, мы им подадим голос.
– Да что-ж ты, брат, хочешь делать? Аль сонного зелья им дать?
– Нет, просто глаза оморочу.
– Вот, примером, считай, сколько нас здесь?
– Да и всего-то трое.
– Врёт! три полка. Полк мой, полк Васькин, да Чюрюмов, калмыцкой полк.
– Ах ты Бегидовец окаянный! и нас то морочить хочет.
– Нет, не морочить; сам увидишь. Васькин полк да Чюрюмов полк спешу: без пехоты не приходится деревню брать; а с своим полком пойду в атаку.
– Мудрен человек! Сеахан хазык! славной казак! – сказал молчавший до сей поры калмык. Спрятай, брат, своя башка; жаль, пранцуз режит такой башка!
– Ах ты калмыцкая ноха – собака!
– Да куда-ж ведешь ты нас? Деревня на ружейный выстрел; смотри, около огня пехотной пикет.
– Пехота-то нам и по руке. Тс! не бормочи же, пробирайся знай между деревьями…. Ну, стой теперь, братцы, спешивайся. Смотри-же: знаете вы, как ворон из-за угла пугают? Так пугнем мы и французов. Привязывай коней в кусты; а сами воровским ползком вдоль плетня, да межой, прокрадитесь в задворки. Ты, Вася, с одной стороны села, а ты, Чюрюм, с другой, заберитесь в овины, где побольше соломы, да и сиди; а как послышите выстрел, то и бегите от овина к овину, да запаливайте пистолями солому. Да смотри не робей, братцы; между цепью прокатитесь вальком.
– Робеть-то не сробеем, да что ж из того будет?
– Мэдневэ! знаю! – вскричал Чюрюм; то по-нашему! пайдом, брат, пайдом!
– Ну, так и быть! – отвечал казак Вася; привязав коня, он перекрестился и, приклонясь к земле, пополз на карачках между полосами пахотной земли.
– Хаэрхын-Бурхун! – прошептал Чюрюм и пополз вслед за ним.
– С Богом! – сказал Бегидовец вслед товарищам, которые исчезали в темноте и в межах.
В это время, из-за черного леса, за селением, поднимался месяц, огромный, красный, как одевшееся лицо беспросыпного пьяницы. Вытаращив глаза и разинув рот, казалось, что он уже хлебнул из горького земного Океана, и окутываясь в лохмотья туч, сбирался идти по-миру.
– Пора! – прошептал сам себе Бегидовец, и вдруг, вытянув ногайкою коня своего, помчался к деревне с криком; хи, ха, хэ! – Стрелой пронесся он прямо к пикету, расположенному перед деревней; несколько человек пехотинцев сидели вокруг огня и беззаботно курили трубки. Он, бух! прямо на них, пролетел чрез огонь, дернул в обе стороны по головам нагайкой, свистнул, гаркнул, крикнул: хи, ха, хо! и взвивал уже пыль вдоль по деревне, окутал улицу гамом и выстрелами из пистолетов.
Бегидовец был совершенно похож на сына Меркуриева, когда, во время похода Бахуса в Индию, он разогнал криком своим все неприятельское войско. Но Пану помогла его возлюбленная Эхо, отзывавшаяся со всех сторон тысячами голосов, а Бегидовцу никто не помог; он один кричал: хи, ха, хо! не хуже целого войска, когда оно бежит в атаку или лезет на стену.
В деревне только что расположился на кантонир-квартиры Баварский линейный пехотный полк; едва только отвел он душу от дальнего похода, закурил трубки и заговорил о своем родном, теплом климате и дивном Швейнфуртском вине, вдруг тревога, шум, крик, выстрелы, нападение, ужас! Поднялась суматоха, хватаются за ружья, бегут со всех сторон на улицу, кричат Mein Gott! Mein Gott! толпятся на площадке перед господским домом, строятся в колонну и оттуда идут на Gtarfe pofition, за селением.
Огонь разлился по овинам, пышет, освещает окрестность: на высоте стоит неприятельское каре, держит ружья наготове, довольно собою, что внезапное нападение предупреждено; мужественные взоры светят, как искры готовые упасть на полку.
Между тем Бегидовец, сделав вольт в поле, воротился уже в оставленную неприятелем деревню, и распоряжался в ней как победитель: шарил по углам, брал контрибуцию, вьючил коня всем годным, всем питательным, всем, что Бог посылал под руку.
Калмык Чюрюм также не теряет время. Заметив, что боярский дом оставлен неприятелем без надзора, он кинулся в него. Все двери на распашку, все готово к его посещению: комнаты освещены, в зале накрыт стол, уставлен кушаньем и вином; фарфор, хрусталь, серебро, разные вещи разбросаны. Чюрюм растерял глаза. „Арзэ! водка!“ – шепчет он сам себе, выхватив граненый графин из серебряного судка, пьет. Кисло! – уксус ему не по сердцу: хлоп о землю. Ухватился за другой– горько! – горчичное масло не вкусно: хлоп о землю. Нэмыш-такя! – немецкая курица!“ – пробормотал она снова, сдернув за ногу огромную индейку с блюда и вцепившись зубами ей в крыло. Между тем глаза его рыщут по комнате, остановились на кованом ларце, стоявшем на столе. Хаэршин! ящик! – думает Чюрюм, бросив индейку и обхватив ларец; тяжел; вскидывает его на плечо, а подле, на диване, сабля и пистолеты; сеахан юльдэ! славная сабля! вскрикивает Калмык, и протягивает к ней руку; а ларец бух с плеча, бац об пол, разлетелся в дребезги; дорожная посуда, бритвы, разная мелочь покатилась по земле. Дз! – шипит Чюрюм, привешивая торопливо саблю и затыкая пистолеты за пояс.
Вдали послышался шум. Быстро, жадным взором окинул Калмык еще раз комнату, схватил стоявшую под стеклянным колпаком вазу, торопится вон, скользит по ступеням лестницы, споткнулся, грохнулся вместе с вазой об пол, вскочил, плюнул на черепки фарфора, и исчез между строениями двора боярского.
Казак Вася, с другой стороны селения, не так опрометчиво поступил: он забрался просто в избу, наклал в редно всего, что только нашёл годного для употребления в пищу, взвалил на плечи, схватил со стола отрезаны ломоть хлеба, и, стуча зубами как в барабан, отправлялся скорым шагом на соединение с главными силами в лес.
Бегидовец давно уже ожидал товарищей. Пришел Вася, запыхаясь, навьючил коня. Ждут Чюрюма. Является наконец Чюрюм, бежит.
– Что-ж ты с пустыми руками, калмыцкая харя!
– Пайдом брат, на конь, пайдом брат! Ахат баин! много добра! на барской дома!
– Нет, спасибо, калмык! вишь нашел простоволосых! отправляйся сам! Про глухова не две обедни! Едем, Вася.
Бегидовец и Вася засели на коней и отправились по опушке леса назад. Навьюченные кони их, как горбатые верблюды, едва переступали от тяжести.
– Дз, эх! – пробормотал калмык, отправляясь вслед за товарищами и бранясь по-своему.
Пожар деревни освещал окрестность. Луна поднялась на горизонт. В поле все было видно, как посреди белого дня.
Вдруг, впереди, послышались голоса. Казаки остановились. С поперечной дороги, из-за леса, показался небольшой кавалерийские отряд. Кони были навьючены; каждый солдат вел за собою на привязи корову, или теленка, как заводного коня.
– Неприятель! – сказал тихо Бегидовец, – верно с фуражировки! Вишь навьючились, словно наш брат Казак. Собаки! добро бы в своей земле!
– Аха, менюга санса! слушай, брат! – сказал калмык, – на ваша много добра, нам дугэ, – у меня, нет ничего! Стой здесь, я пайдот на эта ноха, собака, возьмут у них корова два.
– Что? корова два! – передразнил Бегидовец калмыка.
– Укюр хаир, корова два, брат, возьмут у пранцуз.
– Ах ты копченой! поди умойся сперва! туда же!..
– Моволлвэ, аха! нечестно брат! Калмык все делай, что прикажешь.
– Да тебя уколотят как собаку; смотри, их человек десятка три.
– Не знай брат считай я! – отвечал калмык сердито.
– Ну, ступай, делай что хочешь, посмотрим на твою удаль.
– Хэтыр халэ, смотри хорошо братцы, как я будут палил на пистоль, и ваша палил, гикай, кричи.
– Изволь, изволь, Чюрюм, – отвечали Бегидовец и Вася.
– Хаэрхын бурхун! дай Бог счастья! вскричал калмык, и пустился в поле. Конь его стлался по земле. Пыль взвилась золотой струей; казалось, что Чюрюм поднял всю дорогу на воздух.
Внезапно, как Божья немилость, наскочил он на отряд, гикнул, промчался около него как молния, сбил крайнего кавалериста тупым концом копья с седла, поворотил, ударил по лицу нагайкой другого, выпалил в третьего.
– Хи, ха, хо! – раздалось под лесом и вслед за этим несколько выстрелов.
Неожиданное нападение навело панический страх на фуражиров; бросив заводную свою добычу, они пустились во весь опор. Оставленные коровы и телята, с испугу, кинулись вслед за ними. Не оглядываясь мчались французы, преследуемые стадом, и исчезли в глубине ночного отдаления.
Между тем калмык, возвратясь на поле победы, собирал уже трофеи, обшарил в карманах трех убитых им французов, поймал навьюченного коня и двух телят, и возвратился к своим товарищам.
– Ну, калмык! сказал правду, проворен малой! по-Бегидовски!
– По Сысоевски, брат, – отвечал калмык. Все равно, наш Давид Григорьич, как щука в море, не дремли карась; а по Сысовски: нагайкой просеку прокладывай, а конем неприятеля в землю втаптывай.
Шажком отправлялись казаки к отряду. Скоро выбрались они на дорогу лесом, приближались уже к тому месту, где расположен был отряд их.
Вдруг слышат топот коней. Свернули в сторону. Смотрят: вслед за офицером, несется весь отряд их во весь опор.
– Стой, брат, стой! – закричали они казаку, который немного приотстал.
– Куда вы, а мы всего навезли!
– Сами не ведаем, – отвечал казак, – мы было вздремнули, вдруг офицер вскочил, крикнул: коня! и мы на коней, да и помчались Бог весть куда.
– Эх, горе!» вскричал Бегидовец.
– Дз! эх, недобре! – вскричал Чюрюм.
– Эх! – повторил казак Вася, и все трое, вздыхая, торопливо развьючили коней, бросили добычу. Калмык отхватил саблей у заводного теленка мягкую часть задней ноги, заложил под подушку седла…. Сели, поскакали вслед за отрядом.
Выбравшись в чистое поле, офицер вдруг остановился.
– Видите-ли? – вскричал он.
– Видим, Ваше Благородие, пожар в селе; – отвечал урядник, не отставший с своими казаками от него.
– Это горит Россия! – продолжал офицер диким голосом; – искры пожара падают мне на сердце…. Враги хотят пробраться в душу…. Тень стелется по Русской земле…. Страшный человек заслонил наше солнце…. Но, сбросим его в глубину морскую, в глубину, чтоб он не обратился в скалу подводную….
– Смотрите, друзья, на это два глаза: они смотрят на все земное пространство; но и они закроются навсегда, и их пламенный взор потухнет как падучая звезда!.. Видите-ли?…
Весь отряд безмолвно устремил глаза на пожар села.
– И в правду, братцы, смотри-ко, село горит с двух сторон, словно два ока! сказал один из казаков.
– Видите ли, – продолжал офицер – эту глубокую думу? Это дума одного человека, одного только; он хочет слить мысли всех людей в одну мысль, хочет населить восток, юг, запад и север своей одной душою!.. Но эта страшная дума в нем родилась, в нем взлелеяна, в нем и погибнет, не воплощенная! Видите ли?
Весь отряд всматривался в отдаленный пожар села.
– И то, братцы, смотри какой дым, так и клубит, так и стелется по полю!
– Мы стрелы Русского грома – продолжал офицер. – Поразим врагов наших! Слышите-ли?
– Слушаем, Ваше Благородие! – прокричал отряд.
Офицер понесся как миг, по полю, прямо к горящему селу. Весь отряд мчался за ним, как метелица. Пронеслись чрез пылающее село. За селом, на возвышении, неприятельский знакомый Бегидовцу, Васе и Чюрюму, полк пехоты; долго стоял он в каре, в ожидании нападения, наконец успокоился и расположился на биваках.
– Смотри, Вася, – вскричал Бегидовец, – то наши пуганые вороны! Гикнем, братцы, ура!
– Ура! – повторил весь отряд, и обсыпав неприятельский полк, потушил собою несколько выстрелов; крошит, сечет саблями, нижет на пики.
– Pardon! – кричат неприятельские солдаты, бросив ружья.
– Пардон так пардон, стой братцы! безоружных не бьют! – вскричал урядник. – Спросим у Его Благородия, что с ними делать?
– Да где же Его Благородие? Уж не убит ли, братцы?
Ищут офицера. Находят распростёртого на земле, между грудой тел неприятельских.
– Убит, братцы! Вот он!.. Ой нет! оглушило только… дышет…
Офицер открыл глаза.
– Утро! – вскричал он; – пора! мы проспали!..
– Никак нет, не проспали, Ваше Благородие! Весь полк в руках, да две пушки, – сказал урядник.
– Что прикажете делать с пленными?…
Офицер, не отвечая, привстал, обвел кругом себя взорами, закрыл руками глаза.
– Ничего не знаю! ничего не помню! новое беспамятство, безумие! Что со мною делается! – произнес он.
– Вот, братцы, как оглушило: по сию пору не придет в себя Его Благородие, – шептали между собою казаки.
– Так как-же, Ваше Благородие, приколоть всех на месте, иль вести в отряд? – повторил урядник.
– В отряд!.. Коня моего! – произнес офицер. – Ваш подвиг, вам слава и награда, друзья.
– Покорнейше благодарим Ваше Благородие.
Отряд сел на коней, окружил пленных, и потянулся рысцой, подгоняя нагайками и палатами бедную пехоту.
Калмык Чюрюм затянул диким заунывным голосом:
Тёёль сээгн чикаттэ,
Тёёль тё хар эван унулаввэ.
– про доброго, смышлёного молодца, как он на длинноухом карем коне с белою звездой во лбу, отправлялся из похода к своему Ноину – Государю.
ЧАСТЬ II
I
На одном из островов Средиземного моря родился человек для того, чтоб умереть на одном из островов Атлантического Океана; но путь этого человека от жизни к смерти был велик, дивен, завиден и страшен.
Все современное человечество знало этого человека, потому, что он хотел быть властелином всего человечества.
Люди говорили, что он есть предвестник конца мира; а рок, давший ему силу и власть, убоялся собственного своего творения, и только хитростию успел вырвать из рук его то могущество, которое не предназначено Провидением человеку.
Вознесенный судьбою и честолюбием выше пределов, где иссякает дыхание человеческое, он думал силою своею нарушить даже закон земного притяжения, – но, на заветных стенах Кремля, в первый раз вздохнул этот человек глубоко тяжко, увидев заходящее светило дня и вечереющее свое счастие.
Как заблудившийся путник убоялся, и он темной ночи и отдаленной грозы и заторопился к убежищу; но ночь и гроза застали его на пути, яростные потоки занесли его в море. Взошла луна; он принял ее за новый дарованный ему день; собрал последние силы свои, выбился на родной берег; но горные потоки снова смыли его, как прах с лица земли, а морские волны выбросили на дикую скалу.
На этой скале лежит отломок столпа Геркулесова, с новою надписью.
7 числа октября 1812 года, Император Французов, под прикрытием гвардии и вечереющего дня, оставил пепелище Москвы. Здание его величия, новый столп Вавилона разрушен невидимою рукою. Огненная слеза брызнула как искра от огнива, из, уст посыпались жалобы на судьбу, и с человека спала личина божества, – и он стал беден, жалок, несчастлив, малодушен, как последний из рабов земных, как преступник, окованный железными цепями обстоятельств.
Русский барабан бил сбор после победы при Малоярославце.
В одну избу селения Ильинки принесли на носилках двух раненых Офицеров. Полковой лекарь, перевязав им раны, отправился к другим, требующим помощи, и они остались одни.
Первые раны, полученные во время победы, считаются несчастием потому только, что лишают возможности разделять новые подвиги товарищей. Спросите у юного воина, простреленного насквозь, изрубленного, изувеченного, что чувствует он сильнее: боль, или тоску по новой славе и опасностям, предстоящим его сослуживцам? Его мучит одно нетерпение, одна жажда к битве, и он готов сорвать перевязки с ран своих, чтоб лететь снова в ряды, в атаку, в штыки, под пули, под ядра, под сверкающие сабли. Одного только молил бы он Бога избавить его: траншеи, да грустной стоянки под крепостями. Нет, русской не умеет ни нападать исподтишка, ни рыться кротом под землей, ни хитрить, ни кривить душою даже перед неприятелем, ни высиживать победу на яйцах… нет! дайте ему в начальники: ура ребята! и он перегонит эхо своего голоса, вломится в крепость как потоп, врежется в ряды неприятельские как острый штык между ребер.
Два раненых офицера, о которых идет здесь дело, были молоды. В них только-что разгорелась, душа к славе.
Но один был задумчив, другой пылок.
– Друг, Аврелий, ты слишком жертвуешь собою, – сказал один из них. – Счастлив я, что успел отвести от тебя Французский палаш, но от двух пуль не мог спасти. Какое-то отчаяние влечёт тебя на гибель, тайное горе всегда заметно на лице твоем: оно тяготит тебя; но неужели ты столько малодушен, что желаешь сбросить его с себя вместе с жизнью?…
– Нет, Белосельский, я хотел только вознаградить то время, в которое я принадлежав отечеству, не был под знаменем общего восстания на врага.
– Но, если обстоятельства заставили тебя опоздать вступить в военную службу.
– В настоящем положении России, для того нет оправдания, кто не вооружился мечем и не стал в ряды соотечественников.
– Не более как в один месяц ты сделал столько подвигов, что два чина и Георгиевский крест не вполне еще вознаградили твои заслуги. Это повторят тебе все. Но друг твой в одном только сомневается: в твоей душе скрывается тайна, презрение к жизни. Может быть, ты сам этого не замечает: какое-нибудь несчастие помрачило для тебя все надежды будущность; я даже уверен… признайся, Аврелий… любовь?
– Любовь? – повторил Аврелий невнимательно, и вдруг как будто вспомнив что то, он задумался, глубоко вздохнул.
– Нет, – продолжал он успокоясь, – я не знал этого чувства…
– Желал бы тебе верить; но ты смутился при этом слове: оно тебе напомнило что-то…
– Может быть обещание, клятву не знать любви.
– Аврелий, подобные клятвы даются только в минуты ропота на любовь. Хоть я и сам не избрал еще женщины, которой мог бы сказать: я люблю тебя; но я очень знаю, что любовь к женщине есть та искра, которая обнимает пламенным чувством семейство, от семейства разгорается в целом союзе общества, от общества переходит в союз целого народа, от союза народного распространяется по всему человечеству, от человечества сливается со всей природой, с целым миром, со всей вселенной. Сия-то искра есть часть божества, дар смертному, который должен раздувать ее, возжигать ею все, что его окружает.
Я не так понял любовь к женщине, когда один близкий мне человек сказал мне, что женщина есть дитя, а мужчина его игрушка, – и подтвердил это собственной своей судьбой.
– И так, не собственное, а чужое несчастие, чужая бедственная любовь подействовала так ужасно на твою душу?
– Да, может быть, потому что собственного горя я сам не постигаю, не верю тому, что со мной сбылось в несколько, можно сказать, мгновений; если бы я решился рассказать кому-нибудь, меня бы почли за полоумного, посоветовали бы мне справиться в соннике, что значит мое видение.
– Ты подстрекнул любопытство мое; но верь, что дружба снисходительна…
– Слушай же; но не требуй связи и смысла в словах моих. Вот моя жизнь. У меня есть отец, матери своей я не помню….
«Отец воспитал меня сам; он хотел поселить во мне страсть к наукам, предпочтительно к таким, которые похожи на бездну, из которой видны только миры, плавающие в небе. В глубине их он желал скрыть меня от бед и горя, неизбежных на земной поверхности.
– Сын мой– часто говорил он мне, – много испытал я в жизни горького, тяжела жизнь в обществе, трудно зависеть от людей. Счастлив тот, кто может посвятить себя уединению, и в уединении найти пищу для себя и пользу для людей. Но не уединение пустынника, или инока, отчужденного от света, считаю я благом, а уединение ученого, беседу с веками прошедшими, с людьми отжившими, с небом…. О, на этой голубой странице, исписанной звездами, много тайн, много пищи для созерцательного ума! Углубляясь над этой дивной книгой, в которой нет ни начала, ни конца, душа так спокойна, так далека от ничтожных забот жизни, что это состояние можно назвать лучшим, постояннейшим, безгрешным блаженством. Только в нем не тронет тебя не зависть людей, ни любовь их, ни ненависть. И ты не позавидуешь людям: сокровище твое, познание, неисчерпаемо; а их сокровище золото, металл, на который покупается бедность и грех…
Так говорил мне отец мой, отправляя меня в Московский Университет.
Я полюбил науки, предался вполне Астрономии, полюбил небо и забыл землю. Не обвиняю отца моего, но я наказан за страсть к наукам. В сердце человека есть союз с людьми, таится искра – для которой нужна пища, скрывающаяся в душе и сердце другого существа; но я не испытал любви, – ее называют блаженством! – я испытал только безумие, боль, видел призрак, который, как будто живое существо, насмехался надо мною, являясь и наяву, и во сне, и днем, и ночью; я жил двойною жизнью. Видел женщину, прикасался к ней; но где ее видел? кто она? – этого не объяснит моя память, это выше моих понятий! Это странный сон, скажут мне; но может ли перебросить сон из равнодушия к чувству пламенному, из тишины в недра бури?»
– До сих пор все слова твои, Аврелий, чудны; но неужели память нисколько не объясняет тебе всего случившегося? – сказал Белосельский.
– Точно также объясняет, как Роланду, потерявшему свой рассудок и отыскивающему его в мире волшебном. Слушай: Нисколько не обращая внимания на то, что делалось не только в мире, в России, но и вокруг меня, я сидел однажды, углубленный в вычисление течения светил. Кажется, что сухие думы изысканий математических, не мечты, которые могут мгновенно перенести человека в очарованный мир, но, я не ведаю каким образом, очутился я в неизвестном мне доме, у ног такого существа, друг, Поль, такого существа, которое, кажется, не может дышать тяжелым земным воздухом; я еще не успел привести в порядок своих мыслей, не успел всмотреться в её красоту… раздался чей-то голос; ясно произнес он: Лидия! и – видение мое исчезло! Полный недоумения, слышу я голоса приближающихся людей. Страх заставляет меня, как преступника, искать выхода, я выскакиваю в открытое окно, и память моя как будто исчезает вместе со мною в пучине.
Только на утро очнулся я; не успел еще совершенно придти в себя, как добрый мой слуга Павел увлек меня вон из Москвы. Я шел, но мне казалось, что природа, люди, чувства, память, рассудок, все обращалось в первобытный хаос, все мчалось, клубилось, как будто гонимое ветрами, во всем изображалось непонятное страдание, подобное тому, которым был, и я исполнен. Настала ночь; в каком-то бреду распутывал я клубящуюся передо мною глыбу разноцветных нитей; вдруг обдало меня огнем; мне казалось, что какая-то сверхъестественная сила перенесла меня в ад и сдала с рук на руки каким-то чудовищам. Представь себе, Белосельский, состояние живого человека, который убежден, что он уже за гробом, в новой жизни, которому пожар Москвы кажется адом, а окружающие его люди демонами. В этом положении был я до нового пробуждения, или бесчувствия, до нового сна, или припадка безумия. Самому себе не дам я ни в чем отчета. Помню только, что я очнулся посреди улицы, как брошенный труп, помню, что подошёл к своему дому и в воротах поразил слух мой вопль женщины. И эта женщина была Лидия. Помню и как помню! отец её защищал честь дочери от какого-то чудовища – и изнемогал; мое появление ободрило его: противник убит на повал, но и бедный старик смертельно ранен. Умирая, поручил он мне дочь свою – свою Лидию! и я насильно оторвал ее от умирающего отца, чтоб скрыть от приближающихся Французов. Я слышал жалобы, видел слезы этого Ангела Лидии, её беспамятство в объятиях умирающей матери, и снова, насильно, оторвал ее от умирающей матери, чтоб вынести из пламени, который обдал тот дом, где мы были. Я нес ее на руках моих, шел сам не ведая куда, торопился, боялся, чтоб судьба не догнала меня и не лишила снова добычи, не вырвала Лидии вместе с сердцем моим и не бросила снова труп мой на жертву существования, в котором нет Лидии!
Помнится, мне, если это не бред всех чувств моих, возмутившихся против души и насмехающихся над её страданиями, помнится мне, что я выбежал в поле и видел вдали церковь, озаренную светом пожара. Я бежал к ней как мертвец, уносящий Людмилу на кладбище… и это точно было кладбище – и я сложил мою ношу на свежую могилу, упал без сил и памяти….
Аврелий не мог продолжать далее: слезы брызнули из глаз его.
– Друг мой, – сказал Белосельский, – тебя тревожит призрак воображения: это сон, совершенно сходный со сном влюбленной Людмилы; я уверен, что ты проснулся не на кладбище…
– Странно было бы мне разуверять уверенность твою!.. Да, Белосельский, я проснулся не на кладбище, а в Москве, с завязанными руками, на Моросейке, в доме Графа Румянцева, в Комитете Городского Правления, учрежденного неприятелем. Там обвинили меня в зажигательстве Москвы и прочитали уже приговор повесить на фонаре; но Голова Находкин, зная лично отца моего, спас меня от виселицы. Меня привели в башню, где содержалась толпа Русских пленников разных состояний людей, употребляемых в работу. Между ними встретил я своего доброго дядьку, который, отыскивая меня по Москве, также попал в плен. Чрез несколько дней, во время которых заставляли нас очищать ходы в подземельях Кремлёвских, воспользовавшись слабым надзором французов, мы ушли, и обязаны своим спасением отчаянному арестанту временной тюрьмы, выпущенному на волю пред вступлением французов. Выбравшись из подземелий во время ночи, я вышел из Москвы с моим Павлом, явился в казацкий отряд Иловайского, и, пожелав вступит в службу, был принят Волонтером. Командировка в главную квартиру армии, успех данных мне поручений и сражение при Тарутине, обратили на меня внимание, которого в сущности я был недостоин. Я был храбр во время безумия; я искал смерти: мне казалось, что только за гробом встречу я опять Лидию. О, я торопился умереть!.. Судьба хранила меня, а ты спас меня, Белосельский!
Аврелий остановился, глубоко вздохнул.
– Друг, Аврелий! – сказал Белосельский, – вздох твой, может быть, упрекает меня; но если-б я и знал твое странное желание, то и тогда бы не допустил коснуться до тебя французскому палашу, ибо на тебя не потеряли еще права свои отечество и дружба.
Продолжение разговора Аврелия с Белосельским было прервано приходом старого Павла, который во время сражения находился в вагенбурге, в нескольких верстах от поля битвы; с слезами на глазах вбежал он в комнату, бросился на колени перед постелью Аврелия и зарыдал. Слова Аврелия успокоили его; а уверения вошедшего доктора что, хотя раны Аврелия велики, требуют долгого лечения, но не опасны – прояснили лице доброго старика.






