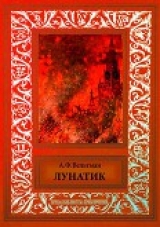
Текст книги "Лунатик
(Случай)"
Автор книги: Александр Вельтман
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 8 страниц)
VII
В небольшой пустой комнатке, освещаемой слуховым окном, лежал на полу труп женщины; около этого трупа обвились руки прекрасной девушки, которая была без чувств; уста её впились в уста умершей.
Подле стоял на коленях бледный, молодой человек; казалось, что в нем также онемели все чувства, слились понятия, помутилась память; только неподвижные взоры, устремлённые на беспамятную девушку, как будто разглядывали: – где видел я в первый раз этот ангельский образ? кто эта девушка? каким образом Москва обратилась в ад, где и сам я существую как очарованный; где сердце разрывается от полноты непонятных чувств, где душа смущена, и ни одно чувство не в силах определить: разорван или нет союз её с телом?
Казалось, что трепетными устами он произносил: «очерти меня, сила премудрости, от призраков, которые мутят мою память! Где я? кто я? что растёт в груди моей? сердце ли это? чем оно наполняется? – Любовию? страданием? страхом? жалостью? Или сжимается оно, чтоб изгнать из себе все человеческие ощущения и пролить все свои слезы?
Вдруг пламя обдало дом, заклубилось около слухового окна. Молодой человек бросился к девушке, обхватил ее, оторвал от бездушного тела и бегом пустился с лестницы, выбежал на двор. В воротах лежал новый труп. Как старый служивый, Екатерининских времен, отдыхал он после жаркого боя на поле битвы…. Очи закрыты, гордая улыбка на устах осенена густыми усами, меч в руке, смерть во всех членах.
Темная ночь лежала на Москве, озаренной пожаром; шум стихал на улицах; только изредка раздавалось там и сям: – Qui vive!
– Здесь, здесь она! – повторял молодой человек, задыхающимся голосом, пробегая то чрез мрачные, то освещаемые пожаром улицы. Он озирался вокруг себя, с боязнию, чтоб кто-нибудь не встретился и не вырвал из рук его ноши, – как Прометей, похитивший огонь небесный.
Выбравшись из глубины Москвы, задыхаясь, перескакивает он чрез вал города, ищет взорами безопасного убежища и увидев вдали уединенное здание торопится к нему.
Это церковь на кладбище.
Приблизясь к ней, окидывает смутным взором ряды крестов могильных, освещаемых огнем Москвы, опускает беспамятную девушку на насыпь, уложенную дерном, и падает подле неё бледный, как жилец гроба; но, еще, с усилием, пронимается он и берет руку девушки; кажется, хочет прислушаться к её дыханию, ожидает мгновенных вспышек огня Московского, чтоб всмотреться в лице её… хочет что-то сказать, и не может: память его теряется, чувства замирают.
Ночь темнее и темнее стелется на все предметы, а над Москвою небо разгорается снова, звезды рассыпались, млечный путь перепоясал небо…. На кладбище мирно; над могилами не носится ужас, гробы не отверзаются, тени умерших не носятся над юдолию праха.
В отдалении, на башне, раздается звук колокола, возвещающий полночь. Вдруг, под густой березой, на насыпи, раздается глубокий вздох.
– Матушка, матушка!.. – повторяет чей-то слабый, нежный голос, и снова настает могильное молчание.
– А, вот он! вот светлый пояс неба, венец бесконечности, вселенной! – раздается другой голос. – Вот – продолжает он– вот и великолепный, блистательный Сириус, средоточие мира! Это он, он, от которого луч, пробегающий в один миг более 805,900 верст, доходит до нас в 60 лет!.. Помножим же… но это ничего!.. Луч Сириуса равен горсти цифр, уставленных в ряд; а число, которое упишется на чёрте расстояния земли от Сириуса, будет равняться лучу звезды сумрачной…
Где же центр Вселенной, около которого все миры носятся как развеянный прах?
Может быть… кто знает… весь этот эфир, обнимающий вселенную, есть капля воды, населенная бесчисленностью жизней…. Может быть видимая величина есть оптический обман…. Где беспредельность, там нет и величины!..
А! чу, звонок! пора мне…. Что это значит?… руки и ноги прикованы к земле!.. Не Кавказ ли подо мною?… Боже! Я не похищал небесного огня!.. За что эти терзания сердца!..
После сих слов снова все умолкло.
Вдали, на башне, снова раздался звон колокола, повещающего одну четверть заполночь.
– Чу! звонок! – повторил тот же голос. – Иду, иду!..
Между могилами кто-то пронесся тенью и исчез в темноте.
Все умолкло.
VIII
Не спи, счастливец, пристрастный к благам земным; стереги их, бойся, чтоб во время сна твоего невидимая рука не похитила золотых твоих радостей. Не спи, если ты в состоянии плакать о своей потере.
Своенравна судьба, но непроизвольно, не безотчетно правит она твердию: есть воля и над её волею.
Древняя волшебница сдвигает горы, опрокидывает моря на землю, обдает пожаром целые страны, колеблет недра земные, носит громы от одного конца мира до другого, мечет человека из края в край, и, оставляет его, распростертого в прахе, без жизни, без памятника о существовании!
Только одна гордая мысль спасает его от унижения: одна мысль, что он живет на земле не телом, а духом; живет светом, а не тяжестию; измеряет жизнь не днями, а величиною внутренней своей силы.
На внутреннем, каменном своде башни Кутафьи (Водовзвозной) лежали и сидели в разных положениях несколько десятков человек.
По рубищам различной одежды, невозможно было распознать, что-то были за люди; только по лопаткам, ломам, заступам и ручным тележкам, можно было догадываться, что это был народ рабочий. Однако же на лицах и наружности их ярко обрисовывалось различие состояний и чувств: тут видны были слезы и смех, презрение и досада, брань и равнодушие, страдание и проклятия, и даже довольствие своей судьбою, словом, все оттенки различного понятия о своем настоящем положении.
Уже рассветало; в сквозные окна башни дул довольно резкий ветер; густой туман, напитанный удушливым чадом, скрывал наружные предметы и все обдавал холодной росою; тщетно рабочий народ, находившийся в башне, прикрывал полуобнаженность свою изношенными солдатскими шинелями, мундирами разных покроев, цветов и царств, женскими салопами, обносками халатов, кафтанов, полушубков, сюртуков, одеял, ковров, циновок, и прочею рухлядью, – ветер свистел в ущелья бедной одежды, и у иных не приходился зуб на зуб, тело дрогло от холода, душа от печали.
Но большая часть из них почитала в жизни несчастием только голод и жажду.
– Что ж они, окаянные Французы, не несут нам хлеба! Даром что ли работать на них! – вскричал статный, плечистый детина, с рыжею бородой, с сверкающими глазами, накинув на плечо полинявший синий военный плащ.
– Да, что не несут; а ты, голова, опять все себе заберешь! не дашь куска другому кому! – пробормотал сквозь зубы, сердито, другой, к которому лохмотья армяка так пристали, как будто он из них роду не выходил.
– Ну, бродяга! – продолжал первый, – есть тут получше тебя господа, да молчат!
– Молчат! Француз дворянства не разбирает: все работай, на всех ровная доля; да что ж коли нет делёжки…
– А, уж коли пошло на дележ, так все общество выбирай старосту. Вот, во временной тюрьме, я не один год был, никого не обделял – калачей ли лоток купцы принесут, говядины ли, аль красных яиц на Светлый праздник.
– Изволь, брат, мне что до других, я тебя выбираю в старосты; бери и на мою долю; лапа-то у тебя с кохтем, а у меня козья, с копытом – ничего не ухватишь.
Рыжая борода презрительно усмехнулся на слова бродяги и затянул вполголоса песню.
– Как, ваше превелебие, попали в руки французу? – спросил один пожилой человек, в фризовом горохового цвета сюртуке, соседа своего, облеченного в монашескую одежду.
– Я, государь мой, не монашествующий, не священного сана, а признательно вам сказать, я приказный Палатский служитель. За несколько, знаете, дней до Французов, прихворнул я, а 2-го сентября, в понедельник, повыздоровел не много, да и иду в Палату; смотрю, а там тьма народу! – Что, приятели, не просьбицу ли кому написать? а они: ууу! приказная строка, души его! – Я и обомлел, да в судейскую было жалобу принести; а там – Господи! – что это за время! – настольный регистр, журнал, протоколы на полу!.. Глядь, уголовные работают около казённого сундука. Батюшки, пустите душу на покаяние! а они меня бить!.. Натешились, пустили; я бегом на Никольскую… смотрю, валят Французы! я в сторону, в Греческой монастырь – думал спасусь; ан вот-те и спасенье!..
Скрип железных притворов башни перервал слова приказного служителя; общий говор также вдруг умолк; двери отворились….
– Marche! – вскричали два Французских солдата, и втолкнули молодого человека, в синем казакине, без шляпы; лицо его было бледно, глаза мутны, силы истощены.
– Еще товарищ на подмогу, – милости просим! – вскричал рыжий; но, осмотрев с ног до головы вошедшего, продолжал: „Э, да и это верно также барской крови, чай тоже целой век пылил; ну, брат, подметай теперь сам.
Двери снова заскрипели; несколько человек Французских солдат внесли корзину с хлебом.
– Viens, ronge, chiens de liasses! – вскричали они, вывалив хлеб на землю, и вышли.
Почти все вскочили, бросились толпой на корзину, с жадностию.
Только некоторые, с горьким чувством, смотрели на начавшуюся драку, и ожидали крох, которые после сильных и завистливых остаются для утоления голода слабых и добродушных.
Бывший тюремный староста, разметав в стороны всю толпу, ухватил один несколько кусков хлеба.
– Собака! жадный! – возопила толпа пустившихся снова в драку.
– Сами вы собаки! – отвечал староста, обводя взорами кругом себя, и наделяя ломтями хлеба тех, которые не смели броситься за своей долей вместе с прочими.
– Вы, бояре, – говорил он, раздавая хлеб, принимаемый как благодать, – без нашего брата умирать бы вам голодной смертью.
– Барин, барин! – раздался голос старика в фризовом сюртуке.
И он обнимал уже молодого человека и целовал его в плечо.
– Барин! нашел здесь господ! – пробормотал нищий.
– Барин, и ты здесь! – продолжал старик. – Откуда ты?
– Не спрашивай меня, Павел! я сам не знаю, что делается со мною! Не знаю, безумие, или враждующая сила, перебрасывают меня из ужаса в ужас, и дразнят каким-то очаровательным видением, которое, то является, то исчезает передо мною! которое чувствует и страдает также, как и я, плачет…. Да, Павел! я пил её слезы, я дышал её дыханием!.. я вынес ее на руках своих из пламени; я отнес ее на кладбище… похоронил ее живую в мраке ночи и неизвестности!.. а сам очутился посреди новых бед и страданий, в толпе нечестивых духов!
Скрип железных дверей башни опять раздался; общий шум перервал слова молодого человека.
– Marche! – вскричали несколько человек Французских солдат, отворив двери башни.
Все заключенные, с бранью, ропотом, смехом и проклятиями взяли в руки топоры, ломы, лопатки и заступы, и пошли вон из башни. „Marche!“ повторил солдат, вошедший в башню, толкая отставшего Аврелия и его слугу, которых, вероятно, узнали читатели.
– Пойдем, барин, – сказал старик, взяв два заступа в руки; – пойдем, я буду и за тебя работать.
Ряды солдат французских окружили толпу русских пленников и повели их по Кремлевской стене.
Не утренний дым от труб разливался по Москве; но дым от горящих там и сям зданий. Замоскворечье представляло ужасную картину; оно уже походило более на обгоревший лес, нежели на часть города, в котором некогда жил был Русский Дух.
Вся толпа по стене прошла до ближней башни, внутри которой был узкий ход, по лестнице, под стену, в подвалы. Спустились.
Принялись за работу очищать завалившийся тайник Кремлевский. Французские гренадеры, окружив работников, завели между собою разговоры, и с удивлением смотрели на некоторых пленников, которые, по Русскому обычаю– сопровождать работу песнею, – затянули Русскую песню, не заботясь ни мало о своей участи; но эта песнь нисколько не походила на горестную песнь Швейцарца; это была песнь беззаботного, нетронутого болезнию, здорового сердца, к которому не прививалась тоска.
Только некоторые из работающих молча, едва приподнимая ломы, вторили звукам песни вздохами; в этом числе был Аврелий и старый слуга его.
После песни, тюремный староста начал рассказывать свою повесть.
IX. Повесть тюремного старосты
Ну, господа, извольте слушать. Видите ли, – купецкой я сын. Уродился хорош, пригож, досуж и вежлив. Бывало– прилегайте вы кудри черные к лицу белому, румяному! привыкайте вы люди добрые к уму разуму, да к обычью молодецкому!
У отца моего была малая толика в ходу, другая товаром, а третья наличною звонкой монетой. Ассигнаций терпеть он не мог: то деньги, говаривал, что огонь и воду пройдут, как наш брат. Стукнуло мне двадцать без двух; на Ростовской ярмонке, вторую масленицу правил я как долг велит. Понатерся около смышленых на все руки; да без своего капитала плохо. Вот, как родной-то приказал долго жить, я и выдвинул все наружу, пошёл поигрывать в бильярты, да в шахматы, во все игры немецкия, да молодецкия; тут-то, братцы, винная река, по сахару текла, во изюм наливалася!
– Грустно вспомнить! промотался, знаете, опохмелиться не чем.
– Да не нищим же побираться, не подпоясывать горя лыком. А воровать Бог помиловал… нет, этого греха не приму на себя! не ела, душа чесноку, – с бою взять наше дело. Что ж делать? пришло Федулу подниматься на ходули. Думать да гадать – кинь-ко баба бобами, будет ли за нами? и придумал.
Видел я в Макарьеве француза. Жил у какого-то барина, учил детей, учил всему; а за науку брал тысячи две…. Что ж, думаю, не черти горшки обжигают, пойду я во Французы.
Прослышал я, что живёт в глуши, в деревне, Боярин, с молодой женой; а у них два баловня. Я к ним– заговорил по-тарабарски, они и рады.
Привели детей. Мальчишки лет по десятку; смотрят на меня исподлобья; а я, по-французски, потрепал их по щеке, да погладил, – старику то и по сердцу. Отвели мне теплую горницу, кормят да поят меня на убой, сама барыня за мной ухаживает; а я, знаете, по-Французски, к ручке да к ручке, – барыне то и по-сердцу. Мальчишкам напишу карякулю, да и заставлю списывать; они с места, а я их, по-Французски, за ухо, да на место, пиши!
Старик рад и жена не нарадуется.
Вот учу я деток тарабарщине; а барыня учит меня по-русски. Шалишь, думаю, барыня, ножку наколешь! День за днем; да скоро надоело, я и к расчету. Что ж, братцы, грех какой! я было за шапку, а барыня говорит: нет постой! умру без тебя! Нечего делать; вот, пришла пора, мы и со двора.
Барыня добрая, денежная, всем бы хороша, да куды с ней нашему брату? Ей то, а она своё, да в слёзы; ах ты, Господи! то тошно, то больно, то стыдно! ну уж, братцы, кто с барыней не живал, тот горя не видал, – петля, да и только! Тоска взяла. Вот приехал я в Ростов, да и был таков!
Что это, господа, подумаешь, на свете-то Божьем! Уж чем бы я не человек? так нет! – рад бы приняться за честное рукомесло; не тут-то было! нет счастья в добрых делах!
Пересчитал я нажитые французским ремеслом денежки, – пятнадцать тысяч! – поехал в Москву, накупил товару, да и пустился торговать в Новороссийский золотой край. Приехал я в Кишинёв город. Там-то живут люди! все народ турецкой; – борода в чести! что двор, то праздник, что день, то масленица; по улицам пляски да музыка. Бывало, наймешь музыкантов, возьмешь красных девушек, да и пойдешь вдоль по Булгарии.
Торговалось хорошо, а гулялось еще лучше. Жил я барин барином, да по-господски и прожился. Из сапог в лапти не дорога доброму молодцу так и мне, из боярских хором не в убогий дом! Как бы, думаю, промыслить дворянскую грамоту? а чорт шепнул на ухо; приехал, говорит, из немечины какой-то боярин, стал по соседству, нарядись Логофетом Исправничим, да потребуй его бумаги, на отметку. Я и послушался; да к нему: мусье, давай пашпорт, записать в полиции! Немец, ни слова не говоря, и отдай мне бумаги свои. Прощай, хозяюшка Голда! нет снегу, нет и следу. В ночь отправился я во путь во дороженьку; пробрался в Дубосары; иду себе горе мыкаю по Подольской губернии. Доброму молодцу, где ни стал, тут и стан; лег свернулся, встал встряхнулся. Дворянской, немецкой пашпорт есть; был Французом, буду и Немцем. Молчи, да молчи, всякой скажет, что Немец, и сам чорт не разберёт, какой поп крестил.
Припасы-то у меня повышли; приходится питаться умом, да разумом. Вот прохожу я большое селенье; вижу в стороне Шляхетской двор, – я прямо в хоромы. Сидит, важно, усатая Шляхта; я ему немецкой пашпорт в руки.
– А цо то есть? – а я ему: – У-гм, у-гм! – Догадался, что я немой.
Как вошла Панна, у меня было и язык сам заговорил. Вот как начали читать мой пашпорт, глаза на меня выставили: начитали, что я Цесарской Майор, барон, разных ордеров кавалер и богатый помещик. Смотрю – заходили за мной; угощать, да угощать: поят меня пьяным медом, а дочь так и ластится. Есть тут шашни! ну да ничего! на облупленных яйцах цыплят не высидишь. Проходит день, другой, третий; на четвертый накормили меня разными потравами, да печеньем; шляхта задушил меня венгерским; опьянел я, разгорелся добрый молодец, – смотрю, только панна сидит около меня.
Эх, братцы! как приголубится красавица, хочется сладкое слово вымолвить! да язык наш, враг наш! прижал с горя панну Эвелину к сердцу… а отец в двери, а мать за, ним, да еще несколько человек шляхты; заголосили все: – А! Пан Барон, цурку облапил![1]1
По-польски: обнял.
[Закрыть]…
– Allons, diable, travaille! – закричал французской часовой, перервав рассказ тюремного старосты и ударив его палкою.
– Ах, ты, собака, как больно дерется, а кажись в чем душа! Ну, на чем бишь я остановился?…да! вот и женили меня на панне Евелине.
– Не то, не то! ты еще не сказал, как ты присватался к ней – вскричала толпа слушателей.
– Ну, братцы, назад не вернусь. Что тут и спрашивать: как присватался? своим чередом, как водится, вошли, да и говорят: женись! призвали Ксёндза, да и вся недолга. Да не дураки верно были: написали в записи, что укрепляю за женой всю землю мою в Цесарской земле; подпиши, говорят; чего ж мне жалеть? я написал карякулю, да и прав. Ну, думаю, что ж мне теперь делать? не с женой же жить, да век молчать. Слышу, в Киеве контрактовое дело. Там-то и погулять; – да как же взять у жены деньги? Просто взять не честно; да и как рассказать ей, что хочу ехать в Киев? Ухитрился: ночью, как заснула, а я ей в ухо: ступай в Киев? да и захраплю. – Цо, то есть? менжу? – Заснёт, а я опять: ступай в Киев! Что ж, братцы, ночи не переспала: смотрю, наутро и лошади готовы. Поднялись целым домом, приехали. Вот как приехали, я и подмышку женино приданое. Прихожу в жидовский трактир. Посылаю за лошадьми, покуда привели; чорт и дерни меня по старой привычке выпить не в меру чаю с приливкой; да потом ещё: – чарочка дескать вина не море Соловецкое. Ну, захотелось сыграть во бильярты – и давай с каким-то Польским Паном на десять злотых партию. Одну продул, другую продул – забрало! а он еще окаянный поставил бутылку Шампанского, потом другую… гляжу, ау! денежки! Засадили меня отыгрываться на право на лево, потом, – подавай, говорят, проигранные пять тысяч злотых! а я – одного в ухо, другой на меня, я и того! поднялся шум, гвалт; набежала полиция, да и прибрала меня доброго молодца. Кто ты? я было и подал свой пашпорт баронской; а барона-то давно уж ищут по городу. Чорт знает, не помню, братцы, как это все произойти могло. Заснул я не к добру – проснулся– ан недолго было цветику во садике цвести! гляжу– на мне вериги. За пазухой ни денег, ни бумаг. Горе пришло! Ведут в ратушу к допросу. Я было прикинулся немым, куды-те! вся полиция голосит, что я целую ночь проговорил, да побранился по Русски. – Держали, держали меня, да и отправили в Москву, вишь будто я сонный величал себя Московским купцом. – Привезли, да и засадили во временную тюрьму. – Сначала, с непривычки, не понравилось, я было и тягу; прожил с месяц в тайниках Кремлевских. Одиножды пустилась было сова посмотреть на Божий день, – темнее ночи! а бутошник за ухо; ну, перекрестился, да и пошел на казенную квартиру. Что ж, братцы, говорить правду: уж если жить на свете без воли, так жить в тюрьме: что за народ! да народ-то все смышленой, веселой; слова даром не проронит, руки даром не протянет! Вот, выбрали меня в тюремные старосты, – знатной чин! дурака заключенные не выберут. Одно только бывало грустно, одного только не испытал, братцы: не разбойничал на Волге широком раздолье. Бывало, как засядем рядом на широкую лавицу, да запоём:
Свистнули ветры по чистому полю!
Грянули вёслы по синему морю!
– так душа вон и просится! – так бы и искупался в Волге!
Век бы мне не попасть на волю; да окаянные Французы пришли; вот и выпустили всю нашу братью беречь Москву. Верите ли, господа! горько пришло расставаться с нарами да уж верно доля такая: нигде места не пригреть. В Понедельник-то поутру, знаете ли, нас выпустили, а после обеда нагрянули со всех сторон Французы. У Тверских ворот выстроились французские полки, да и давай делать развод; а наш народ и высыпь смотреть на них: думал, что свои.
Вот выехал один, верно Генерал, в синем, шитом золотом мундире, да и говорит: Французской Император сердится, что дескать Московские обыватели не пошли к нему на поклон; кто из вас Голова, или староста? Никто нейдет, а один из наших тюремных и крикни, указывая на меня: да вот наш староста! ко мне и прицепились:
– Ступай к нашему Императору, веди с собой все купечество Московское на поклон; дворян он знать не хочет!
Что ты будешь делать! не отказываться стать; да и Французского-то Наполеона хотелось посмотреть. Вот я и выбрал, знаете, тут же, поудалее из наших.
Генерал и повел нас в дворец Петровский: – кругом все пушки, на часах усачи в высоких медвежьих шапках; – ввели нас в упокой приемной. Генеральства как собак.
Смотрим, велел позвать нас к себе. У меня и душа было дрогнула. Эх – думаю – высоко сокол залетел, выше солнца, вышне месяца!
А как вошли мы, думаю: где ж он? ах ты Господи! да видали ли вы Французского Императора? Вот и весь-то такой, а глаза как у совы! уставил на нас, да и заговорил; а я, признаться, и поклониться забыл. Заговорил он сердито, да все притопывает ногою. Ни слова, братцы, не понял я из его разговору, а нечего делать, кланяюсь, да говорю: „Понимаю, батюшка, ваше Французское Величество, понимаю! Поля хранятся огородою, а люди воеводою!“ Верно понравилось ему: – взял, да и подошёл ко мне хотел было, знаете, потрепать меня по плечу, да не в меру пришелся; какой-то, догадливой, генерал-король, за него меня хлоп по спине, да и повел нас на Пречистенку в дом Княгини Голицыной, к какому-то собаке французскому Генералу-Губернатору Лесепсу. Врут они, думаю, кто его сделал Губернатором? Уж говорил, говорил, что-то по-своему; а, знаете, какой-то господин переводит: „Ты дескать будешь городской Головой, а вот это твои помощники; на вашем ответе будет полиция; уговаривайте народ везти в Москву хлеб и припасы; а теперь покуда ступайте с командой, да привезите сюда вина, молока, да масла.“ Мы поклонились, да и пошли себе. – „Видишь, говорим, нашли себе полицейскую команду! нет, брат! Послали за нами солдат; – а мы переговорили, зашли в глухой переулок, да как свистнем во все стороны – только нас и видели.
Да не долго летал сокол по поднебесью попал он навстречу трем усатым; содрали с него лыко, да еще и в работу повели. Вот вам, братцы, и вся недолга!
Теперь, видишь, говорят, Московским Головой Петр Иванович Находкин; доставил ли то он Французскому Генерал-Губернатору яиц да молока?“
Кончив рассказ, тюремный староста оглянулся: из караульных солдат осталось в тайнике только трое; прочие расположились у выхода на чистом воздухе.
Староста затянул песню.
Под синим небом не пташка летает,
Не пташка летает, не ластовица;
По светлому по миру воля гуляет,
Волюшка воля, красная доля!
Хотите ли, братцы, с нею сопознаться?
Хотите ли, други, с нею разгуляться?
Г олову на волю – подавайте выкуп;
Душу на раздолье – подавайте плату.
Есть ли у вас выкуп – могучия плечи?
Есть ли у вас плата – острый нож булатной?
– Дивная песня братцы! – вскричал староста тюремный, кончив петь. – Выкупим же волюшку! Слушайте: ступайте все в эти двери, не бойтесь; идите все вперед да вперед по подземному ходу, покуда стукнетесь лбом в заворот; – человека три с ломами останетесь со мной разделаться вот с этими медными лбами– их тут не много; кончу дело, догоню вас и выведу на свет Божий. Ступайте! Светло-то оставьте здесь, мне оно нужнее.
С недоверчивостию, но все повиновались словам старосты; некогда было думать; а дело шло о свободе. Прошли сквозь железные двери далее под своды подземелья; на месте остался только тюремный староста и с ним трое дюжих с ломами.
В след за другими шли вдоль тайника Аврелий и старый слуга его. Сырость, душный воздух и темнота, были страшны.
Вскоре позади послышалось, что железные двери заскрипели, раздался в подземелье глухой выстрел; чрез несколько минут староста и его товарищи прибежали также с факелом.
– Теперь, братцы, воля наша, только давай Бог ноги! Отсюда недалеко есть выход в канаву, к стороне Неглинной. Смотрите же, на улице все врозь, и береги всякой сам себя; а если кому охота со мной подняться на воинские хитрости, то приходи на сборное место, под Каменный мост, по ту сторону реки. Мы поможем избить супостата Француза! Ну, вот-что, эге! вот и заворот! вот они и железные двери! нут-ко, в три лома! поотодвинем задвижку. Первой, другой! раз, два! подалась!
Заржавившая задвижка заскрипела, отодвинулась; верея взвизгнула, двери отворились.
– Ну, с Богом!
На дворе уже потемнело; на бельведере дома Пашкова отсвечивался уже пожар. Аврелий и слуга его, в след за другими, спрыгнули в ров, бывший под Кремлевскою стеною.
– Держись за меня, барин; ты так слаб, – сказал старик Аврелию, проводя его вдоль канавы.
– Нет, Павел, не слаб я! С этой минуты во мне довольно твердости, чтоб переносить все. Я забыл собственную судьбу; меня наказало Небо безумием и страшными призраками за то, что во время общей беды я думал только о своем горе. Простой мужик, злодей по сердцу, преступник, хочет быть защитником отечества, а я…
– Тс! барин, едет конница французская! чу!.. Присядем здесь, подле стены, за дерево.
Французская кавалерия пронеслась; Аврелий и слуга его пустились опять вдоль набережной и исчезли в темноте и отдалении.
В Кремле, дворец ярко освещён; золотая глава Ивана Великого, то как будто загорится, то опять потухнет. На Спасской башне колокола уныло прозвонили четверти; раздалась вестовая пушка; в разных местах забил барабан и запела пикулина вечернюю зорю, – незнакомую Русскому обывателю Москвы.






