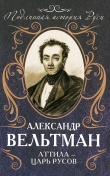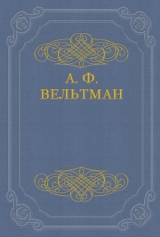
Текст книги "Романы"
Автор книги: Александр Вельтман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 34 страниц)
– Уже и в Иеросолиме сподобился быти! Уже иду ко двору! а Глебовна!.. Глебовна, сердитуя, молвит: «Чему долго был?» – Идь сама святой святыне помолитися, господню гробу приложитися, во Иордане реке искупатися, чтоб бог даровал тебе сына!.. Окаянные Обры!.. Комоня, кожух, шитый сухим златом, сорочицу, порты, все полонили, да еще в колу[107]107
Колесница, воз. (Прим. Вельтмана.) Также небесная сфера: в «Хождении Афанасия Никитина» так названо созвездие Ориона. – А. Б.
[Закрыть] впрягли, да еще травою кормили!.. притоптать бы вас горою!.. туга вам и тоска!.. Утёк! Здравие честному Урмену, в торге Романском! дал мне путь и дорогу!.. Ну, а уж Бессермены, поганые Бахмиты!.. добра еще, не урубили ухо ли, нос ли!.. резали, резали, ой, великая, небесная сила!.. да в Гарам[108]108
Гарем.
[Закрыть] заперли, с черными!.. А Русалки-то, Русалки!.. в пуху ныряют! Снег да красная заря! очи – жар! певицы, плясавицы, пыль столбом!.. Ян прервал мысли старика.
– Что ты бормочешь, Чаган?[109]109
Цыган.
[Закрыть]
Старик посмотрел на Яна.
– Не Чаган, а Крестьянин, Ходжа[110]110
Богомолец.
[Закрыть].
– Какая Ходжа?
– Иеросолимской.
– Ой? Не вынес ли малую часть от гроба господня?
– Зуб уломил! – отвечал старик. – Монисты вымолил у мниха! от туги ли, от неплодицы ли… Жене несу.
– Ай дед! кое тебе лето? – спросил, захохотав, Ян.
– Лето? Бог весть; за поморьем все лето, нет веремя.
– Али и конца животу там нет?
– Да нет; живи себе, покуда Магомет-Султан не укажет снести голову да на кол усадить. «Салмалык, салмалык, анат фема!» – только и речи.
– Страсти!
– А что, Студеница се?
– Студеница.
– Ту двор мой! – сказал старик, встал и пошел с горы, к селу.
Ян осмотрел его с ног до головы; произнес с досадою: «Брешешь! Чаган окаянный!» – и также пошел своею дорогою в деревню Яры.
Между тем на Боярский двор селения Студеницы прикатили гости в колах, телегах и верхом.
Толпы Доезжачих, Стременных, Ловчих, Псарей с заводными конями и со сворами собак охотничьих вслед за ними.
Полевая рать выстроилась в ограде, и прозвучала в берестовые рога и кованые трубы весть о прибытии на Стан.
– Тобе ся кланяем! – сказали гости Боярину Савве, поднимаясь на крыльцо, складывая арапники и затыкая их за шелковый пояс.
Отвесив гостям своим торопливый поклон, Савва Ивич бросился к сворам псов и приветствовал их как родных, как верных друзей своих, объятиями, ласками, нежными словами, душой, сердцем, радостию и всею искренностию приязни.
Не буду описывать всех тех ласк, которыми Савва Ивич осыпал гончих и борзых псов. Восторг охотника непонятен для человека, который равнодушно думает о благородном занятии своих предков. Борзая Стрелка на тоненьких ножках, с сжатыми зацепами, хорт Ласточка с перехватом, звонкая Юла с волнистою степью, Зарница с острой стерляжьей головкой и с правилом[111]111
Охотничье слово; значит – хвост пса.
[Закрыть], свернувшимся в кольцо… Это такие существа, которых не заменит ни любовь, ни дружба.
Воевода, уверенный в победе, не едет так гордо на коне своем и не смотрит так доверчиво на рать свою, как лихой охотник на скачку псов, бегущих вслед за ним.
Перегнув набок шапку, избоченясь на Угорском седле и на коне Татарском, он смотрит вдаль и охотничьим глазомером предугадывает, где зверь красный, где мелкий и где нет ничего.
Какая дисциплина во всех, движениях! Мин проглядел серого, заяц прокрался между двух зорких глаз его, бич выправляет спину Мина, вставляет ему новые глаза, дает верный прицел, снабжает его надежным вниманием, обновляет, молодит старого Мина, который несколько уже десятков лет как ходит с верою и правдою за любимыми псами своего Боярина: кормит их, голодая сам, укладывает на мягкие подстилки, страдая сам бессонницею от изломанных боков, рук и ног; скачет по рвам и пущам за зверем и, не в свою голову, бережет Боярского коня.
Великое дело были в старину война и охота!
«А се труждахся ловы дея, – говорит Владимир Мономах в своей духовной, – конь диких своима рукама связал есмь в пущах 10 и 20 живы конь. Тура мя два, метала на розех и с конем, олень мя один бол, а две лоси один ногами топтал, а другый рогами бол; вепрь ми на бедре меч оттял; медведь ми оу колена подклада оукусил, лютый зверь ко мне скочил на бедры и конь со мною поверже, и Бог неврежена мя сблюде; и с коня много падах, голову си розбих дважды, и руце и нози свои вередих, в оуности своей вередих, не блюдя живота своего, не щадя головы своея».
Золотые, богатырские времена! Что мне в этой пуховой неге, которая вас заменила!
Утерев бобряным рукавом слезы на очах своих, я обращаюсь к Савве Ивичу.
Осмотрев чужих хортов и показав своих, променяв ядро на скорлупу, он велел убирать белодубовый стол скатертями браными и подавать ествы мясные, рыбные, ковриги[112]112
Хлеб пряный. Коврига, вероятно, имела вид треугольника: «всходящи солнцю на три углы, яко коврига». (Прим. Вельтмана.) В Лаврентьевской летописи под 1230 г. читаем: «Неции видеша рано въсходящю солнцю бысть на 3 углы, яко и коврига, потом мнеи бысть, аки звезда». – А. Б.
[Закрыть] и погачи[113]113
Пресное хлебное: «В жертву приношены сему божку (Световиду) вино и погачи». По-Сербски – погача.
[Закрыть], и питья медвяные.
Вот Савва берет уже куфу[114]114
Купа – куфа, сосуд. (Прим. Вельтмана.) Куфа – действительно бочка, а произведенное от него Вельтманом слово «купа» в древнерусском языке значило: куча, кипа, группа, собрание и т. д. (ср. совокупность и др.). – А. Б.
[Закрыть] с слибовицей и сам подносит гостям: сперва новому знакомцу своему, Младеню Черногорскому, у которого два хорта ценой на вес золота, два Стременных ясных сокола, конь Арабский, покрыт червленою паволокою, а седло и узда золотом кованы.
Потом подносит он любовным приятелям своим Радану от леса, Клюдовичу с Веселого Хлёмка, Риву с Черного бора и Ляху Мниславу.
Все готовы уже садиться за стол… вдруг на дворе раздается шум и крик. Бегут к окну.
XXI
Посреди двора седой старик, окруженный челядью и холопами, отбивается длинным своим дубовым посохом, отбивается удачно.
Дубинка, как будто по щучьему веленью, а по его прошенью, работает сама, ходит вдоль и поперек по головам, по бокам, по рукам, по ногам и считает ребры.
С воплем удаляется челядь один за одним. Около старика поле чисто, и вот, очертив воздух еще несколькими волшебными кругами, он опускает свой посох, подпирается им и продолжает свой путь к хоромам Боярским.
– Радуйтеся, что на пути из Иеросолима покрали мой ятаган! Снес бы вам, поганые холопы, по голове, узнали бы, вы своего Боярина! – говорил он, поднимаясь на крыльцо, на котором уже стояли Савва Ивич и гости.
– Чего тебе, старая клюка! – вскричал Боярин грозно.
– Требен мне не ты, дубовина, а требен Боярин Родислав Глебович, да моя Глебовна!
– Чу! Боярин Савва, подавай ему Глебовну! Не сродни ли он тебе? – произнес насмешливо Клюдович с Веселого Хлёмка.
Все гости захохотали, кроме смущенного Саввы и Младеня Черногорского, который, кажется, никогда не унижал прекрасной и гордой своей наружности смехом. Иногда показывалась на лице его презрительная улыбка, и то тогда только, когда малодушие людей трогало его чувства.
Старик, не обращая ни на кого внимания, пробрался сквозь толпу гостей в светлицу.
– О, – говорил он, – будут Глебовне добрые повести от Ивы Иворовича Путы-Зарева! Где же Глебовна? И обед на столе!..
– Не с погоста ли, старень? Преди поклонись хозяину, потом проси гощенья! – сказал Лях Мнислав, показывая старику на Савву Ивича и заливаясь смехом.
Старик посмотрел на него, потом на Савву и пошел далее.
Есть предчувствие или нет? Что такое предчувствие? Не есть ли оно тайный вожатый преступника к казни, а доброго к награде?
Но по предчувствию или просто случайно, только Савва Ивич ходил за стариком, как Гридень за Князем. Все гости, кроме Младеня Черногорского, также шли вслед за ним, забавляясь и смущением хозяина, и чудным стариком, который торопливо пробегал светлицу, сени, камару, терем, внимательно все рассматривал и чего-то отыскивал взорами. Казалось, что он удивлялся какому-то беспорядку, который вынес вон все знакомые ему вещи и заменил другими.
Собралась и любопытная челядь, собрались холопы и слуги. Все толпилось вслед за ним.
Наконец старик остановился. Обратился к толпе, стукнул об пол посохом.
– Где же Боярин Люба, где Касьяновна, где Глебовна, где Татара Кара-юли, черный пес Жук, пристав Яслина, сокольничий Яруга, ловчий Мазур и вси, вси, вси? – возопил богомолец Иерусалимский.
Громкий общий смех преследовал слова его.
– Отъиде вси на суд божий, старень! – отвечал ему Клюдович. – По вечери пожелал ты утра! Утро на погосте, и Родислав Глебович на погосте, и Глебовна там, и Татара, и вси, вси, вси! Поклонись же, прославь сына Глебовны, Савву Ивича, дасть тебе, мимоходячему, и братна и питья.
– Сына? – вскричал старик. – Рода Пута-Зарева, ветви Ивиной, плоду Глебовны?
– Правдиво, правдиво! – вскричали все гости.
Старик приблизился к Савве Ивичу, осматривает его с ног до головы.
– Глебовны? – вскрикивает он наконец. – Глебовна дитя ми роди?
– Дитя ти роди? – вскричали гости. – Савва Ивич, тобе ся кланяем!
Боярин Савва Ивич стоял ни жив ни мертв, он считал старика дивом, принесенным Белым Ионом в маковнице, считал жильцом того света, пришедшим от деда и матери за ним.
К счастью его и к удивлению общему, слух о чудном старике, который, как домовин[115]115
Владетель дома, правильнее – домовит. – А. Б.
[Закрыть], распоряжается в доме Боярском, поднял с печи старую Голку, няню покойной Боярыни Глебовны. Она пробралась сквозь толпу до старика, взглянула на него и вдруг повалилась ему в ноги.
– Родной ты мой! Боярин Ива Иворович! – вскричала она. – Сподобил тебя векожизные приидти с Русалима на родину… да не узреть уж тебе Боярыни своей, кормилицы нашей Глебовны! У Бога душа!.. а дал тебе Бог красное детище, Савву Ивича!..
– Красное детище Савву Ивича? – повторил старик, обратив взоры свои на Савву Ивича, который был вдвое его выше и вдвое толще.
Но вот догадливый Савва Ивич становится пред отцом своим на колени.
И прия его Ива Иворович любовно, говорит летопись.
XXII
Таким-то образом, любезные читатели, заботилась судьба о сохранении рода Пута-Заревых в минуты самой отчаянной безнадежности на продолжение его. О, кого бережет судьба, тот не тонет и не горит, в том неистощимы силы, как золото в недрах земли, тому везде путь, дорога и добрые попутчики, везде красная погода, приют и пристань. Он оступится, летит с утеса и падает не на твердую землю, не на камень, а на пух, в объятия! Хочет любви – его любят, хочет жены – завидная невеста готова; желает иметь дитя… И во всем, во всем он предупрежден и судьбой, и добрыми людьми.
Так был охраняем судьбою Ива, так будет охранен и сын его, и внук его, и правнук, и праправнук, и пра-праправнук его.
Однако же Савве Ивичу около сорока лет; пора жениться. Он не заботится об этом.
XXIII
Высокий, правый берег Дана-Стры[116]116
Одна из вершин реки Днестра, в Галиции, до сего времени носит имя Стры; там есть и город сего же имени. Не было ли первое название Днестра – Стры или Стрый, т. е. быстрый; ибо прилагательное Дана у древних народов значило река, вода. Точно так же Днепр – Дана-Пры или Дана-Прый, не значит ли – первая река; ибо прый по древнему наречию – первый.
[Закрыть] озирал отлогий скат Понизовской земли. По реке и в протяжных долинах, впадающих в оную, лежали городища, селы и деревни; между ними расстилались бархатные луга; за лугами, по возвышенности, черный лес, за черным лесом непостоянное небо, то голубое, то синее, то ясное, то пасмурное, то грозное, со всеми причудливыми образами туч и облаков.
В одном месте, где Дана-Стры пробил себе дорогу под самым утесом крутой стороны, огромная скала, одетая по бокам частым кустарником, выдалась вперед и стояла под рекою как задумчивый паломник в темной ризе, с открытою седою головой.
За спиною этого старца лежал глубокий яр, в котором тоненькая струйка, вытекавшая из родника, пробиралась между толпами мелких камешков, переговаривала с ними, обещала им золотое дно и увлекала доверчивых на темное дно Дана-Стры.
Тропинка от самой реки обвивалась около скалы, как змея около Первосвященника Аполлонова, и выносила голову свою к самому челу ее. Тут, под гранитным навесом, была площадка, обведенная перилами. В камне были вырублены несколько келий, высоко занесенных, как гнезды хищных птиц.
Близ одной из них, на очаге, также вырубленном в камне, трещал огонек, перебираясь с ветви на ветвь сухого дерева, брошенного ему в жертву.
Подле очага сидела молодая женщина.
Вечернее солнце тихо катилось за черный лес в ожидании лучей своих, кои прокрались сквозь облака и не могли насветиться на ее красоту.
Только по слезам в очах, по белизне лица, по тихому, нежному голосу и по волнению груди можно было скоро догадаться, что это сидел не юноша, ибо мужская одежда обманула бы неопытный взгляд прохожего. Червленая капа[117]117
Круглая шапочка, род скуфейки.
[Закрыть], разузоренная золотою тесьмою, прикрывала темно-русые локоны; красная бархатная ячермица[118]118
Дочерма, или ячерма, или ячермица – род туники без рукавов.
[Закрыть] обнимала стан ее, снежная риза, с длинными широкими рукавами от самой шеи, где светилась запонка, скрывала пышную грудь и, перетягиваясь широким шелковым поясом, струилась в бесчисленных складках, до колен; синие шалвары и красные на ногах опанки[119]119
Полусапожки.
[Закрыть] заключали простой ее наряд.
Задумчива сидела молодая женщина; низала на железный прут нарезанные куски серны и пела:
Бедуе, бедуе мое сердце,
Нарекае мутно злую вестьбу!
Чи ся растомила моя Мильцу?
Солнце ли на небе темно свете;
То же солнце свете мне в оконце,
Да не та уж ласка в дружнем взоре!
Помутися, глубокая память,
Не шепчи мне про старую песню:
То не снеги ль холмы убелили?
То не стадо ль лебедей усело?
Кабы снеги, стаяли бы снеги,
Лебеди давно бы улетели;
То не снеги холмы убелили,
То не стадо лебедей усело:
Черногорский юнак[120]120
Герой, витязь.
[Закрыть], храбрый Младень,
Холм уставил белыми шатрами!
. . . . . . . . . .
Еще не успела она кончить песни своей, как вдруг в яру раздались голоса, под горою, в густоте леса показались несколько всадников. Быстро взнеслись они, один за другим, на полугорье, соскочили с коней; кони бросились под навес, устроенный под высокими деревьями, а они поднялись по тропинке до того места, где сидела женщина.
Их было семь человек, главный из них приблизился к молодой женщине.
– Мильца![121]121
Женское имя.
[Закрыть]
– Младень![122]122
Славянское мужское имя, употребляющееся у Сербов.
[Закрыть] – отвечала она и протянула к нему руку, которую он сжал в своей руке. – Была ли часть на лове?
– Властовицы не встречали!.. с горя только двух орлов снял с поднебесья!.. Утомился!.. Дай хмелю, Мильца! пищи не хочу!.. Побратими, седите!
Мильца поставила в куфах брагу и вино и на блюде жареную серну на постланный ковер на площадке.
Сбросив с себя сабли и стрелы, все уселись вкруг огромного блюда и куф, отирая с лица пот, Младень раскинулся в стороне, около перил, столкнул набок свою шапку и подставил под голову ладонь.
Он был в перепоясанном шелковом капоране[123]123
Род кафтана с рукавами.
[Закрыть], сверх коего была на нем обшитая шнурками ячерма. Все прочие так же были одеты, но гораздо проще.
Младень был прекрасен собою и молод; черные волосы клубились из-под шапки, черные глаза пылали, смуглое лицо было мрачно. Товарищи его как родные походили друг на друга: те же черные волосы, одинакий быстрый взгляд, который не знался ни с страхом, ни с нежностью, то же выражение лица, не понимавшее ни смущения, ни притворства, один голос, громкий и решительный, как приговор.
Согласуясь с мрачным расположением духа Младеня, все молчали, заботясь только о том, что стояло и лежало на столе, но Младень прервал молчание:
– Служил я службу отчине родной, Сервлии; владыки не решили правду, не размыслили моего разуму и храбрости. Пусть же им зле розлива по утробе! На поганенье не дам се!.. Далече от отчины родной служу службу ей! Из темного леса, с крутой горы, из глубокой воды, из-за черной тучи крадусь на вражьи нехристные силы и бью Хинских Татар и жадных купцов морских!.. Слушайте же, побратими!.. Внимай, Мильца! Видел я в Торговой Веже Грека, а у него дочь, девойку юну!
Мильца побледнела.
– Видел я ее! чего же вам еще, побратими?.. Слышала ли, Мильца?.. Душа добудет славу, хочет другой… так и сердце, Мильца!.. Да что же мне в том, что видел я девойку юну! Я хочу купить ее золотом или кровью!.. У Грека я купил бы дочь его, да Торговую Вежу взяли бусурманы! Прозвали Хатынью, в честь Гречанки юной; а Гречанку юну взял к себе богатырь Султанли! и любит ее!.. Побратими! отбейте ее, отдайте мне!
– Ха! – вскричали все. – Хайдуки в твоей воле, и девойка твоя!
– Твоя! – отозвалось в яру, в горах и в извилинах Дана-Стры.
Быстрою тенью пронеслась Мильца мимо всех к перилам и вдруг исчезла с площадки. Под скалою раздался шум, похожий на бег лани сквозь чащу леса, этот шум краток: рога скоро сцепятся с ветвями и остановят порыв ее.
– Мильца! – вскричал Младень.
– Мильца! – повторили все прочие Гайдуки и бросились к перилам.
– Где она?
– Под скалою!
– Под скалою! – вскричал Младень исступленным голосом. – Принесите же разбитый череп Мильцы! Я напьюсь из него!
– Любила она! – сказал один из Гайдуков.
– Не видно под скалой, верно, разбилась о деревья и скатилась в яр, – сказал другой.
– Жажда! жажда! принесите мне хоть каплю крови ее! – вскричал Младень.
Все Гайдуки бросились по тропинке вниз под скалу, обошли ее, приблизились к тому месту, где думали найти труп Мильцы.
На земле ни Мильцы, ни следов крови.
– Где ж она?
– Чи ли черный змей уел красную Мильцу?
Глухой звук стона раздался над ними. Все обратили глаза на пространный бук, стоящий над самою вершиной скалы и окруженный частым ивняком.
– А, птаха! на чужое гнездо села!
С трудом взобрались Гайдуки на крутизну.
– Тихо, братие: слетит!
– Вот она!
Дикий виноградник, как сеть зверолова, растянулся по ветвям бука, как паутина, переплел длинные свои нити, унизанные огромными листьями.
В эту-то висевшую над пропастью колыбель, как будто устроенную нарочно для принятия новорожденного, упала Мильца и лежала без памяти, как сонное дитя, опутанное пеленою.
Осторожно разорвали Гайдуки зеленые оковы ее, осторожно спустились вниз, и вскоре беспамятная Мильца лежала на ковре, перед Младенем.
– Вот она! – вскричал Младень и взял беспамятную Мильцу за руку.
Тяжкий вздох вырвался из груди Мильцы, она очнулась, взор ее остановился на Младене.
– Жива! жива Мильца! – вскричал снова Младень и обнял ее.
Радостно или тяжело это возвращение к жизни? Та же душа, обремененная горестями, остается в человеке или душа обновленная, готовая опять предаться обманчивым надеждам и снам, любви и ненависти, улыбке и горю, мелочным блаженствам и воображаемым мучениям? Та же в нем остается душа или очищенная от бремени суетных мыслей и сохранившая в себе только бессмертие?
– Мильца! – сказал Младень, успокоясь. – Мы были свободны, будем же и всегда свободны!.. Своими черными очами ты подрезала крылья мои, Мильца! но они снова оперились, хочу воли.
– Богу-милый!.. не хочу с тобою розмирья!.. Люби другую!.. но дай и мне волю! – произнесла жалобным голосом Мильца.
– Мильца!.. волю тебе?.. Чи ли хочешь в темном лесе заглохнуть? Чи ли на дно воды кануть? Чи ли на шеломяне[124]124
Вершина горы.
[Закрыть] вспеть себе конечную песню?.. Нет!.. любица моя! не дам обвить тебя змею… не увидишь разлучницы своей… горе не отвеет души твоей от тела… будешь спать на мягких постелях, под собольими покровами!.. Слышишь, Мильца?
Как жалобный голос свирели, заплакала Мильца слезами огненными.
Часть вторая
I
Слишком за четыре столетия до настоящего времени, в Княжестве Киевском, в селе Облазне, пастух Мина собирал стадо. Его берестяной рожок будил всех, начиная с сельского Тиуна до последнего ощипанного на побоищах сельского петуха.
Баушки, старушки, молодушки красные девушки и малые ребятушки зевали, протирали глаза, накидывали на себя какую-нибудь лопоть[125]125
Простонародное старое слово, означающее вообще одежду (Прим. Вельтмана.) В основном рабочую. А. Б.
[Закрыть], зипун[126]126
Зипун, зубун, жупан полукафтанье с частыми сборами, у молодых людей со схватцами (пуговицами). В употреблении и у Черкесов.
[Закрыть] или шугай[127]127
Домашняя русская женская одежда до колен, без рукавов. (Прим. Вельтмана.) Точнее, шугаем называлась короткополая женская кофта с рукавами, круглым отложным воротником, перехватом, отороченная лентами, телогрея, душегрейка. А. Б.
[Закрыть], отворяли косящатые ворота, брали в руки длинную хворостинку и выгоняли скотину на широкую долину. Там принимали ее в свое попечение добрый пастух Мина и два верные его сподвижника: Рудо, волчий враг, да Сур, хвост улиткой.
Сельское утро всегда и везде одинаково. Как заметно пробуждение всей природы, пробуждение радостное, живое! Мычанье стад, перекличка петухов, го-го гусей, ква-ква уток, лай собак, шебетанье ласточки, порханье голубя, вдали свист соловья, в высоте песнь жаворонка и тут же хлопанье бича, крик, говор, шепот, здравствованье, все слито в слово: жизнь.
Но вот в селе опять все утихло; только столпившиеся гуси и утки, кажется, советуются: с чего начать новый день.
Вот добрый пастух Мина выгнал стадо за село.
Вот взобралось оно на гору, остановилось, всматривается в отдаление, покрытое туманом, мычит друг другу вопросы: где же Днепр?., где наш водопой?..
Мина взбирается на высокую могилу[128]128
Курган, насыпанный холм.
[Закрыть]. Близ могилы тянется проезжая дорожка. Это любимое его место. Здесь разнообразие проезжающих и проходящих разнообразит его жизнь впечатлениями неясными, как все его понятие о жизни.
Мина не молод, но свеж и здоров, он не из числа тех пастухов, в которых влюблялись богини или которые влюблялись сами в себя, но Днепровская Вила[129]129
Почти то же, что Русалка.
[Закрыть] любит его, как Нимфа Эхо любила Нарцисса. Она любит его рожок, его песни, уносит звуки в ущелья, в волны, в глубину рощей и играет ими как дитя.
Мина равнодушен: он не для нее поет и играет; он прост; он не имеет понятия о восторгах.
Почти с младенчества обреченный пастушеской жизни, Мина вместе с утром является посреди стада, в полянах, на лугах, на горах, на берегу Днепра, окрест села своего и занят только своим стадом, своим рожком, своими двумя сподвижниками, своей котомкой с хлебом и с солью, своей костыгой, которою он ковыряет лапти, и – более ничем.
Молча проводит он дни свои.
Иногда только говорит он сам с собою, с Рудом и с Суром или делает строгие выговоры отстающим от стада буйным кравицам[130]130
Коровам. – А. Б.
[Закрыть].
Небо для него то же, что потолок избы, в которой проводит в глубоком сне ночь.
Солнце для него то же, что паровая лучина, освещающая его скудный ужин.
На луну смотрит он как на ясную лысину сельского Тиуна.
А на звездное небо он никогда не смотрит, потому что с захождением солнца кончаются его ежедневные жизненные заботы, и он спит крепко, спокойно, тогда как сердце или страсти заставляют других считать звезды, вопрошать их о судьбе своей и бледнеть как луна от страха и неудач.
Не участвуя ни в чем, что происходит между односельцами и соотчичами, не разделяя ни с кем ни печалей, ни радостей, ни страха, ни надежды, Мина не ведает, что кругом его происходит.
Рожденный между язычниками, поклонявшийся Пану, он не приметил даже и того, как в селе стали поклоняться истинному Богу, а кланяться Паном.
Вот однажды, раным-рано, пастух Мина засел на высокую, любимую могилу и стал пробовать свой новый рожок.
Налюбовавшись наружностью его, чисто обтянутою берестяными ленточками, он должным порядком продувает его и, отделив по три пальца с правой и с левой руки, накладывает их на продушины и играет любимую свою песню.
Далеко раздается рожок и слова. Днепровская Вила прислушивается:
I
Ох да гой-есте вы, добрые-ста люди!
Не знавали-ль-ста вы пастуха Неволю?
Ась? что? не тово?
Туру-ру, туру-ру!.. пастуха Неволю?
II
Стережет-ста, бережет свою скотину,
Выгоняет ее в поле на покормку.
Ась? что? не тово?
Туру-ру, туру-ру, в поле на покормку.
III
Без нево-ста разбрелось бы стадо
По лесу, по степи, по трясине.
Ась? что? не тово?
Туру-ру, туру-ру, по трясине.
IV
Уж как бросится хозяин-ста за стадом,
А у стада обглоданы кости!
Ась? что? не тово?
Туру-ру, туру-ру, обглоданы кости!
«О го-го-го-го-го!» – раздалось вдруг за спиною пастуха. Он оглянулся. Два всадника неслись по дороге во весь опор. Испуганное стадо разметалось в стороны.
Мина еще в младенчестве слыхал Сказку от старого пастуха Урила про древнего пастуха Мокоша.
А у того чудного пастуха Мокоша была жена Яга, и были у них двое детей, сильных и могучих богатырей, и были те богатыри, Сила да Ледь, под трубами повиты, под шлемом взлелеяны, концом копья вскормлены.
На них-то походили во всем скакавшие два всадника.
Не успел еще пастух Мина разглядеть их надлежащим образом, вдруг старшой из них наскочил на него, приставил к груди его копье булатное и заревел громким богатырским голосом:
– У у у у у!
– Помилуй, государь богатырь! – возопил Мина, упав на колени пред неизвестным храбрым и могучим богатырем.
– Помилуй его, государь Ива Олелькович! Се Мина, пастырь Боярской говяды, – проговорил приспешник богатырский.
– Ой? – произнес богатырь, умерив свой гнев, и пустился во весь опор по дороге. За ним поскакал и оруженосец.
– Злобесный волк! абы возложить ти на главу шелом берестень с еловцы[131]131
Султан, флажок на русском остроконечном шлеме. – А. Б.
[Закрыть] мочальны! – сказал Мина, смотря вслед за ними.
После сего обстоятельства жизнь пастуха Мины приняла опять обыкновенное свое течение, ничем не нарушаемое.
II
Обратимся же к тому любопытному времени, над которым вымысл тешится как ему угодно: рядит его в пеструю одежду, в кожух, в саадйк, в доспехи, в латы, нахлобучивает на голову ему красный колпак и шапку железную, осыпает его золотом, серебром, жемчугом, цветными, честными, самоцветными камнями и унизывает бисером, сажает его на комоня, или на коня, вооружает сулицами, мечами, колантырями[132]132
Безрукавный панцирь из металлических дощечек, упоминается в «Повести о Мамаевом побоище» «Русские удальцы доспехи имеют велми тверды, злаченые колантыри». А. Б.
[Закрыть], кордами, бойданами, секирами, саблями, шереширами[133]133
Перечисляя виды древнерусского вооружения, Вельтман называет и шереширы, упомянутые в качестве аллегории в «Слове в полку Игореве» «Ты бо можеши по суху живыми шереширы стреляти, удалыми сыны Глебовы». Значение этого слова до сих пор не расшифровано исследователями. А. Б.
[Закрыть], стрелами, дубинами, булавами, палицами, кистенями и т. д., и всем, всем железным, кованым, каленым, булатным, харалужным.
Предание есть свиток писания, истлевший от времени, разорванный на части, выброшенный невежеством из того высокого терема, в котором пирует настоящее поколение, и разнесенный ветрами по целому миру.
Соберите эти клочки истинны, сложите их, доберитесь до смысла, составьте что-нибудь целое, понятное… Друзья мои! это мозаическая работа, это новое здание из развалин прошедшего, но не прошедшее.
Вот вам груды камней, рассыпанных по пространству, некогда составляли они великий храм, диво разума и силы человеческой, снесите их, сложите, узнайте: который был подножием и который был кровом, оградой?..
Вы откажетесь от этой работы, вы скажете: лучше создать из этих остатков что-нибудь подобное бывшему храму, а не губить время на тщетные догадки, на напрасные изыскания, на вечные исследования.
Однако же, милые читатели, я пишу с тем, чтоб вы верили словам моим Нелегко отыскать прошедшее в настоящем, но я нашел его и имею на то убедительные доказательства
Недавно еще видели вы прелестную Мильцу на правом береге реки Дана-Стры, приходящую в чувства в объятиях Младеня.
Теперь она не в том уже положении.
Мильца сидит подле красного оконца в своем тереме. Она уже на левом берегу реки Дана-Стры.
Как ластовка рано шепчущая, поет она про себя что-то печальное.
Верно, время было худой лечец ее горю.
На руках у нее дитя. Она баюкает, лелеет его, нежит, смотрит, влюбляется в него.
Как ластовка рано шепчущая, напевает она печальную песню:
Уродилось в отца мое милое чадо!
Уродилось в сердечного, слюбного друга!
Будь же ты ему, чадо, во всем и подобно:
Он так красен собою, он силен, бесстрашен.
Будь подобно красой и душой, да не сердцем
В буйной груди его перелетная пташка.
Для чего тебе сердце без веры и правды?
Я отдам тебе сердце, материнское сердце,
Твой отец это сердце забыл и покинул!
– Хэ! Радовановна! – раздалось во дворе.
Мильца вздрогнула.
– Приехал! – произнесла она со вздохом.
– Радовановна! – повторил тот же голос.
– Расступися, сыра земля! повидь дива!
Непроходимый ловец Савва Ивич вошел в светлицу, за ним ввалили смурогая Иглица и ищейный, полазчивый Луч; а ловчий и доезжие втащили огромного волка.
– Видь, Мильца! серый, босой волк! усел в тайник. долбень в голову! – а Иглица так в ухо и вцепилась! Иглица! идь сюда, идь в закуту![134]134
Закута, псарная – жилье охотничьих собак.
[Закрыть]
Должно сказать, хоть между прочим, что Ива Иворович, отец Саввы Ивича, как говорит предание, тоя же яры, про межу говенья, в Пяток, в заутреннюю годину, в старости честне и глубоце, преставися с миром, увечав сыновче своему, единородному Савве Ивичу, душу блюсти, а жене его Мильце Радовановне тружатися рукоделием.
По завещанию Савва Ивич блюл душу свою на полеванье и в псарной закуте; а Мильца тружалась рукодельем или, сидя подле оконца с младенцем, пела, проливала слезы и смотрела на вьющуюся из села дорогу на гору, как будто кого-то ожидая.
Между тем как Савва Ивич показывал Мильце босого, затравленного им волка и отправился в закуту…
Вдруг послышался во дворе звук рога, возвещавшего приезд гостя.
Мильца торопливо выкинула голову из оконца, громко вскрикнула, бросилась к дверям… и гость был уже в ее объятьях.
По лицу ее разлился румянец, очи, как небо ясные, закрылись; по ее белой шее покатились витые, как перстни, кудри.
– Мильца!
– Младень!
– Крепко, крепко, Мильца! под сердцем у меня бьет кровавый ключ!.. жми меня, крепко!
– Младень! Смотри, смотри! – вскричала очувствовавшаяся Мильца и повела Младеня к подушке, на которой лежал младенец.
Младень, шатаясь, подошел к младенцу, взял на руки… но кровь хлынула из груди Младеня, он зашатался, положил ребенка на ложе, схватил опять Мильцу в объятия, прижал ее к сердцу.
– Мильца, Мильца!.. крепче!.. бьет кровавый ключ из сердца моего!.. Она не любит меня!.. не любит; не люблю и я ее!.. Смотри, Мильца, как ядовитая Зоя, Грекиня, ужалила меня своим железом, да не спасла себя, злая Грекиня, ножом от сердца огненного, от уст распаленных!.. Кровью за кровь!.. отмстил я… и бросил в Дана-Стры!.. Пусть обмоет в реке окровавленную, белую ризу!.. Мильца!.. Любишь ли ты еще меня?.. Я с тобой хочу умереть!..
Руки беспамятной Мильцы замерли, обвившись около Младеня.
– Мильца! ты любишь меня! – вскричал Младень.
Мильца не отвечала.
Кровь из раны Младеня струилась потоком. «Мильца!» – повторил он, сжав ее в объятьях; «Мильца!» – повторил еще слабым голосом и рухнулся с нею мертвый на землю.
– Гость? – раздался голос Саввы Ивича. – Милости прошаем!
Савва Ивич вошел в светлицу.
Видит поток крови, видит Мильцу, видит гостя; никто не отвечает на его вопросы, ни Мильца, ни гость, только вопль младенца, скатившегося с изголовья на ложе, звонок и жалок.
Ищейный пес лижет теплую кровь.
III
Новый предок Барича, героя повести, как говорит Летописец, родился в самое неблагодарное время для повествования. Время чародеев, ворожей, вещунов, звездочетов и кудесников рушилось с проявлением святой веры. А время богатырей и витязей также прошло в вечность с появлением Татар. Последние: Александр Попович и слуга его Тороп, Добрыня Рязаныч Златой Пояс и семьдесять других богатырей утонули в истоке кровавой реки, потопившей всю Русскую землю[135]135
Вельтман использует сведения «Повести о битве на Калке, и о князьях русских, и о семидесяти богатырях» из Тверской летописи. – А. Б.
[Закрыть], но это не помешает пройти нам чрез тьму, которая лежала над тем пространством, где была колыбель наших добрых праотцев Скифов.
Все возобновится!
В начале XIV столетия Русь не только бедствовала под игом злобных Тохар[136]136
Татары.
[Закрыть], как говорит Летописец, но и была омрачена облаком Еллинской мудрости. Едва только посаженное древо веры начинало увядать.
Презрение, оказываемое Татарами к обрядам св<ятой> веры, уничтожало уважение к оным и в самих Христианах. Различные толкования Священного Писания раздробили единство Церкви, явились ереси, явились совершенные вероотступничества, явились новые поклонники идолов. Одни только церковные праздники соблюдались, ибо они давали право на бездействие; но празднества и игрища приняли снова вид времен языческих.
Священники не знали над собой никакой власти; они торговали обрядами веры; крестины отлагались до свободного иерейского часа; церковные обряды свадьбы также отлагались; жених и невеста, довольствуясь согласием отца и матери, вступали в брачный союз, и очень часто иерею случалось в один и тот. же день венчать жениха и невесту и крестить у них сына или дочь; одни только покойники, не дожидаясь иерейского отпущения на тот свет, отправлялись в землю без благословения, сопровождаемые только воплями и рыданием родных и наемных плакуш. Съедаемая на могиле кутья и распиваемая Ракия[137]137
Вино из плодов и хлеба.
[Закрыть] были часто единственным обрядом погребения.