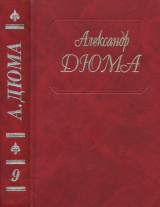
Текст книги "Виконт де Бражелон, или Еще десять лет спустя. Части 1,2"
Автор книги: Александр Дюма
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 38 страниц)
Притом же наш предусмотрительный мушкетер чувствовал, что в этом случае он останется совсем одинок: дружба Атоса не поможет. Если бы дело шло об ударах шпагой, мушкетер мог положиться на своего товарища; но д’Артаньян слишком хорошо знал Атоса и был уверен, что при щекотливых отношениях с королем можно будет все свалить на несчастный случай, который позволит оправдать Монка или Карла II, причем Атос непременно станет защищать честность и благородство оставшихся в живых и только поплачет над могилою друга, сочинив великолепную эпитафию.
"Решительно, – заключил гасконец, обдумав все это, – необходимо попасть в милость к Монку и убедиться, что он равнодушен к случившемуся. Если, Боже упаси, он все еще сердится и не забыл обиду, то я отдам свои деньги Атосу и останусь в Англии, сколько будет нужно, чтобы хорошенько изучить генерала; а потом – у меня глаз острый и ноги проворные, – если я увижу малейший признак враждебности, я убегу и спрячусь у милорда Бекингема, который кажется мне славным малым. В благодарность за гостеприимство я расскажу ему всю историю с бриллиантами. Она может повредить только репутации старой королевы, ну, а она, выйдя замуж за подлого скрягу Мазарини, сможет сознаться, что в молодости любила красавца Бекингема. Черт возьми! Монку не победить меня! Притом же у меня явилась новая мысль".
Известно, что д’Артаньян отнюдь не был беден идеями.
Во время своего монолога д’Артаньян внутренне весь собрался, словно застегнулся на все пуговицы, а ничто так не подстегивало его воображения, как эта готовность к бою, какому бы то ни было.
Весьма возбужденный, д’Артаньян вошел в дом герцога Эльбмерлского.
Его ввели к вице-королю с поспешностью, доказывавшей, что его считают своим человеком. Монк сидел в своем рабочем кабинете.
– Милорд, – сказал д’Артаньян с простодушным видом, который хитрый гасконец умел принимать в совершенстве, – я пришел просить у вас совета.
Монк, столь же собранный душевно, сколь его антагонист был собран мысленно, отвечал:
– Говорите, дорогой мой.
Лицо его казалось еще простодушнее лица д’Артаньяна.
– Милорд, прежде всего обещайте мне снисходительность и молчание.
– Обещаю все, что вам угодно. Но скажите же, в чем дело.
– Вот что, милорд: я не совсем доволен его величеством королем.
– В самом деле? Чем же именно вы недовольны, любезнейший лейтенант?
– Его величество иногда шутит очень нескромно над своими верными слугами, а шутка, милорд, – такое оружие, которое больно ранит нашу братию военных.
Монк всеми силами старался не выдать своих мыслей; но д’Артаньян следил так внимательно, что заметил на его лице едва приметную краску.
– Но я, – отвечал Монк самым естественным тоном, – отнюдь не враг шуток, любезный господин д’Артаньян. Мои солдаты скажут вам, что в лагере я частенько не без удовольствия слушал сатирические песни, которые залетали из армии Ламберта в мою. Генералу построже они бы, наверное, резали слух.
– Ах, милорд, – сказал д’Артаньян, – я знаю, что вы совершенство. Знаю, что вы выше всех человеческих слабостей. Но шутки шуткам рознь. Есть такие, что прямо бесят меня.
– Нельзя ли узнать, какие именно, дорогой мой?
– Те, которые обращены против моих друзей или против людей, уважаемых мною.
Монк слегка вздрогнул, и д’Артаньян подметил его движение.
– Каким образом, – спросил Монк, – булавка, царапающая другого, может колоть вам кожу? Ну-ка, расскажите.
– Милорд, я все объясню вам одной фразой: дело шло о вас.
Монк подошел к д’Артаньяну.
– Обо мне?
– Да, и вот чего я не мог объяснить себе. Быть может, я плохо знаю характер короля. Как у короля достает духу смеяться над человеком, оказавшим ему такие услуги? Чего ради он хочет стравить вас, льва, со мной, мухой?
– Но я совсем не вижу, чтобы он имел намерение стравить нас, – ответил Монк.
– Да, да, он хочет! Король должен был дать мне награду и мог наградить меня как солдата, не сочиняя истории с выкупом, которая задевает вас.
– Да она вовсе не задевает меня, уверяю вас, – отвечал Монк с улыбкой.
– Вы не гневаетесь на меня, понимаю. Вы меня знаете, милорд, я умею хранить тайны так крепко, что скорей могила выдаст их, чем я. Но все-таки… Понимаете, милорд?
– Нет, – упрямо отвечал Монк.
– Если кто-нибудь другой узнает тайну…
– Какую тайну?
– Ах, милорд! Эту злополучную тайну про Ньюкасл.
– А! Про миллион графа де Ла Фер?
– Нет, милорд, нет! Покушение на вашу свободу.
– Оно было превосходно исполнено, и тут не о чем говорить. Вы воин храбрый и хитрый, вы соединяете качества Фабия и Ганнибала. Вы применили к делу ваши оба качества – мужество и хитрость. Против этого тоже ничего не скажешь, я должен был позаботиться о своей защите.
– Я это знаю, милорд. Этого я и ждал от вашего беспристрастия, и если б ничего не было, кроме похищения, так черт возьми!.. Но обстоятельства этого похищения…
– Какие обстоятельства?
– Вы ведь знаете, милорд, что я имею в виду.
– Нет же, клянусь вам!
– Ах… Право, это трудно выговорить!..
– Что ж такое?
– Этот проклятый ящик!
Монк заметно покраснел.
– О, я совсем забыл про него!
– Сосновый, – продолжал д’Артаньян, – с отверстиями для носа и рта. По правде сказать, милорд, все остальное еще куда ни шло, но ящик!.. Ящик!.. Решительно, это скверная шутка!
Монк смутился. Д’Артаньян продолжал:
– Однако нет ничего удивительного, что я сделал это, я, солдат, искавший счастья. Легкомыслие моего поступка извиняется важностью предприятия, и, кроме того, я осторожен и умею молчать.
– Ах, – сказал Монк, – верьте, господин д’Артаньян, я хорошо вас знаю и ценю по заслугам.
Д’Артаньян не спускал глаз с Монка и видел, что происходило в душе генерала, пока он говорил.
– Но дело не во мне, – сказал мушкетер.
– Так в ком же? – спросил Монк, начинавший уже терять терпение.
– В короле, который не умеет молчать.
– А если он будет говорить, так что за беда? – пробормотал Монк.
– Милорд, – сказал д’Артаньян, – умоляю вас, не притворяйтесь со мной. Ведь я говорю совершенно откровенно. Вы имеете право сердиться, как бы вы ни были снисходительны. Черт возьми! Человеку, столь важному, как вы, человеку, играющему скипетрами и коронами, как фокусник шарами, не следует попадать в ящик! Понимаете ли, от этого лопнут со смеху все ваши враги, а у вас их, должно быть, не перечесть, так как вы благородны, великодушны, честны. Половина рода человеческого расхохочется, когда представит себе вас в ящике. А ведь смеяться таким образом над вторым лицом в королевстве– совсем неприлично.
Монк совершенно растерялся при мысли, что его представят лежащим в ящике. Насмешка, как и предвидел д’Артаньян, подействовала на генерала так, как никогда не действовали ни опасности войны, ни жгучее честолюбие, ни страх смерти.
"Отлично, – подумал гасконец, – я спасен, потому что он испугался".
– О, – сказал Монк, – что касается короля, то не бойтесь, любезный господин д’Артаньян. Король не станет шутить с Монком, клянусь вам!
Д’Артаньян заметил молнию, блеснувшую в его глазах и тотчас же исчезнувшую.
– Король добр и благороден, – продолжал Монк, – и не пожелает зла тому, кто сделал ему добро.
– Ну еще бы, разумеется! – воскликнул д’Артаньян. – Я совершенно согласен с вашим мнением насчет сердца короля, но только не насчет его головы: он добр, но чересчур легкомыслен.
– Король не поступит легкомысленно с Монком, будьте покойны.
– Значит, вы спокойны, милорд?
– С этой стороны – совершенно.
– Но не с моей?
– Я уже, кажется, сказал вам, что верю вашей честности и умению молчать.
– Тем лучше, но, однако, вспомните еще одно…
– Что же?
– Ведь я не один: у меня были товарищи, и еще какие!
– Да, я знаю их.
– К несчастью, и они вас знают.
– Так что же?
– А то, что они там, в Булони, ждут меня.
– И вы боитесь?
– Боюсь, что в мое отсутствие… Черт возьми! Если б я был с ними, так поручился бы за их молчание!
– Не правду ли я говорил вам, что опасность грозит не со стороны его величества, хоть он и любит шутить, а от ваших же товарищей, как вы сами признаете… Сносить насмешки короля – это еще возможно, но со стороны каких-то бездельников… Черт возьми!
– Да, понимаю, это невыносимо. Вот почему я вам и говорю: не думаете ли вы, что мне надо ехать во Францию как можно скорее?
– Если вы находите, что ваше присутствие…
– Остановит этих бездельников?.. О, я в этом уверен.
– Но ваше присутствие не помешает слухам распространяться, если они уже пущены.
– О, тайна еще не разглашена, милорд, ручаюсь вам. Во всяком случае, верьте, я твердо решился…
– На что?
– Проломить голову первому, кто заикнется о ней, и первому, кто услышит ее. Потом я вернусь в Англию искать убежища у вас и, может быть, просить службы.
– Возвращайтесь!
– К несчастью, милорд, я здесь никого не знаю, кроме вас, и если я не найду вас или вы в своем величии забудете меня…
– Послушайте, господин д’Артаньян, – отвечал Монк, – вы прелюбезный человек, чрезвычайно умный и храбрый. Вы достойны пользоваться всеми земными благами. Поезжайте со мной в Шотландию, и, клянусь вам, я так хорошо устрою вас в моем вице-королевстве, что все станут завидовать вам.
– Ах, милорд, сейчас это невозможно. Сейчас на мне лежит священная обязанность: я должен охранять вашу славу. Я должен помешать какому-нибудь глупому шутнику омрачить блеск вашего имени перед современниками, даже, быть может, перед потомством.
– Перед потомством!
– А как же! Для потомства подробности этого происшествия должны остаться тайной. Представьте себе, что эта несчастная история с сосновым ящиком разойдется по свету, – что подумают? Подумают, что вы восстановили королевскую власть не из благородных побуждений, не по собственному движению сердца, а вследствие условия, заключенного между вами обоими в Шевенингене. Сколько бы я ни рассказывал, как было все на деле, мне не поверят: скажут, что и я урвал кусочек и уписываю его.
Монк нахмурил брови.
– Слава, почести, честность! – прошептал он. – Пустые звуки!
– Туман, – прибавил д’Артаньян, – туман, сквозь который никто ясно не может видеть.
– Если так, поезжайте во Францию, любезный друг, – сказал Монк. – Поезжайте, и чтобы вам было приятнее и удобнее вернуться в Англию, примите от меня на память подарок…
"Давно бы так!" – подумал д’Артаньян.
– На берегу Клайда, – продолжал Монк, – у меня есть домик под сенью деревьев; у нас это называется коттедж. При доме несколько сот арпанов земли. Примите его от меня!
– Ах, милорд…
– Вы будете там как дома; это как раз такое убежище, о каком вы сейчас говорили.
– Как! Вы хотите обязать меня такою благодарностью! Но мне совестно!
– Нет, – сказал Монк с тонкой улыбкой, – не вы будете благодарны мне, а я вам.
Он пожал руку мушкетеру и прибавил:
– Я велю написать дарственную.
И вышел.
Д’Артаньян посмотрел ему вслед и задумался: он был тронут.
"Вот наконец, – подумал он, – честный человек. Только больно чувствовать, что он делает все это не из приязни ко мне, а из страха. О, я хочу, чтобы он полюбил меня!"
Потом, поразмыслив еще, он прошептал: "А впрочем, на что мне его любовь? Ведь он англичанин!"
И вышел, слегка утомленный этим поединком.
"Вот я и помещик, – думал он. – Но, черт возьми, как разделить этот коттедж с Планше? Разве отдать ему землю, а себе взять дом, или пусть он возьмет дом, а я возьму… Черт возьми! Монк не позволит мне подарить лавочнику дом, в котором он жил! Он слишком горд! Впрочем, к чему говорить Планше об этом? Не деньгами компании приобрел я эту усадьбу, а своим умом: стало быть, она принадлежит мне одному".
И он пошел к графу де Ла Фер.
XXXVII
КАК Д’АРТАНЬЯН УЛАДИЛ С ПАССИВОМ ОБЩЕСТВА, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАВЕСТИ СВОЙ АКТИВ
«Решительно, – признался д’Артаньян самому себе, – я в ударе. Та звезда, что светит один раз в жизни каждого человека, что светила Иову и Иру, самому несчастному из иудеев и самому бедному из греков, наконец взошла и для меня. Но на этот раз я не буду безрассуден, воспользуюсь случаем, – пора взяться за ум».
В этот вечер он весело поужинал со своим другом Атосом, ни словом не обмолвившись о полученном подарке. Но во время ужина он не удержался, чтобы не расспросить друга о посевах, уборке хлеба, о сельском хозяйстве. Атос отвечал охотно, как всегда. Он уже подумал, что д’Артаньян хочет стать помещиком, и не раз пожалел о прежнем живом нраве, об уморительных выходках своего старого приятеля. Д’Артаньян между тем на жире, застывшем в тарелке, чертил цифры и складывал какие-то весьма круглые суммы.
Вечером они получили приказ, или, лучше сказать, разрешение выехать. В то время как графу подавали бумагу, другой посланец вручил д’Артаньяну кипу документов с множеством печатей, какими обыкновенно скрепляется земельная собственность в Англии. Атос заметил, что д’Артаньян просматривает акты, утверждавшие передачу ему загородного домика генерала. Осторожный Монк или, как сказали бы другие, щедрый Монк превратил подарок в продажу и дал расписку, что получил за дом пятнадцать тысяч ливров.
Посланец уже ушел, а д’Артаньян все еще читал. Атос с улыбкой смотрел на него. Д’Артаньян, поймав его улыбку, спрятал бумаги в карман.
– Извините, – сказал Атос.
– Ничего, ничего, любезный друг! – сказал лейтенант. – Я расскажу вам…
– Нет, не говорите ничего, прошу вас. Приказы – вещь священная; получивший их не должен говорить ни слова ни брату, ни отцу. А я люблю вас более, чем брата, более всех на свете…
– За исключением Рауля?
– Я буду еще больше любить Рауля, когда характер его определится, когда он проявит себя… как вы, дорогой друг.
– Так вам, говорите, тоже дано приказание, и вы ничего не скажете мне о нем?
– Да, друг мой.
Гасконец вздохнул.
– Было время, – произнес он, – когда вы положили бы эту секретную бумагу на стол и сказали бы: "Д’Артаньян, прочтите эти каракули Портосу и Арамису".
– Правда… То было время молодости, доверчивости, благодатное время, когда нами повелевала кровь, кипевшая страстями!..
– Атос, сказать ли вам?
– Говорите, друг мой.
– Об этом упоительном времени, об этой благодатной поре, о кипевшей крови, обо всех этих прекрасных вещах я вовсе не жалею. Это то же самое, что школьные годы… Я всюду встречал глупцов, которые расхваливали это время задач, розог, краюх черствого хлеба… Странно, я никогда не любил этих вещей, и хоть я был очень деятелен, очень умерен (вы это знаете, Атос), очень прост в одежде, однако расшитый камзол Портоса нравился мне куда больше моего, поношенного, не защищавшего меня зимой от ветра, а летом от зноя. Поверьте, друг мой, мне не внушает доверия человек, предпочитающий плохое хорошему. А в прежнее время у меня все было плохое; каждый месяц на моем теле и на моем платье появлялось раной больше и оказывалось одним экю меньше в моем тощем кошельке. Из этого дрянного времени, полного треволнений, я не жалею ни о чем, ни о чем, кроме нашей дружбы… потому что у меня есть сердце, и, как ни странно, это сердце не иссушил ветер нищеты, который врывался в дыры моего плаща или в раны, нанесенные моему несчастному телу шпагами разных мастеров!..
– Не жалейте о нашей дружбе, – сказал Атос, – она умрет только вместе с нами. Дружба, собственно, составляется из воспоминаний и привычек; и если вы сейчас усомнились в моей дружбе к вам, потому что я не могу рассказать вам о поручении, с которым меня посылают во Францию…
– Я?.. Боже мой!.. Если бы вы знали, милый друг, как безразличны мне теперь все поручения в мире! – И он пощупал бумаги в своем объемистом кармане.
Атос встал из-за стола и позвал хозяина, намереваясь расплатиться.
– С тех пор как я дружу с вами, – сказал д’Артаньян, – я еще ни разу не расплачивался в трактирах. Портос платил часто, Арамис иногда, и почти всегда после десерта вынимали кошелек вы. Теперь я богат и хочу попробовать, приятно ли платить.
– Пожалуйста, – отвечал Атос, кладя кошелек в карман.
После этого друзья двинулись в порт, причем в пути д’Артаньян часто оглядывался на людей, несших дорогое его сердцу золото.
Ночь набросила темный покров на желтые воды Темзы; раздавался грохот бочек и блоков, предшествующий снятию с якоря, что столько раз заставлял биться сердца мушкетеров, когда опасность, таимая морем, была наименее грозной из всех опасностей, с какими им неминуемо предстояло встретиться. Они должны были плыть на большом корабле, ждавшем их в Грейвзенде. Карл II, всегда очень предупредительный в мелочах, прислал яхту и двенадцать солдат шотландской гвардии, чтобы отдать почести послу, отправляемому во Францию.
В полночь яхта перевезла пассажиров на корабль, а в восемь часов утра корабль доставил посла и его друга в Булонь.
Пока граф де Ла Фер с Гримо хлопотали о лошадях, чтобы отправиться прямо в Париж, д’Артаньян поспешил в гостиницу, где, согласно приказанию, должны были ждать его воины. Когда д’Артаньян вошел, они завтракали устрицами и рыбой, запивая еду ароматической водкой. Все они были навеселе, но ни один еще не потерял головы.
Радостным "ура!" встретили они своего генерала.
– Вот и я, – сказал д’Артаньян – Кампания окончена. Я привез каждому обещанную награду.
Глаза у всех заблестели.
– Бьюсь об заклад, что у самого богатого из вас нет даже и ста ливров в кармане.
– Правда, – ответили все хором.
– Господа, – сказал д’Артаньян, – вот мой последний приказ. Торговый трактат заключен благодаря тому, что нам удалось захватить первейшего знатока финансового дела в Англии. Теперь я могу сказать вам, что мы должны были схватить казначея генерала Монка.
Слово "казначей" произвело некоторое впечатление на воинов д’Артаньяна. Он заметил, что только Менвиль не вполне верит ему.
– Этого казначея, – продолжал д’Артаньян, – я привез в нейтральную страну, Голландию. Там им был подписан трактат. Затем я сам отвез казначея обратно в Ньюкасл. Он остался вполне доволен: в сосновом ящике ему было спокойно, переносили его осторожно, и я выхлопотал у него для вас награду. Вот она.
Он бросил внушительного вида мешок на скатерть. Все невольно протянули к нему руки.
– Постойте, друзья мои! – закричал д’Артаньян. – Если есть доходы, то есть и издержки!
– Ого! – пронесся гул голосов в зале.
– Мы оказались в положении, опасном для глупцов. Скажу яснее: мы находимся между виселицей и Бастилией.
– Ого! – повторил хор.
– Это нетрудно понять. Следовало объяснить генералу Монку, каким образом исчез его казначей. Для этого я подождал благоприятной минуты – восстановления короля Карла Второго, с которым мы друзья…
Армия отвечала довольными взглядами на гордый взгляд д’Артаньяна.
– Когда король был восстановлен, я возвратил Монку его казначея, правда, немного поизмятого, но все же целого и невредимого. Генерал Монк простил мне, да, он простил, но сказал следующие слова, которые я прошу вас зарубить себе на носу: "Сударь, шутка недурна, но я вообще не любитель шуток. Если когда-нибудь хоть слово вылетит (вы понимаете, господин Менвиль? – прибавил д’Артаньян), если когда-нибудь хоть слово вылетит из ваших уст или из уст ваших товарищей о том, что вы сделали, то у меня в Шотландии и в Ирландии есть семьсот сорок одна виселица: все они из дуба, окованы железом и еженедельно смазываются маслом. Я подарю каждому из вас по такой виселице, и заметьте хорошенько, господин д’Артаньян (заметьте то же и вы, любезный господин Менвиль), что у меня останется еще семьсот тридцать для моих мелких надобностей. Притом…"
– Ага! – сказало несколько голосов. – Это еще не все?
– Остается пустяк: "Господин д’Артаньян, я отправлю королю французскому указанный трактат и попрошу его посадить предварительно в Бастилию и потом переслать ко мне всех тех, кто принимал участие в этой экспедиции: король, конечно, исполнит мою просьбу".
Все вскрикнули от ужаса.
– Погодите! – продолжал д’Артаньян. – Почтенный генерал Монк забыл только одно: он не знает ваших имен, я один знаю их, а ведь я-то уж не выдам вас, вы понимаете! Зачем мне выдавать вас! И вы сами, наверное, не так глупы, чтобы доносить на себя. Не то король, чтобы не тратиться на ваше содержание и прокорм, отошлет вас в Шотландию, где стоит семьсот сорок одна виселица. Вот и все, господа. Мне нечего прибавить к тому, что я имел честь сказать вам. Надеюсь, вы меня хорошо поняли? Не так ли, господин Менвиль?
– Вполне, – отвечал Менвиль.
– Теперь о деньгах, – сказал д’Артаньян. – Закройте дверь поплотнее.
Сказав это, он развязал мешок, и со стола на пол посыпалось множество блестящих золотых экю. Каждый сделал невольное движение, чтобы подобрать их.
– Тихо! – воскликнул д’Артаньян. – Пусть никто не нагибается. Я оделю вас справедливо.
И он действительно поступил так, дав каждому пятьдесят из этих блестящих экю и получил столько же благословений, сколько роздал монет.
– Ах, – сказал он, – если бы вы могли остепениться, стать добрыми и честными гражданами…
– Трудно! – сказал один голос.
– А для чего это надо? – спросил другой.
– Для того, чтобы, снова отыскав вас, я мог при случае угостить новым подарком…
Он сделал знак Менвилю, который слушал все это с недоверчивым видом.
– Менвиль, пойдемте со мной. Прощайте, друзья мои; советую вам держать язык за зубами.
Менвиль вышел вслед за д’Артаньяном под звуки радостных восклицаний, смешанных со сладостным звоном золота в карманах.
– Менвиль, – сказал д’Артаньян, когда они оказались на улице, – вы не поверили мне, но, смотрите, не попадите впросак. Вы, кажется, не очень боитесь виселиц генерала Монка и даже Бастилии его величества короля Людовика Четырнадцатого. Но. тогда бойтесь меня. Знайте, если у вас вырвется хоть одно слово, я зарежу вас, как цыпленка. Мне дано отпущение грехов папою.
– Уверяю вас, я ровно ничего не знаю, любезный господин д’Артаньян, и вполне верю всему, что вы сказали нам.
– Я был уверен, что вы умный малый, – отвечал мушкетер. – Ведь я знаю вас уже двадцать пять лет. Вот вам еще пятьдесят золотых экю; вы видите, как я ценю вас. Получайте.
– Благодарю, – отвечал Менвиль.
– С этими деньгами вы действительно можете стать честным человеком, – сказал д’Артаньян серьезно. – Стыдно вам: ваш ум и ваше имя, которое вы не смеете носить, покрыты ржавчиной дурной жизни. Станьте порядочным человеком, Менвиль, и вы проживете год на эти экю. Денег довольно: вдвое больше офицерского жалованья. Через год приходите повидаться со мною, и – черт возьми! – я сделаю из вас что-нибудь!
Менвиль, подобно своим товарищам, поклялся, что будет нем, как могила. Однако кто-то из них все же рассказал, как было дело. Без сомнения, не те девять человек, которые боялись виселицы; да и не Менвиль; должно быть, и даже вернее всего, сам д’Артаньян; он, как гасконец, был несдержан на язык. Если не он, так кто же другой? Как объяснить, что мы знаем тайну соснового ящика с отверстиями, знаем ее так точно, что могли сообщить мельчайшие подробности? А подробности эти проливают совсем новый и неожиданный свет на главу английской истории, которую наши собратья-историки до сих пор оставляли в тени.
XXXVIII
ГЛАВА, ИЗ КОТОРОЙ ЯВСТВУЕТ,
ЧТО ФРАНЦУЗСКИЙ ЛАВОЧНИК
УЖЕ УСПЕЛ ВОССТАНОВИТЬ СВОЮ ЧЕСТЬ В СЕМНАДЦАТОМ ВЕКЕ
Рассчитавшись с товарищами и преподав им свои советы, д’Артаньян думал только о том, как бы скорее добраться до Парижа. Атос тоже торопился домой, чтобы отдохнуть. Каким бы спокойным ни остался человек после всех перипетий дороги, любой путешественник рад увидеть в конце дня, даже если день был прекрасен, что приближается ночь, неся с собою немножко отдыха. Друзья ехали из Булони в Париж рядом, но, погруженные каждый в свои мысли, беседовали о таких незначительных предметах, что мы не считаем нужным рассказывать о них читателю. Размышляя каждый о своих делах и рисуя каждый по-своему картины будущего, они погоняли коней, стараясь таким способом уменьшить расстояние до Парижа.
Атос и д’Артаньян подъехали к парижской заставе вечером, на четвертый день после отъезда из Булони.
– Куда вы поедете, любезный друг? – спросил Атос. – Я направляюсь к себе домой.
– А я к своему компаньону Планше.
– Мы увидимся?
– Да, если вы будете в Париже: ведь я остаюсь здесь.
– Нет, повидавшись с Раулем, которого я жду у себя дома, я тотчас отправлюсь в замок Ла Фер.
– Ну, так прощайте, дорогой друг.
– Нет, скажем лучше "до свидания". Почему бы не поселиться вам в Блуа, вместе со мной? Вы теперь свободны, богаты. Хотите, я куплю вам славное именьице около Шаверни или Брасье? С одной стороны у вас будут чудесные леса, которые соединяются с Шамборскими, а с другой– изумительные болота. Вы любите охоту, и, кроме того, вы поэт, любезный друг. Вы найдете там фазанов, дергачей и диких уток; я уж не говорю о закате солнца и о прогулках в лодке, которые пленили бы Нимрода или самого Аполлона. До покупки имения вы поживете в замке Ла Фер, и мы будем гонять сорок в виноградниках, как делал некогда король Людовик Тринадцатый. Это хорошее занятие для таких стариков, как мы.
Д’Артаньян взял Атоса за руки.
– Милый граф, – сказал он, – я не говорю вам ни да, ни нет. Позвольте мне остаться в Париже, пока я устрою свои дела и освоюсь с мыслью, одновременно гнетущей и восхищающей меня. Видите ли, я разбогател и, пока не привыкну к богатству, буду самым несносным существом: ведь я знаю себя. О, я еще не совсем поглупел и не хочу показаться дураком такому другу, как вы, Атос. Платье прекрасно, оно все раззолочено, но слишком ново и жмет под мышками.
Атос улыбнулся.
– Хорошо, – сказал он. – Но, кстати, по поводу этого платья, хотите, я дам вам совет?
– Очень рад.
– Вы не рассердитесь?
– Помилуйте.
– Когда богатство приходит к человеку поздно и неожиданно, он должен, чтоб не испортиться, либо стать скупым, то есть тратить немного больше того, сколько тратил прежде, либо стать мотом, то есть наделать достаточно долгов, чтобы превратиться снова в бедняка.
– Ваши слова очень похожи на софизм, любезнейший философ.
– Не думаю. Хотите стать скупым?
– Нет, нет… Я уже был скуп, когда не был богат. Надо испробовать другое.
– Так сделайтесь мотом.
– И этого не хочу, черт возьми. Долги пугают меня. Кредиторы напоминают мне чертей, которые поджаривают несчастных грешников на сковородках, а так как терпенье не главная моя добродетель, то мне всегда хочется поколотить этих чертей.
– Вы самый умный из известных мне людей, и вам советы вовсе не нужны. Глупы те, которые воображают, что могут вас научить чему-нибудь. Но мы, кажется, уже на улице Сент-Оноре?
– Да.
– Посмотрите, вон там, налево, в этом маленьком белом доме, моя квартира. Заметьте, в нем только два этажа. Первый занимаю я; второй снимает офицер, который по делам службы бывает в отсутствии месяцев восемь или девять в году. Таким образом, я здесь живу как бы в своем доме, с той разницей, что не трачусь на его содержание.
– Ах, как вы умеете устраиваться, Атос. Какая щедрость и какой порядок! Вот что хотел бы я в себе соединить. Но что поделаешь. Это дается от рождения, опыт здесь ни при чем.
– Льстец!.. Прощайте, милый друг, прощайте! Кстати, поклонитесь от меня почтеннейшему Планше. Он по-прежнему умен?
– И умен и честен. Прощайте, Атос!
Они расстались. Разговаривая, д’Артаньян не спускал глаз с лошади, которая везла в корзинах, под сеном, мешки с золотом. На колокольне Сен-Мери пробило девять часов вечера; служащие Планше запирали лавку. Под навесом на углу улицы Менял д’Артаньян остановил проводника, который вел лошадь. Подозвав одного из служащих Планше, он приказал ему стеречь не только лошадей, но и проводника. Потом он вошел к Планше, который только что отужинал и с некоторым беспокойством поглядывал на календарь: он имел привычку по вечерам зачеркивать истекший день.
В ту минуту, как Планше, по обыкновению, со вздохом вычеркивал отлетевший день, на пороге показался д’Артаньян, звеня шпорами.
– Боже мой! – вскричал Планше.
Почтенный лавочник не мог ничего больше выговорить при виде своего компаньона. Д’Артаньян стоял согнувшись, с унылым видом. Гасконец хотел подшутить над Планше.
"Господи Боже мой! – подумал лавочник, взглянув на гостя. – Как он печален!"
Мушкетер сел.
– Любезный господин д’Артаньян, – сказал Планше в страшном волнении. – Вот и вы! Здоровы ли вы?
– Да, ничего себе, – отвечал д’Артаньян со вздохом.
– Вы не ранены, надеюсь?
– Гм!
– Ах, я понимаю, – прошептал Планше, еще более встревоженный. – Экспедиция была тяжелая?
– Да.
Планше вздрогнул.
– Мне хочется пить, – жалобно сказал мушкетер, поднимая голову.
Планше бросился к шкафу и налил д’Артаньяну большой стакан вина. Д’Артаньян взглянул на бутылку и спросил:
– Что это за вино?
– Ваше любимое, сударь, – отвечал Планше, – доброе старое анжуйское винцо, которое раз чуть не отправило нас на тот свет.
– Ах, – сказал д’Артаньян с печальной улыбкой, – ах, добрый мой Планше! Придется ли мне еще когда-нибудь пить хорошее вино?
– Послушайте, – сказал Планше, бледнея и с нечеловеческим усилием превозмогая дрожь, – послушайте, я был солдатом, значит, я храбр. Не мучьте меня, любезный господин д’Артаньян: наши деньги погибли, не так ли?
Д’Артаньян помолчал несколько секунд, которые показались бедному Планше целым веком, хотя за это время он успел только повернуться на стуле.
– А если б и так, – сказал д’Артаньян, медленно кивая головою, – то что сказал бы ты мне, друг мой?
Планше из бледного стал желтым. Казалось, он проглотил язык; шея у него налилась кровью, глаза покраснели.
– Двадцать тысяч ливров! – прошептал он.—
Все-таки двадцать тысяч!
Д’Артаньян уронил голову, вытянул ноги, опустил руки: он походил на статую Безнадежности. Планше испустил вздох из самой глубины души.
– Хорошо, – сказал он, – я все понимаю. Будем мужественны. Все кончено, не так ли? Слава Богу, что вы спасли свою жизнь.
– Разумеется, жизнь кое-что значит, но все-таки я совсем разорен.
– Черт возьми! – вскричал Планше. – Если даже и разорены, то не надо отчаиваться. Вы вступите в товарищество со мною, мы станем торговать вместе и делить барыши, а когда не станет барышей, разделим миндаль, изюм и чернослив и съедим вместе последний кусочек голландского сыру.
Д’Артаньян не мог дольше скрывать правду.
– Черт возьми! – воскликнул он почти со слезами. – Ты молодчина, Планше! Но скажи, ты не притворялся? Ты не видел там, на улице, под навесом, лошадь с мешками?
– Какую лошадь? С какими мешками? – спросил Планше, сердце которого сжалось при мысли, что д’Артаньян сошел с ума.
– Черт возьми! С английскими мешками! – сказал д’Артаньян, сияя от восторга.
– Боже мой! – прошептал Планше, заметив радостный блеск в глазах своего товарища.
– Глупец! – вскричал д’Артаньян. – Ты думаешь, что я помешался. Черт возьми! Никогда еще голова моя не была такой ясной, никогда не было мне так весело. Пойдем за мешками, Планше, за мешками!








