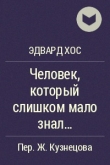Текст книги "Цецилия"
Автор книги: Александр Дюма
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 13 страниц)
XX. Переписка
Со своей стороны, видя, как скрылся за углом улицы Сент-Оноре кабриолет, увезший Генриха, Цецилия почти без чувств упала на стул.
Через десять минут постучали в дверь: это был разносчик писем, принесший ей письмо. Цецилия взглянула на адрес и узнала почерк Генриха. Она радостно вскричала, отдала рассыльному все, что было у нее в кошельке, и побежала к себе в комнату, вся дрожа от этого неожиданного счастья.
Да, счастья, потому что, когда любят той первой любовью, укрепляющей в самой глубине души те пламенные корни, которые не может потом вырвать никакая другая любовь, в это время исчезают все переходные чувства, и все есть или блаженство, или отчаяние.
Молодая девушка, вся дрожа, распечатала полученное ею письмо и, плача, смеясь, прочла следующие строки:
«Милая Цецилия, я приехал на почтовый двор в ту самую минуту, как почтовая карета трогается с места; несмотря на то, стоя на каретной подножке и вырвав страницу из своего блокнота, пишу вам эти строки.
Я вас люблю, Цецилия, как еще никогда не любило сердце смертного. Вы для меня все: здесь, на земле, – моя жена, там, на небе, – мой Ангел-хранитель, везде – моя радость, мое блаженство. Люблю! Люблю!
Карета едет, еще раз простите!»
Это было первое письмо, которое Цецилия получила от Генриха. Она прочла его, потом перечла десять раз, потом встала на колени перед распятием и стала молиться, как будто для того, чтобы поблагодарить Бога за то, что была так любима.
В тот же вечер Цецилия начала составлять узор своего платья. Ей казалось, что чем скорее она будет работать, тем скорее возвратится Генрих. Узор состоял из самых лучших цветов, рисунки которых сохранились в ее альбоме; это были друзья ее, подруги, которых она приглашала на будущее празднество своего счастья.
Время от времени Цецилия останавливалась, чтобы снова прочитать письмо.
В ту же ночь узор был окончен.
Цецилия легла, держа в руках записку Генриха, а руку положив на сердце.
Проснувшись, Цецилия некоторое время не могла собраться с мыслями; ей казалось, будто она видела во сне, что Генрих не уехал, но действительность представилась уму ее, и она, как вчера, обратилась к записке, своему единственному утешению.
День прошел тихо и скучно. Спустя пять месяцев это был единственный день, который Цецилия провела, не видавшись с Генрихом. Взяв в руки карту Франции, она следовала за ним по дороге, стараясь угадать, где он был в ту минуту, как она об нем думала.
Что касается до маркизы, то она была решительно та же, то есть беззаботная эгоистка. Так как Генрих гораздо больше был занят Цецилией, нежели ею, она о нем не жалела; однако надобно сказать, что она отдавала справедливость Генриху и любила его столько, сколько могла любить чужого ей человека.
Следствием этого было то, что у Цецилии не было никого в мире, с кем бы она могла разделить тоску отсутствия Генриха; не было ни одного ответа, ни одного слова утешения на слова ее грусти; не было сердца, которому бы она могла излить свое сердце; поэтому она, по привычке, ушла в себя; если же она очень страдала, она думала о матери и плакала или помышляла о Боге и молилась.
На следующий день, в девять часов утра, разносчик писем постучался в дверь; он принес другое письмо от Генриха. Цецилия узнала почерк и так живо выхватила письмо у него из рук, что он улыбнулся поспешности молодой девушки.
Вот в чем состояло второе письмо:
«Карета на минуту остановилась, и я пишу вам.
Я в Абевиле, в той самой комнате, где мы вместе завтракали, когда ехали в Париж. Милая Цецилия, я сел на то место, где вы сидели, может быть, на тот же самый стул и пишу вам в то время, как остальные путешественники жалуются на довольно плохой обед, продолжая есть.
С тех пор, как мы расстались, я ни на одну минуту не переставал о вас думать. Правда и то, что я еду по той же дороге, по которой ехал с вами, и, стало быть, весь полон воспоминаниями. Я узнаю всякую станцию, где останавливалась карета и я выходил, чтобы спросить у вас о вашем здоровье. Увы! Около меня нет никого, кем бы я интересовался: я сижу с двумя путешественниками, на которых я даже не взглянул и не сказал им ни одного слова.
Правда, что всю дорогу я разговариваю с вами, Цецилия; ваш голос говорит в моем сердце, и я ему отвечаю; мне кажется, что я унес с собой ваше эхо. Не оставил ли я вам чего-нибудь подобного, и нет ли хоть немного меня в вашем сердце, так как вы вся в моем?
Меня уверяют, что вы получите это письмо завтра, в девять часов утра. Цецилия, в девять часов утра подумайте обо мне, закройте глаза, вспомните Булонский берег: я буду у подошвы крутояра, на валунах, слушать это великое и могучее море, рокот которого производил на нас такое сильное впечатление, когда мы слушали его вместе. Я не говорю вам, что буду думать о вас; я повторяю: вы во мне, вы составляете часть моего существования, я люблю вас так же, как живу; кажется, всякий удар моего сердца выговаривает по слогу ваше имя.
Прощайте, Цецилия, только отсутствием измеряется сила привязанности.
Я буду писать вам из Булони, где остановлюсь только на несколько часов; чем больше я спешу удалиться от вас, тем больше ускоряю время своего возвращения.
Ваш Генрих».
Это письмо доставило много радости Цецилии; прежде всего, она не ожидала его; потом в нем заключались те вековые истины сердца, которые надобно беспрерывно повторять; наконец, оно доказывало Цецилии, что Генрих беспрерывно думает о ней, так же, как она думает о нем.
Бедняжка считала часы проходившего дня и минуты наступавшего; можно было подумать, что вся жизнь ее зависела от этого письма из Булони.
Она вышивала прелестное платье, но с ужасом замечала, что шитье ее, если следовать рисунку, займет у нее по крайней мере семь или восемь месяцев. А по самым строгим вычислениям молодых людей, Генрих должен был возвратиться через шесть месяцев. Стало быть, Цецилия опоздает.
Что касалось маркизы, то можно было подумать, что для нее не было ни пространства, ни океана, ни бурь; она говорила с той уверенностью старых людей, которые обыкновенно рассчитывают на годы, когда им едва принадлежит несколько дней.
Через день, проснувшись в пять часов утра и желая глазами ускорить ход маятника, дрожа при малейшем шуме, Цецилия в девять часов получила письмо следующего содержания:
«Я в Булони, милая Цецилия!
Я поместился в маленькой комнатке, которую вы занимали, стало быть, я опять с вами.
Я приказал позвать госпожу д'Амброн и говорил о вас.
Мы еще связаны невидимыми, но действительными связями; пока я буду видеть места, где я видал вас, мне все будет казаться, что вы подле меня; когда я оставлю Англию, чтобы отправиться в Америку, как ныне оставлю Францию, отправляясь в Англию, вы будете подле меня как ангел.
Здесь вы еще видимы для глаз моих; там вы будете видимы только моему сердцу, но где бы я ни был, я буду смотреть на небо, уверенный, что небо было прежде и будет впоследствии вашей родиной.
Мне пришли сказать, что через два часа небольшое судно отправляется в Англию; стало быть, у меня ровно столько времени, чтобы добежать до этого берега, о котором будет тройное воспоминание в моем сердце; этот берег вы видели без меня, видели вместе со мной, и я видел без вас.
Оставляю вас только письменно, милая Цецилия, и по возвращении буду продолжать это письмо.
Великая, прекрасная вещь море, когда на него смотришь с глубоким чувством в сердце! Как соответствует оно всем высоким мыслям; как в одно и то же время оно утешает и печалит; как оно возвышает от земли к небу; как оно заставляет понимать бедность человека и величие Бога!
Мне кажется, что я согласился бы навсегда остаться на этом берегу, где мы бродили вместе с вами и где мне казалось, что, поискав хорошенько, я мог бы найти следы ног ваших. Зрелище, бывшее у меня перед глазами, наполняло величием мое сердце. Я любил вас нечеловеческой любовью, я любил вас, как цветы с возвращением весны любят солнце; как море в прекрасные летние ночи любит небо.
О! В это время, Цецилия, – да простит мне Господь, если это хула гордости! – но я презирал стихии, не властные разделить нас даже посредством смерти. Как если все соединяется и сливается в природе: благоухание с благоуханием, тучи с тучами, жизнь с жизнью, почему же и смерти не соединиться со смертью, и если все оплодотворяется через соединение, почему смерть, одно из условий природы, одно из звеньев вечности, один из лучей бесконечного, почему смерть должна быть бесплодна? Бог не создал бы ее, если б она должна была служить только средством к истреблению и, разъединяя тела, не соединять души.
Итак, Цецилия, и сама смерть не могла бы разлучить нас, потому что Священное писание говорит, что Господь попрал смерть.
Итак, до свиданья, Цецилия, до свиданья, может быть, в этом мире и, наверное, в будущем.
Отчего эти мысли приходят мне нынче в голову? Не знаю. Воспоминание ли это, или предчувствие?
До свиданья, меня зовут, судно готово. Отдаю это письмо госпоже д'Амброн, которая сама отдаст его на почту.
Твой Генрих».
Прошло восемь дней, потом пришло новое письмо. Мы назвали эту главу «Переписка». Пусть же читатели позволят нам оправдать это заглавие, предложив им это, четвертое письмо.
«Вы надо мной, Цецилия; ваше дыхание движет мной; ваша звезда мне светит.
Послушайте, и вы увидите, как все нам удастся… Боже мой, это страшно! Мне лучше хотелось бы, чтобы были какие-нибудь затруднения, чтобы был враг, которого надобно превозмочь, препятствие, которое победишь. Боже мой! Неужели эти милости продлятся до конца моего странствия?
Я знал, что в Лондоне не найду уже ни госпожи де Лорд и никого из моих родных. В самом деле, все уехали, но так как я надеялся получить помощь не от родственников, которые сами слишком бедны, то их отсутствие было мне неприятно только потому, что я не имел удовольствия повидаться с ними.
Я надеялся на одного благородного и прекрасного человека, на одного служителя, мне должно бы сказать – друга нашего дома, на человека, которого вы так же любите, Цецилия, на доброго господина Дюваля.
Вы знаете, Цецилия, что у меня, как и у вас, нет никакого состояния. Поэтому я мог рассчитывать только на заем, обеспеченный моим словом. Был только один человек, к которому я желал обратиться с просьбой о подобной услуге. Этот человек был господин Дюваль.
Впрочем, я не колебался ни минуты и отправился из Парижа с этим намерением. Я ни на минуту не сомневался в его готовности помочь, я знал его.
Но вы знаете, Цецилия, или скорее вы не знаете, но догадываетесь: есть тысяча способов делать, одолжение, начиная от одолжения, которое вы требуете, до одолжения, которое вам предлагают.
Бедный господин Дюваль! Лишь только я сказал ему – я не скрывал от него ничего, Цецилия, ни любви моей к вам, ни нашего положения, ни наших надежд, которые все основывались на нем, – едва я сказал ему все, как жена его, оборотясь к нему, вскричала:
– Ну вот! Не повторяла ли я тебе двадцать раз, что они любят друг друга?
Эти благородные люди, Цецилия, думали о нас, занимались нами, и, когда мы еще не смели признаться друг другу в нашей привязанности, для них она не была уже тайной.
Тогда господин Дюваль подошел ко мне со слезами на глазах: да, Цецилия, этот прекрасный человек готов был плакать. Потом он сказал мне:
– …Любите ее, Генрих, любите ее горячо, это добрая и благородная девушка; и если б подобные нам люди осмелились поднять на нее глаза, я не желал бы другой жены моему Эдуарду.
Потом, подавая мне руку, чего он ни разу не осмелился сделать с тех пор, как я его знаю, он крепко сжал мою руку и сказал:
– Еще раз, сделайте ее счастливой. Теперь, – продолжал он, вытирая глаза и отводя меня в свой кабинет, – поговорим о деле.
Это дело обделалось скоро и не развязывая кошелька. Коммерция, понимаемая с известной точки зрения, надобно признаться, великое дело. Я всегда слыхал, что для того, чтобы получить несколько презренных тысяч франков, надобно гербовой бумаги, подписи, нотариусы, бухгалтеры и куча других принадлежностей.
Господин Дюваль взял клочок бумаги и написал:
«Честь имею известить Смита и Тёрнсена, что кредитую виконта Генриха де Сеннона в сумме пятидесяти тысяч франков».
Потом он, подписав, отдал мне бумагу, и все было кончено.
В тот же день явился я к этим господам: я объяснил им мое желание отправиться в Гваделупу с грузом. У них был корабль, готовый отправиться с грузом к Антильским островам; они спросили, какими товарами желаю торговать. Я отвечал, что, будучи совершенно незнакомым с торговлей, я прошу их переговорить об этом с Дювалем; они обещали исполнить это на следующий день.
Я возвратился к Дювалю. Есть другое место, о котором я хотел много говорить вам, милая Цецилия, и которое поэтому я желал посетить: это ваш маленький домик в Гендоне.
Я спросил у Дюваля, кому он принадлежал теперь.
Из этих-то подробностей узнаете вы сердце этого отличного человека.
Домик принадлежал ему. Понимаете ли вы, Цецилия? Из благоговения к вашей матери и к вам он купил дом вместе с мебелью, чтобы тот навсегда остался памятником земной жизни праведницы и ее Ангела. Так он называет вашу мать и вас.
Он хотел отправиться вместе со мной, но жена отговорила его.
– Виконту приятнее будет одному отправиться в Гендон, – сказала она – Останься здесь; твое присутствие только смутит его воспоминания.
В сердце женщины, в том, что касается любви, есть чувство, которое самый тонкий мужчина никогда не найдет в своем сердце.
Итак, Дюваль отдал мне ключ от загородного дома.
Там никто не бывает, даже они сами; одной вашей бывшей горничной, поступившей в услужение к госпоже, Дюваль, поручено заботиться о вашем рае.
На следующее утро я отправился, в два часа с половиной я был в Гендоне.
Я вспомнил, с каким равнодушием, можно сказать, почти с презрением я подъезжал к этому прелестному загородному дому в первый раз с госпожой де Лорд; простите меня, Цецилия, я вас еще не знал. С той минуты, как я вас увидел, как я вас узнал, маленький домик сделался для меня храмом, в котором вы были божеством.
Я говорю вам, Цецилия, никогда я не испытывал такого волнения, какое почувствовал, приближаясь к этому дому. Мне хотелось стать на колени перед дверью и поцеловать порог.
Однако я вошел, рука моя дрожала, вкладывая ключ в замочную скважину, и ноги едва держали меня, когда, толкнув дверь, я очутился в коридоре.
Прежде всего я посетил сад: в нем не было больше цветов, не было листьев, не было тени, все было печально и покинуто, как десять месяцев тому назад, когда вы его покинули.
Я сел на скамью в беседке. Ваши любимцы, птицы, пели, перескакивая по обнаженным веткам. Эти птицы, вы их видали, Цецилия; песни, которые они пели, вы их слыхали.
Я продолжал их слушать, глядя на ваше окошко, которое было заперто, всякую минуту ожидая, что вы явитесь за стеклами, потому что, как я вам сказал, все осталось точно так же, как было при вас.
Потом я вошел по маленькой витой лестнице в комнату вашей матери. Я стал на колени перед тем местом, где стояло распятие, и молился за нас.
Потом я отворил дверь вашей комнаты. Не подумайте, Цецилия, я даже не входил туда; я ко всему сохранил уважение.
Наконец я оторвался от этого маленького домика, где я оставлял столько моей прошлой жизни, и пошел посетить место, которое было всех святее. Вы догадываетесь, Цецилия, что я хочу говорить о. могиле вашей матери.
Как в вашем саду, как в вашей комнате, наконец, как везде, видно, что тут прошла рука друга: весной, должно быть, здесь были цветы, и по их завянувшим стеблям, по их высохшим листьям я думал, что это те же цветы, какие были у вас в саду. Я сорвал несколько листьев розы и гелиотропа, эти растения лучше других перенесли суровость зимы, и посылаю вам их. Вы найдете их в этом письме. Я едва смею сказать вам, что, будучи уверен, что вы поднесете их к устам вашим, я запечатлел на каждом листочке по поцелую.
Пора было ехать. Пять или шесть часов прошли в этом странствии. Вечером мне было назначено свидание у Дюваля со Смитом и Тёрнсеном. В восемь часов я возвратился.
Эти господа явились со строгой, коммерческой аккуратностью; они хорошо знают моего дядю, который чрезвычайно богат, как кажется, и, исключая некоторые странности, как они говорят, прекрасный человек.
Вечером все было устроено; в гавани стоит прекрасный бриг, вполне нагруженный; владелец брига – друг этих господ; он дает мне часть в пятьдесят тысяч франков в своем товаре и, видите ли, милая Цецилия, как я говорил вам, какое странное счастье меня преследует, это судно выходит в море завтра!
Ах! Забыл сказать вам… мой корабль называется «Аннабель»; это имя почти так же хорошо, как Цецилия!
Я расстаюсь с вами до завтра: завтра, в минуту отъезда, велю отнести это письмо на почту.
11 часов утра.
Все утро, милая Цецилия, я был занят приготовлениями к отъезду; по счастью, в этом путешествии все относится к вам, и, стало быть, ничто ни на минуту не отвлекает от вас моих мыслей.
Погода невероятно хороша для осеннего дня. Дюваль и Эдуард здесь; госпожа Дюваль прислала мне с мужем и сыном пожелания счастья; и тот и другой проводят меня до борта корабля.
Кажется, вчера это доброе семейство получило радостное известие; я, кажется, отгадываю, что Эдуард был женихом одной девушки, к которой имел только братские чувства, и между тем любил другую. Но господни и госпожа Дюваль, связанные обещанием, не соглашались на его брак, пока не будут освобождены от данного прежде обещания. Весть о том, что они свободны, как я уже сказал, пришла к ним вчера или третьего дня, так что, по всей вероятности, Эдуард через несколько времени женится на той, которую любит.
Полдень, на палубе «Аннабель».
Как видите, милая Цецилия, я еще раз был принужден расстаться с вами. Я не мог оставить Эдуарда с отцом и не поговорить с ними. Знаете ли, оба покинули свою контору, чтобы проводить меня. Верно, для короля Георга они сделали бы не больше.
Маленький бриг кажется мне точно достойным своего имени; это род пакетбота, построенного и для перевозки пассажиров, и для торговли, на котором, что редко случается, людьми занимаются почти столько же, сколько товарами. Капитан ирландец, по имени Джон Дикинс. Он отвел мне прекрасную каюту, № 5. Заметьте, это номер дома, в котором вы живете.
Ах! Вот я не могу больше писать вам, корабль начинает выход в морс, снимается с якоря, происходит большая беготня, которая мешает мне продолжать.
Так до свиданья, милая Цецилия, или, лучше, прощайте, потому что для меня слово «прощай» не имеет того значения, которое придают ему; так прощайте, да будет милость Божия над вами.
Мы отправляемся под самыми лучшими предзнаменованиями, все предсказывают нам счастливый путь. Цецилия, Цецилия, мне очень хотелось быть твердым, очень хотелось бы придать вам своей твердости, но мне невозможно притворяться перед вами в стоицизме. Цецилия, мне очень тяжело вас покинуть; в Булони я покинул только Францию, уезжая из Лондона, я покидаю Европу.
Прощайте, Цецилия, прощайте, моя любовь, прощайте, мой добрый гений, молитесь за меня, я надеюсь только, на ваши молитвы; пишу к вам до последней минуты, по вот просят господина Дюваля и его сына сойти в шлюпку, я один задерживаю отплытие. Еще одно слово, и я складываю письмо: я вас люблю, прощайте, Цецилия! Цецилия, прощайте.
Прощайте.
Ваш Генрих».
XXI. Гваделупский дядюшка
Цецилия получила это письмо спустя четыре дня после того, как оно было написано; уже прошло два дня, как Генрих потерял из виду берега Франции и Англии.
Легко понять двоякое впечатление, произведенное сим письмом на бедную девушку. Посещение Генрихом загородного дома и могилы напоминало ей все ее прежние радости и печали. Отъезд Генриха, который он откладывал сколько мог и которого последние волнения выражались в письмах молодого человека, напоминал ей все ее будущие опасения и надежды.
В этот час Генрих плыл между небом и землей. Она упала на колени, окончив чтение его письма, и долго молилась за него Богу.
Потом она подумала о других обстоятельствах, находившихся в его письме, об этом добром семействе Дювалей, у которого Генрих просил помощи, не зная, что эта женщина, в любви к которой он признался, должна была быть женой Эдуарда – Эдуарда, который, нося в сердце другую страсть, невольник обещания, данного его родителями, сдержал бы его с такой же точностью, с какой негоциант платит по векселю, хотя бы эта уплата сделала его несчастным.
Тогда Цецилия кинулась к своему пюпитру и в порыве сердечного излияния написала госпоже Дюваль длинное письмо, в котором открывала ей душу свою и называла ее матерью. Прекрасная натура Цецилии была так способна чувствовать все благородное и великое!
Потом она возвратилась к своему подвенечному платью, своему главному занятию, главному развлечению свойственному счастью. Маркиза продолжала спать, по своему обыкновению, оставаясь по целым утрам в постели, читая или заставляя читать себе романы. Цецилия видела ее только в два часа, во время завтрака; между этими двумя женщинами была целая пропасть: одна была вся духовная, другая – вся чувственная. Одна судила обо всем сердцем, другая рассматривала все с точки зрения рассудка.
Что касалось Аспазии, Цецилия чувствовала к ней тайное отвращение; так что для того, чтобы не прибегать к ее помощи, в которой, может быть, та ей отказала бы, она условилась с одной доброй женщиной, жившей на чердаке того же дома и называвшейся госпожой Дюбре. Она всякий день сходила прислуживать бедной девушке.
Как мы уже сказали, маркиза сохранила сношения с некоторыми прежними друзьями. Эти друзья навещали ее время от времени в ее скромном жилище, в свою очередь приглашая ее к себе и предлагая располагать их экипажем, но маркиза стыдилась своей бедности. К тому же недостаток движения, к которому она привыкла в течение почти тридцати лет, сделал ее тучной: она была весьма толста, и всякая перемена места была для нее тягостна.
А потому она проводила жизнь в своей комнате, так же как Цецилия в своей.
Бедная девушка целый день мысленно или по карте следила за смелым кораблем, несшимся в другую часть света. Она поняла, что должно пройти по крайней мере три месяца, прежде нежели она сможет получить письмо от Генриха. А потому она не ожидала его, что, однако, не помешало ей вздрагивать всякий раз, как стучались в дверь. Тогда на минуту иголка дрожала между ее пальцами, потом являлся тот, кто стучался; ему обыкновенно и дела не было до Генриха, и Цецилия, вздыхая, опять принималась за работу.
Эта работа была чудом терпения, искусства и вкуса; это было не простое шитье – это было шитье гладью. Все эти цветы, хотя бледные, как те, из которых делают венки девушкам, которых ведут к алтарю или которых готовят к могиле, были живы и одушевленны. Каждый из них напоминал Цецилии какое-нибудь обстоятельство ее детского возраста, и, вышивая его, она говорила ему о том времени, когда жила она сама, эфемерное создание эфемерного солнца Лондона.
Однажды утром, когда Цецилия, по обыкновению, вышивала, постучались в дверь, но на этот раз она вздрогнула сильнее, нежели обыкновенно: ей послышалось, что звонит разносчик писем. Она сама побежала отпереть ему; то был он, и подал ей письмо. Она радостно вскрикнула. Адрес был написан рукой Генриха. Она взглянула на штемпель – штемпель был из Гавра.
Она едва не упала в обморок. Что с ним случилось? Как, едва прошло шесть недель после его отъезда, а она уже получает от него письмо из Гавра? Разве он возвратился во Францию?
Она держала письмо в руке и, вся трепеща, не смела распечатать его.
Она заметила, что разносчик стоит и дожидается; она расплатилась с ним и побежала в свою комнату.
Как ей нравилось улыбающееся лицо этого человека!
Она распечатала письмо; вместо числа, на нем было проставлено: на море.
Генрих нашел случай писать к ней; вот и все.
Она прочла следующее:
«Милая Цецилия!
Ваши молитвы, право, приносят мне счастье: вот, против всякого ожидания, я нахожу случай сказать вам, что люблю вас.
Нынче утром сторожевой матрос закричал: «Парус!» Так как, по случаю войны все настороже, то капитан и пассажиры вышли на палубу. Но через несколько минут узнали, что корабль был купеческий; мало того, он поворотил на нас по ветру, делая отчаянные сигналы.
Не ждите же великого события, очень печального и весьма драматического. Нет, милая Цецилия, Богу не угодно было, чтобы ваше доброе сердце могло горевать об участи тех, которые везут к вам это письмо. Французский корабль, шедший из Гавра, был задержан, спустя несколько дней после своего отплытия из Нью-Йорка, тишью, продолжавшейся три недели, и опасался, что ему недостанет воды, прежде чем он достигнет Франции. Капитан послал ему дюжину бочонков воды, а я сел писать к вам, Цецилия, чтоб еще раз сказать вам, что я вас люблю, что думаю о вас ежечасно, днем и ночью, и что вы беспрестанно со мной, вокруг меня, во мне.
Знаете ли, о чем я думаю, Цецилия, смотря на эти два корабля, стоящие в ста шагах друг от друга, из которых один плывет к Пуант-а-Питру, а другой – в Гавр? Я думаю о том, что если б на одной из шлюпок, которые снуют между ними, я перешел с одного на другой, то в пятнадцать дней я был бы в Гавре, а через полтора дня потом у ваших ног.
И стоит только пожелать. Я бы опять увидел, увидел вас, Цецилия. Помните ли вы? Только это было бы, как говорится, глупостью и погубило бы пас.
О, Боже! Как мы не нашли какого-нибудь средства позаботиться о будущем, которое не отдаляло бы меня от вас? Мне кажется, что, ободряемый вашим словом, вашим взглядом, я успел бы во всем, что предпринял. Вы видите, Цецилия, что, осеняемый вами, я успеваю во всем, будучи даже вдали от вас.
О! Повторяю вам: это странное счастье пугает меня; боюсь, уж не покинули ли мы землю, Цецилия, и уж не на дороге ли мы оба к небу.
Простите за мои печальные предвещания, но человек на земле так мало создан для счастья, что на дне каждой из его радостей лежит сомнение, мешающее этой радости сделаться совершенным счастьем.
Знаете ли, как я провожу целые дни, Цецилия? Пишу к вам. Я привезу вам длинный дневник, где вы найдете все мои мысли, час за часом. Вы также увидите из него, что духом я ни на минуту от вас не удалялся.
Когда настанет ночь, так как на корабле запрещено иметь огонь, я выхожу на палубу, смотрю на великолепное зрелище заходящего в море солнца; слежу за звездами, которые одна за другой зажигаются на небе, и, странное дело, благодарность и благоговение к Богу погружает меня в грусть, потому что я спрашиваю самого себя, неужели Бог, двигающий всеми этими мирами, провидящий об этом вечном целом, заботится и о каждом человеке, простирающем к нему руки?
В самом деле, что значат для всемогущества и величия Божия эти мелочи нашей бедной жизни; что значат для него, великого, единого, счастливые или несчастные события нашего существования; что значит для этого великого жнеца, что несколько колосьев, в одном из миллиона полей его, называемых мирами, сломано градом или вырвано с корнем бурей?
Боже мой! Боже мой! Что, если ты не слышишь меня, когда я к тебе взываю, не слышишь меня, когда я умоляю тебя возвратить меня Цецилии, которая меня ожидает!
И вот, милая Цецилия, какие мысли приходят мне в голову. Каким-то случаем каждое письмо мое, вместо того, чтобы придать вам твердость, приносит вам только отчаяние? Простите, простите меня.
На корабле у меня появился друг: это кормчий. Бедняжка! И он также оставил в Грезенде любимую женщину. Потому, как он смотрел, вздыхая, на небо, я угадал, что мы братья по несчастью. Мало-помалу я с ним сблизился; он говорил мне о своей милой Женни. А я, Цецилия, простите меня, я говорил ему о вас.
Теперь со мной есть человек, которому я могу говорить ваше имя, говорить, что я вас люблю, теперь со мной есть сердце, которое понимает мое сердце!
Сердце матроса? – возразят мне. Несчастны те, которые это скажут!
«Этот добрый молодой человек, с которым я каждую ночь говорю о вас, зовется Самуэль.
Я хочу, чтобы и вы знали его имя.
Помолитесь за него в ваших молитвах, чтобы и он увидел свою Женни. Я обещал ему, что вы это сделаете.
Прощайте, Цецилия, прощайте, любовь моя! Шлюпка с французского корабля отплывает назад, к своему судну. Отдаю это письмо шкиперу, который обещает мне честным словом, что сам отдаст его на почту по прибытии в Гавр. Еще раз прощайте, моя Цецилия; в двадцать или двадцать пять дней, если погода так же будет нам благоприятствовать, я буду в Гваделупе.
В тысячный раз – прощайте. Люблю вас.
Ваш Генрих.
P.S. Не забудьте в ваших молитвах Самуэля и Женни».
Невозможно передать читателям, какое глубокое впечатление произвело это письмо на Цецилию, это впечатление было тем сильнее, что письмо было неожиданно. Цецилия упала на колени с полными слез благодарности глазами. Она не молилась, она бормотала имена, и в числе этих имен, как просил ее Генрих, были имена Самуэля и Женни.
Потом, бодрее и увереннее, нежели когда-либо, она принялась за свое подвенечное платье.
Дни проходили за днями, с правильным однообразием, ничего не принося нового. Это неожиданное письмо, это счастливое письмо дало Цецилии надежду, что какое-нибудь происшествие, вроде первого, доставит ей известие о ее женихе; но, как сказал Генрих, это происшествие было ничем другим, как только счастливой случайностью, на повторение которой нельзя было надеяться.
Между тем совершились великие события: республика стала империей; Бонапарте сделался Наполеоном, устрашенная Европа, при этом странном зрелище даже не протестовала; все, казалось, предвещало долгую будущность царствовавшей династии; те, которые окружали новых избранников, были богаты, роскошны, счастливы. Когда изредка перед окнами Цецилии проходили эти блестящие воины и это великолепное дворянство, частью восстановленное, частью вновь созданное, она говорила сама себе со вздохом: «Вот чем был бы Генрих, вот чем была бы и я, если б мы последовали за ходом событий». Но вдруг она вспоминала о свежей еще крови, пролитой в Венсенских окопах, и с новым вздохом отвечала сама себе: «Совесть нельзя обмануть, мы хорошо сделали».
Прошел еще месяц. Цецилия начала ждать с большим нетерпением; потом прошла еще неделя, еще четыре дня, каждый день длиннее другого; наконец, на пятый день утром, раздался звонок, давно ожидаемый и столь знакомый. Цецилия бросилась к дверям: то было письмо от Генриха.
Предлагаем читателям это новое письмо.
«Милая Цецилия.
Прежде всего – мы так же счастливы, как и прежде. Я прибыл в Гваделупу после довольно долгого переезда, но который затруднило только безветрие, а не бури. Я увидел дядю, прекраснейшего и благороднейшего человека на свете, который так рад был тому, что я, как он говорил, перешел в их полк, что в ту же минуту объявил, что я могу считать себя его наследником.