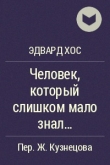Текст книги "Цецилия"
Автор книги: Александр Дюма
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 13 страниц)
XXIII. Несчастья идут толпой
Когда она пришла в себя, Аспазия давала ей нюхать спирт. Крик бедняжки был услышан даже в комнате маркизы, которая послала свою служанку узнать, что случилось.
Через минуту маркиза, видя, что Аспазия не возвращается, отправилась сама.
Несмотря на недостаток сочувствия между этими двумя женщинами, Цецилия бросилась в объятия своей бабушки и показала ей ужасный протокол, которого оледеняющее чтение разом положило конец всем ее мечтам, всем надеждам.
Протокол – это была сама смерть, холодная, безжалостная, неумолимая, смерть без всяких предостережений, коими сопровождают ее благость Бога и предусмотрительность друга.
И Цецилия постоянно могла произносить одно только слово: «умер! умер! умер!»…
Что касалось до маркизы, она была поражена: она с первого взгляда увидела все, что эта катастрофа заключала в себе ужасного для нее и для внучки.
Все надежды покоя, довольства и роскоши в будущем основывались на Генрихе Сенноне. Письмо, которое он писал за восемь дней до своего отправления из Гваделупы и в котором он описывал своей невесте, как велико его состояние, послужило основанием для вычислений маркизы. Теперь все было кончено; Генрих умер, бриллианты были проданы, все средства несчастного семейства истощены, и им не оставалось ничего, решительно ничего, особенно в глазах маркизы, потому что она не знала, что уже четыре или пять месяцев все жили только трудами Цецилии. Это заметила только Аспазия и потому два или три раза уже изъявляла маркизе желание удалиться в деревню на том основании, что расстроенное здоровье ее требует отдохновения.
Поэтому горесть маркизы была больше, нежели предполагала Цецилия; Цецилия не могла прочесть в глубине души своей бабушки истинную причину этой горести.
Это было счастьем для бедняжки, потому что при виде, что бабушка готова упасть, к ней возвратились силы для того, чтобы поддержать ее. Маркиза встала с постели в пеньюаре; ее отвели назад в комнату, где она опять легла в постель.
Цецилии недостаточно было этого холодного объявления о смерти ее жениха. Она хотела знать подробности, знать, каким образом дошло до нее это письмо. Короче, бедняжка, как несчастный, пораженный нежданным ударом, еще сомневалась; ей нужно было иметь уверенность в своем несчастье.
На письме был штемпель Морского министерства. Ей, естественно, пришла в голову мысль обратиться туда за нужными для нее сведениями. Она поручила бабушку попечениям Аспазии, накинула вуаль, взяла роковое письмо, вложила его в конверт, вышла, бросилась в фиакр и приказала везти себя в Морское министерство.
Подъехав к подъезду, она показала свой пакет швейцару и спросила его, из какого стола это письмо, он отвечал, что оно из секретариата.
Цецилия вошла в секретариат и спросила чиновника, который послал это письмо.
Он еще не приходил; она подождала.
Наконец он пришел; странное дело – с тех пор как она пришла в себя, Цецилия не проронила ни слезинки.
Чиновник объяснил ей, что протокол прислан из Плимута, где «Аннабель», по возвращении из Гваделупы, бросила якорь; что при нем прислано было только следующее известие:
«Так как виконт Карл-Генрих де Сеннон, умерший на корабле «Аннабель» 28-го марта 1805 года, сколько известно, не имел родственников в Англии, то мы просим французское правительство объявить о его смерти девице Цецилии де Марсильи, о которой он часто говорил лоцману Самуэлю как о своей невесте. По всей вероятности, девица Цецилия де Марсильи находится во Франции.
При сем прилагается протокол, удостоверяющий в действительности смерть Карла-Генриха де Сеннона».
С разбитым сердцем, но без слез выслушала Цецилия все эти подробности; можно было сказать, что источник слез ее иссяк или что слезы ее лились в душе.
Она спросила только, не могут ли ей сказать, куда было отвезено тело.
Чиновник отвечал ей, что когда на корабле умирает пассажир или матрос, то тело его просто бросают в море.
Тут перед Цецилией, как сквозь молнию, блеснул этот великий, шумный и ревущий океан, который омывал ее ноги в то время, как она под руку с Генрихом гуляла в Булони, по прибрежью.
Она поблагодарила чиновника за его сведения и вышла.
Теперь для Цецилии все объяснилось: во все продолжительное время, прошедшее со времени смерти Генриха и проведенное ею в ожидании; отыскивали место ее жительства; эти розыски производились как обычно производятся розыски, в которых не принимают участия; известие о смерти Генриха было напечатано в журналах, но Цецилия не читала журналов; наконец как-то вздумали собрать рассыльных и спросить их, тогда один из них объявил, что восемнадцать месяцев тому он относил письма к одной девице Марсильи, жившей в улице де Кок, в доме под № 5.
Цецилия возвратилась домой, вошла на свой пятый этаж и собиралась позвонить, когда заметила, что дверь открыта; она отворила дверь и, думая, что Аспазия вышла к кому-нибудь из соседей, оставила дверь по-прежнему незапертой.
Первой заботой ее было пойти к маркизе; маркиза лежала, положив голову на подушки, и спала.
Цецилия вошла в свою комнату.
Она прямо подошла к бюро, заключавшему все ее сокровища, то есть письма Генриха.
В числе этих писем она нашла то, которое он писал ей из Булони, и опять прочла следующие строки.
«Великая, прекрасная вещь море, когда на него смотришь с глубоким чувством в сердце! Как соответствует оно всем высоким мыслям; как в одно и то же время оно утешает и печалит; как оно возвышает от земли к небу; как оно заставляет понимать малость человека и величие Бога!
Мне кажется, что я согласился бы навсегда остаться на этом берегу, где мы бродили вместе с вами и где, мне казалось, что, поискав хорошенько, я мог бы найти следы ног ваших. Зрелище, бывшее у меня перед глазами, наполняло величием мое сердце. Я любил вас нечеловеческой любовью, я любил вас, как цветы с возвращением весны любят солнце, как море в прекрасные летние ночи любит небо.
О! В это время, Цецилия, – да простит мне Господь, если это хула гордыни! – но я презирал стихии, не властные разделить нас, даже посредством смерти. Как если все соединяется и сливается в природе – благоухание с благоуханием, тучи с тучами, жизнь с жизнью, почему же и смерти не соединиться со смертью, и если все оплодотворяется через соединение, почему смерть, одно из условий природы, одно из звеньев вечности, один из лучей бесконечного, почему смерть должна быть бесплодна? Бог не создал бы ее, если б она должна была служить только средством к истреблению и, разъединяя тела, не соединять душ.
Итак, Цецилия, и сама смерть не могла бы разлучить нас, потому что Священное писание говорит, что Господь попрал смерть.
Итак, до свиданья, Цецилия, до свиданья, может быть, в этом мире и, наверное, в будущем!»
– Да, да! Бедный Генрих, – шептала Цецилия, – да, ты был совершенно прав, да, до свиданья, наверное!
В это время Цецилия услышала крик в комнате маркизы.
Она побежала и в коридоре наткнулась на Аспазию, которая бежала к ней, бледная и безгласная.
– Что такое, что случилось? – вскричала Цецилия. И видя, что служанка маркизы ничего ей не отвечает, она кинулась в комнату своей бабушки.
Голова маркизы сползла с подушек, и руки свесились с постели.
– Бабушка! – вскричала Цецилия, схватив ее руку. – Бабушка!
Рука маркизы была холодна.
Цецилия подняла ее на подушки и, целуя несколько раз, заклинала отвечать ей, но все было напрасно: маркиза была безмолвна и холодна; маркизы более не существовало.
В то время как Аспазия вышла на минуту, с маркизой случился апоплексический удар.
Когда Цецилия вошла в комнату и увидела ее, все уже было кончено.
Цецилия думала, что она спит: она умерла.
Но умерла без всякого страдания, не произнеся ни одной жалобы, не сделав ни одного движения; умерла, как она жила, столько же заботясь о смерти, сколько она заботилась о жизни; умерла в то время, как жизнь в первый раз могла показаться ей трудной и, может быть, горькой.
Странное дело, что когда два сильных несчастья разом поражают одно и то же лицо, одно защищает душу от действия другого; одно из этих несчастий, может быть, убило бы Цецилию; перед обоими она восстала и ободрилась.
К тому же, может быть, смерть Генриха внушила ей какое-нибудь роковое намерение, исполнение которого приблизилось смертью бабушки.
При виде маркизы Аспазия объявила, что горесть ее так велика, что она не может ни минуты больше оставаться в этом доме.
Цецилия поднялась с колен от кровати своей бабушки, около которой она молилась, рассчитала Аспазию и поблагодарила ее за то, за что нельзя заплатить никакими деньгами, то есть за внимательность ее к покойной маркизе.
Потом девушка позвала женщину, которая убирала ее комнату, и просила ее заняться вместе с хозяйкой дома всеми необходимыми для похорон приготовлениями. Так как Цецилию очень любили все в доме, хотя она ни разу ни с кем не говорила, но где она слыла образцом дочерней любви и чистоты, то всякий старался услужить ей, чем мог.
Тогда Цецилия отправилась в комнату и открыла ящик.
Она вынула из него свое подвенечное платье.
При этом виде слезы, столь долго удерживаемые, прорвались наружу. Пора было, иначе сердце ее разорвалось бы от усилий.
Потом, поплакав довольно над платьем, которое она держала на коленях, перецеловав всякий букет, всякий цветок, всякий орнамент, подняв руки к небу и смотря на него, она вскричала: «Генрих! Генрих!», накинула на голову покрывало и вышла.
Требование Аспазии истощило последние средства Цецилии, и, чтобы похоронить свою бабушку и выполнить задуманное намерение, ей ничего больше не оставалось, как продать свое подвенечное платье.
Она побежала к купцу, покупавшему у нее узоры, и показала ему это чудо труда, вкуса и терпения, над которым она трудилась около двух лет, но с первого взгляда он объявил, что не может дать за него той цены, какой оно стоило, и ограничился тем, что дал ей адреса лиц, которые могли купить его.
В тот же день Цецилия была у некоторых из них, но напрасно.
Следующий день был употреблен на похороны маркизы. Так как полагали, что маркиза, не будучи богата, имела некоторое состояние, то хозяйка дома заплатила за все издержки при погребении.
На следующий день Цецилия снова отправилась продавать свое платье. Мы видели, как после новых отказов бедняжка пришла к Фернанде и как принц, тронутый слезами бедной девушки и чтоб исполнить желание Фернанды, купил чудесное платье и в тот же день послал за него деньги.
Получив три тысячи франков, Цецилия призвала хозяйку своей квартиры, отдала ей истраченную ею сумму, заплатила за паем и объявила, что на следующий день она уезжает.
Несмотря на все настояния, Цецилия решительно не сказала ей, куда едет.
На следующий день бедная девушки действительно уехала и увезла свою тайну с собой.
Тех, кто знал Цецилию, несколько времени занимало ее исчезновение, и они говорили об этом. Но мало-помалу имя ее стало реже упоминаться в разговорах; наконец, она не возвратилась, и о ней совершенно забыли.
XXIV. Заключение
Три месяца спустя после рассказанных нами происшествий красивый купеческий бриг шел на всех парусах к Антильским островам, стараясь попасть под пассатные ветры, дующие между тропиками.
Бриг этот был «Аннабель», наш старинный знакомец.
Четырнадцать дней тому назад как он вышел из Лондона, где взял груз для Гваделупы, около пяти часов после обеда сторожевой матрос прокричал слово, которое всегда производит такое сильное впечатление на пассажиров и даже на моряков:
– Земля!
При этом крике, проникнувшем до глубины судна, все пассажиры вышли на палубу.
В числе их была молодая девушка от девятнадцати до двадцати лет.
Она подошла к лоцману, который при виде ее почтительно снял шляпу.
– Точно ли я слышала, что закричали «земля!», – мой добрый Самуэль? – спросила она.
– Да, сударыня, – отвечал он.
– Какая же это земля?
– Азорские острова.
– Наконец? – сказала молодая девушка… И грустная улыбка мелькнула на лице ее; потом, обращая к лоцману взоры, с минуту окидывавшие пространство, она сказала ему: – Ты обещал указать мне место, где тело Генриха было брошено в море.
– Да, сударыня, и я сдержу свое слово, когда придет время.
– Далеко ли мы еще от этого места?
– Мы от него милях в сорока.
– Стало быть, в четыре часа мы его достигнем?
– Мы пройдем над тем самым местом, сударыня; можно подумать, что судно знает свою дорогу и не хочет отклониться от нее ни на десять шагов.
– И ты уверен, что не ошибемся?
– О! Нет, сударыня, первый остров составлял со вторым угол, и так как ночь прекрасная, то вы можете быть совершенно спокойны, я наверное узнаю место.
– Хорошо, Самуэль, – сказала девушка, – ты позовешь меня за полчаса до того времени.
– Я вам обещаю, – отвечал матрос.
Девушка кивнула головой Самуэлю, спустилась по задней лестнице и, войдя в свою каюту, № 5, заперлась в ней.
Через час после того, как она оставила палубу, раздался колокол, призывавший к обеду; все пассажиры сошли в столовую, но Цецилии не было. Впрочем, она редко садилась за стол, и потому ее отсутствия не заметили; только капитан приказал спросить, не желает ли она, чтобы ей принесли обед в каюту, но она отвечала, что обедать не будет.
Судно продолжало идти с попутным ветром, делая около десяти узлов в час, быстро приближаясь к Азорским островам; пассажиры вышли на палубу и наслаждались вечерней прохладой, глядя на архипелаг, отстоявший еще на четыре или пять миль в сторону от судна. Капитан Джон Дикс и лейтенант Тонсоп разговаривали, а кормчий Самуэль думал; время от времени оба офицера Капитан Джон Дикс и лейтенант Тонсон разговаривали, они подошли и остановились прямо перед ним.
– Не правда ли, Самуэль, это она? – сказал капитан.
– Та, о которой Генрих всегда говорил со мной.
– И которую он называл Цецилией?
– Она самая, капитан.
– Видишь, Вильям, – сказал капитан, – я угадал, это она.
– Зачем же она едет в Гваделупу?
– Да вы знаете, – отвечал Самуэль, – что у Генриха там дядя миллионер? Вероятно, она едет к нему.
И оба офицера продолжали разговор, который они прервали, чтобы задать Самуэлю приведенные нами вопросы.
Между тем ночь приближалась; на палубу принесли чай и спросили Цецилию, не хочет ли она выйти наверх, но она отказалась от чая, так же, как и от обеда.
Ночь настала с обыкновенной в этих широтах скоростью: в восемь часов было совершенно темно; в девять часов каждый отправился в свою каюту; на палубе остались только кормчий и вахтенный лейтенант; бриг шел под большим парусом и под марс-зейнями.
В девять часов с половиной из-за Азорских островов взошла луна, осветив ночь, как солнце освещает наш туманный северный день; острова ясно рисовались на горизонте.
Приближались к тому месту, где тело Генриха было брошено в воду. Верный своему обещанию, Самуэль велел позвать Цецилию.
Цецилия тотчас вышла на палубу; она переменила платье, была одета вся в белое, с покрывалом на голове, как невеста.
Она взяла стул и села возле кормчего.
Самуэль посмотрел на нее с удивлением; это белое платье, этот бесполезный наряд, о котором, видно было, заботилась Цецилия, показались странными для доброго матроса.
– Мы подъезжаем, Самуэль? – спросила Цецилия.
– Да, сударыня, – отвечал Самуэль, – и будем там через полчаса.
– И ты узнаешь место?
– О, за это я отвечаю так же, как если б я измерял высоту капитанскими инструментами.
– Я у тебя никогда не расспрашивала в подробности о его последних минутах, Самуэль, но теперь, нынешним вечером, мне очень бы хотелось знать, как он умер.
– Зачем всегда говорить о том, что для вас грустно, сударыня? Этак, наконец, вы будете меня ненавидеть.
– Скажи, Самуэль, если б умерла Женни, и умерла вдали от тебя, разве ты не желал бы узнать подробностей о ее смерти и не был ли ты, напротив, благодарен тому, кто тебе их сообщил? Это будет для меня великим утешением.
– О! Конечно, сударыня, конечно.
– Видишь же, Самуэль, что, с твоей стороны, было бы жестоко не исполнить того, о чем я прошу.
– Я и не отказываюсь, сударыня; я так любил его, бедного Генриха; и стоило, потому что, кроме того, что он был очень мил и любезен, он, уезжая из Гваделупы, дал мне три тысячи франков, которые мне были нужны для того, чтобы жениться на Женин; так что, если я теперь счастлив, этим обязан ему.
– Бедный Генрих! – прошептала Цецилия. – Он был так добр.
– Зато, когда Смит, студент медицины, сказал мне, что он болен, я тотчас поставил на свое место матроса и сошел вниз. Бедный молодой человек! Вот что мы такое! Накануне не только он чувствовал себя не совсем здоровым, ночью с ним сделалась лихорадка, а когда я сошел к нему, он уже был в бреду, но и в бреду, однако, узнал меня, сударыня; единственной мыслью его, – видите ли, что он помнил, несмотря на расстройство мозга, – это были вы, сударыня, одни вы.
– Боже мой! Боже мой! – проговорила Цецилия, и слезы снова потекли из глаз ее.
– Да, и кроме того, он говорил о домике в Англии, о цветах в саду, Булони, о подвенечном платье, потом о саване, который вы шили, чтоб похоронить в нем вас обоих.
– Увы! Увы! – сказала Цецилия. – Это правда.
– С первой минуты, понимаете… Желтая горячка не милует. Кроме того, никто не хотел ходить за ним, как будто у него, бедного, была чума. Ну, ну, брат Самуэль, сказал я сам себе, друзей узнают только в опасности, а дело касается и тебя. Я пошел к капитану и сказал ему: «Капитан, надобно поставить кого-нибудь на мое место у руля; мое место в эту минуту у постели Генриха, и я останусь там, пока он, бедняга, не умрет».
– Добрый Самуэль! – вскричала Цецилия, взяв в свою руку грубую руку матроса, тогда как другая рука продолжала лежать на руле.
– Капитана стали одолевать некоторые сомнения, потому что, изволите видеть, желтая горячка, она прилипчива, и он боялся за меня. Он знал, что я хороший кормчий, но я сказал ему: «Э! Капитан, мы прошли тропики, теперь дитя с завязанными глазами может довести вас до Плимута, только, если я заражусь и также умру, вы найдете у меня в котомке три тысячи франков, которые подарил мне Генрих: половину вы отдадите моей старой матери, другую – Женни». «Хорошо, братец, – сказал он, – раз ты считаешь это обязанностью, будь покоен, есть Бог над нами».
Цецилия вздохнула и посмотрела на небо.
– Я оставил его только на полчаса, и в это время болезнь еще усилилась. На этот раз он едва узнал меня; он был в жару! Каждую минуту он говорил: «Мне жжет дыхание, зачем дают мне дышать огнем?» – и просил пить. Потом он говорил о вас, все о вас, сударыня: и то Цецилия, и другое Цецилия. Он говорил, что вас хотели разлучить друг с другом, но что вы жена его и найдете его, где бы он ни был.
– Он был прав, Самуэль, – проговорила Цецилия.
– Так прошла ночь; он был все в горячке; я, чтоб его утешить, говорил ему о вас, потому что я видел, что хоть он и не узнавал меня, но всякий раз, как я произносил ваше имя, он дрожал. Тогда он спросил бумаги; он хотел писать, верно, к вам. Я, чтоб сделать ему удовольствие, подал ему карандаш, но он мог только написать три первые буквы вашего имени. Потом он оттолкнул карандаш и бумагу, крича: «Огонь! Огонь! Ты дал мне огня!»
– Так он очень страдал? – спросила Цецилия.
– Нельзя знать, – отвечал Самуэль, – когда нет рассудка, то некоторые говорят, что уж больше не страдают и что страдание бывает только тогда, когда есть ум, чтобы оценить его; только я этому не верю. Поэтому бедные животные, у которых нет рассудка, стало быть, не страдают. Наконец вся ночь прошла таким образом. Доктор приходил каждый час; он пускал ему кровь, ставил горчичники, но при всем этом качал головой; видно было, что он делал свое дело, чтобы успокоить совесть, и не надеялся на выздоровление. В самом деле, на третий день утром я начал отчаиваться; горячка проходила, но вместе с нею и жизнь. Когда он был в горячке, я едва мог иметь столько силы, чтоб удержать его: он все хотел идти к вам; когда горячка прошла, я одним пальцем удержал бы его в постели. О! Видите ли, сударыня, тут не то, чтобы он был слаб или чтобы я был силен, – тут была смерть.
– Боже мой! Боже мой! – сказала Цецилия, прости мне!
Самуэлю показалось, что он не понял ее слов, и он продолжал.
– Слабость увеличивалась; было еще два-три припадка, таких, что можно было полагать, что жизнь возвращается к нему, но, напротив, это тело прощалось с душой, и в три часа без пяти минут, сударыня, я еще вижу его, как теперь вас вижу, он приподнялся, пристально посмотрел вокруг себя, произнес ваше имя, упал на изголовье и умер.
– Потом, потом, Самуэль.
– Потом, вы знаете, сударыня, на корабле нет церемоний, особенно если покойник был болен заразной болезнью. Я приложил зеркало к лицу бедняжки – дыхания уже не было. Потом я пошел и сказал капитану: «Капитан, кончено, он умер».
– Боже мой! Боже мой! – проговорила во второй раз Цецилия, – простишь ли ты меня?
– «Что ж, – сказал мне капитан, – так как он умер, то пойдем, друг мой Самуэль, вместе с нами, составим протокол его смерти, а потом ты займешь свое прежнее место.
– Извините, капитан, – отвечал я, – но я еще не кончил. Бедный Генрих! Кто же зашьет его в койку. Потому, что он простой пассажир, – не бросать же его в море как собаку; это было бы несправедливо.
– Твоя правда, – сказал капитан, – но делай это поскорее.
– Я кивнул и принялся за дело, потому что все на корабле хотели поскорее освободиться от этого несчастного тела. Зато церемония была недолга. Когда я пришел сказать капитану, что все готово, капитан спросил:
– Положил ли ты ядро ему в ноги?
– Два, капитан, два, – отвечал я, для друзей нечего скупиться.
– Хорошо, – сказал капитан. Вели внести тело на палубу».
– Я взял его на руки и положил на доску. Капитан, ирландец, а следовательно, католик, прочел несколько молитв, потом доску приподняли, труп скользнул, упал в море и исчез. Все было кончено.
– Благодарствуй, мой добрый Самуэль, благодарствуй! – сказала Цецилия. – Но близко ли мы от того места, где ты бросил его в воду?
– Сударыня, мы около него, в пять минут, когда эта большая пальма, что на ближайшем от нас острове, поравняется с нашим бушпритом, это будет тут.
– А откуда бросили тело, Самуэль?
– С бакборта. Смотрите, – прибавил он, – отсюда вы не можете видеть этого места, его скрывает от нас большой парус, между лестницей и вантами бизань-мачты.
– Хорошо, – сказала Цецилия.
И она подошла к указанному месту и исчезла за большим парусом.
– Бедная девушка, – проговорил Самуэль.
– Когда мы будем на том самом месте, Самуэль, – сказала Цецилия, – ты мне скажешь, не правда ли?
– Будьте покойны, сударыня.
Самуэль наклонился, чтобы посмотреть под парус. Он увидел, что Цецилия стоит на коленях и молится.
Прошло почти пять минут, в течение которых кормчий не спускал глаз с пальмы. Потом, когда она пришлась прямо против бушприта, он сказал:
– Здесь.
– Я здесь, Генрих! – произнес чей-то голос.
И в то же время послышалось падение какой-то тяжести в воду.
– Кто-то в море! – закричал во весь голос вахтенный лейтенант.
В один прыжок Самуэль был у сеток. Он увидел что-то белое, кружившееся на черте, оставленной кораблем; потом что-то похожее на пар, плававший на поверхности воды, погрузилось и исчезло.
– Так вот за что, – сказал Самуэль, снова принимаясь за кормило, – вот за что просила она Бога простить ее!
«Аннабель» продолжала свой путь и после восемнадцати дней плавания благополучно прибыла в Пуант-а-Питр.