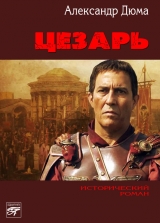
Текст книги "Цезарь"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Глава 28
Мы уже видели, как ушел Цицерон.
Множество знамений – вы знаете, какое влияние оказывали знамения на римлян, и как во всем они видели знамения, – множество знамений указывали, что его изгнание не будет долгим.
Когда он отплыл из Брундизия в Диррахий, ветер, вначале попутный, вдруг поменялся и отбросил его к тому месту, откуда он начал свой путь. – Первое знамение.
Он снова вышел в море; на этот раз ветер привел его, куда следовало; но в тот миг, когда он ступил на берег, земля дрогнула, и море отступило перед ним. – Второе знамение.
И, тем не менее, он впал в глубокое уныние. Он, который непрестанно повторял, когда его называли оратором: «Зовите меня философом», он стал печален, как поэт, меланхоличен, как Овидий в изгнании у фракийцев.
«Он проводил почти все время, – пишет Плутарх, – в глубокой скорби, почти в отчаянии, и не отрывал взора от Италии, как отверженный любовник.
Меланхолия, эта современная муза, которую уже предчувствовал Вергилий, – столь редкая вещь у древних, что мы не можем удержаться от желания перевести одно письмо Цицерона к его брату. Оно показывает великого оратора с такой стороны, с какой он совсем нам не известен.
Это письмо, подписанное Цицероном, могло бы быть подписано Андре Шенье или Ламартином. Оно отправлено из Фессалоники, 13 июня 696 года от основания Рима.
«Брат мой! брат мой! брат мой! как же это! из-за того, что я послал к вам рабов без письма, вы думаете, что я сержусь на вас; вы говорите, что я не хочу вас видеть. Мне ли сердиться на вас, брат мой? возможно ли это, скажите? В самом деле, быть может, это вы ввергли меня в такое несчастье! быть может, это ваши враги погубили меня! быть может, это ваша воля стала причиной моего изгнания! Но разве это не я стал причиной вашего разорения; разве это не мое прославленное консульство, за которым последовала такая награда! Оно отняло у меня вас, моих детей, мое отечество, мое достояние; а у вас – о, я бы не жаловался, если бы оно не отняло у вас ничего другого, кроме меня. Все, что мне досталось почетного и доброго, мне досталось от вас; скажите, что я дал вам взамен? Траур моих горестей, огорчения для вас самих, боль, скорбь, одиночество; и я не хочу больше вас видеть!.. О! я сам не хотел бы показываться вам на глаза; потому что если бы вы снова увидели меня, увы! это был бы уже не тот, кого вы прежде знали, и кто, плача, покидал вас, плачущего; от того брата, Квинт, ничего уже не осталось, ничего, кроме его тени; кроме холодного мертвеца, который еще дышит. Разве я не мертвец на самом деле? разве вы сами не видели моей смерти? разве вы не пережили не только меня самого, но и мое достоинство? О! призываю всех богов в свидетели, я был уже на пути к могиле, и только один голос удержал меня. Мне говорили, и я со всех сторон слышал это, что часть вашей жизни оставалась во мне. Я остался жить!
«Вот где я согрешил! вот в чем мое преступление. Если бы я умер тогда, как я намеревался, вам было бы легче защитить мою память. Но я допустил, чтобы вы лишились меня при моей жизни; чтобы при моей жизни вы вынуждены были обращаться за помощью к другим; чтобы умолк мой голос, который так часто поддерживал чужих мне людей, и которого вам недостает в ваших собственных бедах. О брат мой, если мои рабы придут к вам без писем, не говорите: «Гнев тому причиной», нет; скажите: «Это из-за подавленности и изнеможения, которые таятся на дне моря слез и боли». Даже это письмо, которое я пишу, сколькими слезами я смочил его, и я уверен, что и вы, читая, не сможете не заплакать над ним. И разве я могу не думать о вас, а думая, не заливаться слезами? Разве, когда я тоскую по своему брату, я тоскую лишь по нему? Нет, я тоскую по нежности друга, по почтительности сына, по мудрости отца. Разве мы испытывали когда-либо счастье, я без вас, а вы без меня? Увы! и когда я плачу по вас, разве я не плачу по моей дочери Туллии? Какая скромность! какой ум! какая почтительность! Дочь моя, мои черты, мой голос, моя душа; а мой сын, мой мальчик, столь любезный и милый моему сердцу! мой сын, которого у меня хватило смелости, хватило варварства оторвать от своей груди. Бедное дитя! Он более проницателен, чем я бы желал, и уже понимал, несчастный, что происходит.
А ваш собственный сын, ваш сын, ваше отражение, которого мой Цицерон любит как брата и уважает как старшего! И разве не покинул я несчастнейшую из женщин, самую верную из жен, которой я не позволил следовать за мной, чтобы она могла проследить за остатками моего имущества и могла защитить моих бедных детей? И однако же я написал вам, как только смог. Я отдал письма для вас вашему вольноотпущеннику Филогону, и в этот час, я полагаю, вы уже получили их. В этих письмах я увещевал и умолял вас сделать то, о чем я уже просил вас устами моих рабов, то есть как можно скорее отправиться в Рим. Я хочу, чтобы вы находились там в качестве защитника, на случай, если у нас остались враги, чью жестокость еще не насытилась нашими несчастьями. Если у вас есть сейчас мужество, которого нет у меня, у меня, кого вы всегда считали таким сильным, укрепитесь для борьбы, которую вам придется выдержать. Я надеюсь, – если только я еще смею надеяться, – что ваша неподкупность и любовь, которую питают к вам ваши сограждане, наконец, быть может, даже ваше сострадание к моим несчастьям послужат вам защитой. Если я преувеличиваю угрожающую вам опасность, делайте то, что вы сочтете нужным для меня сделать. Многие пишут мне по этому поводу и велят мне надеяться; но я не вижу, на что мне надеяться, когда мои враги так сильны, а мои друзья частью оставили меня, а частью предали? Не опасаются ли все они моего возвращения, как упрека их подлой неблагодарности! Но как бы там ни было, брат мой, разберитесь во всем и прямо напишите мне. Что же до меня, то пока вам будет нужна моя жизнь, пока вы будете считать меня способным противостоять беде, которая будет угрожать вам, я буду жить. Но без этого я жить не смогу; воистину, нет такой силы, такого благоразумия, такого учения, которые могли бы вынести такое страдание.
Я знаю, что было время, когда я мог бы умереть с большей пользой и достоинством, но, как и многие другие, я упустил его. Не будем возвращаться к прошлому; это оживит ваши муки и выставит напоказ мою глупость. Но я клянусь вам, что не повторю своей ошибки, и не стану терпеть унижение и позор такой жизни сверх времени, необходимого для вашего счастья и ваших интересов. Вы видите, брат мой: тот, кто некоторое время назад мог назвать себя счастливейшим из смертных, имя вас, таких детей, такую жену, такое богатство; тот, кто некоторое время назад был на равных с величайшими из людей по почестям, доверию, уважению и влиянию, – он впал в такое ничтожество, в такую бездну, что он должен был бы принять иное решение, нежели продолжать оплакивать постыдным образом себя и своих близких. Теперь, помилуйте, что вы мне пишите о заемном письме? Разве я не живу на ваши средства? Увы, даже в этом я вижу и признаю свою вину. Что мог предвидеть я, более ужасного, чем это чувство, что я вынуждаю вас вашими внутренностями и внутренностями вашего сына удовлетворять ваших должников? А я, я получил и растратил впустую деньги, которые казна Республики выдала мне на ваше имя. И все же я уплатил Марку Антонию и Цепиону столько, сколько вы мне написали. Что же до меня, то мне хватит и того, что есть; одержим ли мы верх, или нам следует расстаться с надеждой, большего мне не понадобится. Если мы попадем в сильное затруднение, я думаю, вам следует обратиться либо к Крассу, либо к Калидию. Есть еще Гортензий, но я не знаю, стоит ли вам доверять ему. Всячески выказывая ко мне самую нежную дружбу и окружая меня заботливейшим вниманием, он непрестанно вместе с Аррием совершал против меня самые гнусные и коварные преступления. Это по их советам, это в надежде на их обещания я пал в эту пропасть.
Однако держите это про себя из опасения, как бы они не стали чинить вам препятствия. Впрочем, думаю, что через Помпония я добьюсь расположения Гортензия. Следите также, чтобы какие-нибудь лжесвидетели не приписали вам тот стишок по поводу закона Аврелия, который распространился, когда вы добивались эдилата. Я ничего так не боюсь сейчас, как того, что люди почувствуют ваше сострадание ко мне, потому что тогда вся ненависть, направленная на меня, обрушится на вас. Я считаю, что Мессала ваш искренний друг. Я полагаю, что Помпей, если и не является им, захочет им казаться. Но пусть воля богов будет такова, чтобы вам не пришлось обращаться к ним. Об этом я буду молить их, если они еще станут внимать моим молитвам. Все, на что я отваживаюсь, это просить их не посылать на нас новых бед, которые раздавят нас; в этих несчастьях ни одно средство не будет постыдным. Более того, и эта мука для меня тяжелее остальных, потому что она приводит меня к сомнению, я вижу, что причиной гонений, которым я подвергаюсь, стали мои самые благородные побуждения. Я не поручаю вам ни мою дочь, которая и ваша тоже, ни нашего Цицерона. Есть ли на свете вещь, которая заставила бы меня страдать, не принося вам таких же страданий? Пока вы живы, брат мой, я спокоен: мои дети никогда не останутся сиротами. Что же до остального, то есть того, что касается моего спасения и моей надежды встретить свой конец на родине, я не могу вам написать об этом: слезы смывают то, что выводит рука. Прошу вас, позаботьтесь о Теренции; пишите мне обо всем. Наконец, брат мой, будьте тверды настолько, насколько человеческая природа позволяет сохранять стойкость в подобных обстоятельствах».
Но все эти новости, о которых Цицерон спрашивал своего брата, вряд ли успокоили бы его. После его отъезда Клодий не только, как мы уже говорили, объявил о его изгнании; он также сжег все его загородные дома и, пожив немного в его доме на холме Палатин – том самом доме за три миллиона пятьсот тысяч сестерциев, – он сравнял его с землей и на его месте построил храм Свободы.
Кроме того, он пустил с молотка все имущество изгнанника, и каждый день сбавлял на него цену. Но, надо отдать римлянам справедливость, какой бы низкой ни была эта цена, ни разу никто не заплатил ее. Вот как было с Цицероном.
Посмотрим, что делали остальные.
Глава 29
Среди всего этого политического разврата в Риме творилось нечто странное, напоминавшее спектакль, поставленный для народа, чтобы заставить его поверить в лучшие времена Республики. Этот спектакль давал Катон.
Катон был чем-то вроде серьезного шута, которому позволялось говорить и делать все, что угодно. Он был скорее забавен, чем любим; народ бегал поглядеть, как Катон выходит на улицу без туники и босиком. Катон пророчествовал; но его пророчества, как вопли Кассандры, никто не слушал.
После того, как Помпей посодействовал цезарю в получении должности проконсула Галлии, Катон остановил Помпея посреди улицы.
– Эй! – сказал он ему, – ты, видно, устал от своего величия, Помпей, раз добровольно надеваешь на себя ярмо Цезаря?… Сейчас ты, я вижу, не замечаешь тяжести этого бремени, но когда ты почувствуешь ее, когда увидишь, что больше не в силах его нести, ты переложишь это ярмо на Рим. Тогда ты вспомнишь, что Катон предупреждал тебя, и убедишься, что его слова были честны, справедливы и полезны для тебя.
Помпей пожал плечами и прошел мимо. Как можно попасть под удар молнии, если находишься выше нее?
Клодий, став трибуном, понял, что ему никогда не быть хозяином Рима, пока в нем есть Катон. Он послал за Катоном.
Катон подчинился – он, который отказался придти, когда его потребовал к себе царь. – Катон воплощал собой закон: трибун звал его; и ему неважно, был ли этим трибуном Клодий или кто другой; Катон явился по зову трибуна.
– Катон, – сказал ему Клодий, – я считаю тебя самым порядочным и честным человеком в Риме.
– А! – отозвался Катон.
– Да, – продолжал Клодий, – и я намерен тебе это доказать. Многие люди просят, и весьма настойчиво, чтобы их назначили управлять Кипром; я считаю, что этой должности достоин только ты, и я отдаю ее тебе.
– Ты отдаешь мне управление Кипром?
– Да.
– Мне, Катону?
– Тебе, Катону.
– Я отказываюсь.
– Почему ты отказываешься?
– Потому что это ловушка: ты хочешь убрать меня из Рима.
– Так что же?
– Так вот, я хочу остаться в Риме.
– Пусть так, – сказал Клодий; – но я предупреждаю тебя об одном: если ты не хочешь отправляться на Кипр по доброй воле, ты будешь отправлен туда силой.
И, явившись вскоре на народное собрание, он добился принятия закона, который назначал Катона правителем Кипра.
Возможности отказаться больше не было; Катон принял назначение.
Как раз тогда разразились волнения, связанные с Цицероном; он был тогда еще в Риме; Катон пошел к нему и посоветовал ему не поднимать мятежа; затем он оставил Рим, причем Клодий не дал ему с собой ни корабля, ни войска, ни служителя, а только двух писцов, один из которых был отъявленным вором, а другой – ставленником Клодия.
Катону было велено изгнать с Кипра царя Птолемея, – не следует путать его с его тезкой, Птолемеем Авлетом, флейтистом, который был царем Египта; и, кроме того, он должен был вернуть в Византию тех, кто был из нее изгнан. Эти такие разные поручения имели своей целью удержать Катона вдали от Рима на все время трибуната Клодия.
Имея столь малые средства, Катон решил, что ему следует действовать с осторожностью. Он остановился на Родосе и послал вперед себя одного из своих друзей по имени Канидий, чтобы тот склонил Птолемея удалиться без боя.
И тут Катона с этим царем Кипра постигла та же удача, что и Помпея с Митридатом: Канидий прислал весть, что Птолемей только что отравился, оставив после себя несметные богатства.
Катон, как мы уже сказали, должен был отправляться в Византию. Что же станется с этими сокровищами, оставшимися после Птолемея, если он отдаст их в чужие руки?
Он оглянулся вокруг себя; его взгляд пал на его племянника, Марка Брута.
Здесь мы впервые встречаемся с этим юношей, сыном Сервилии, который считается племянником Цезаря. Важнейшая роль, которую он сыграет впоследствии, заставляет нас задержаться на нем в ту минуту, когда история впервые произносит его имя.
Бруту в то время было около двадцати двух лет; он притязал на то, что его род происходит от того знаменитого Юния Брута, которому римляне воздвигли на Капитолии бронзовую статую с обнаженным мечом в руке, в память его полной победы над Тарквиниями; правда, это его происхождение настойчиво оспаривалось разными Гозье того времени. [43]43
Гозье, династия исследователей гербов, которую основал Пьер (1592–1660), написавший 50 рукописных томов Генеалогии основных семейств Франции(B.N.), и продолжили его сыновья, Шарль (1640–1732) и Луи (1634–1708), сын которого Луи-Пьер издал вместе со своим собственным сыном Антуаном (1721–1810) Всеобщий гербовник Франции, и завершил Амброзий (1764–1846), последний из исследователей гербов.
[Закрыть]
И в самом деле, как он мог вести свой род от Юния Брута, если Юний Брут повелел отрубить головы двум своим сыновьям?
Правда, Посидоний-философ утверждает, что помимо этих двух сыновей у Брута был еще третий, который был слишком молод, чтобы принять участие в заговоре, и что именно он, пережив своего отца и двух братьев, стал праотцом этого Брута.
Отрицавшие это родство говорили, что Брут, напротив, вышел из плебейского сословия, и что он был сыном некоего простого домоуправителя, чьей семье не так давно было пожаловано гражданство Республики.
Что же до Сервилии, матери Брута, то она возводила свое происхождение к тому Сервию Ахале, который, прослышав, что Спурий Мелий стремится к тирании и подстрекает своих сограждан к мятежам, спрятал под мышкой кинжал и явился на Форум. Там, убедившись, что ему сказали правду, он подошел к Спурию, как будто хотел сказать ему что-то важное, и когда тот наклонился к нему, чтобы послушать, он нанес ему удар такой силы, что Спурий рухнул замертво.
Это случилось примерно триста восемьдесят лет назад, в 438 году до Рождества Христова.
Эта часть генеалогии Брута была общепризнанной.
Юноша имел характер мягкий и серьезный. В Греции он изучил философию, прочитал и сравнил между собой всех философов, и в качестве образца для себя остановился на Платоне. Он питал глубочайшее уважение к Антиоху Аскалонскому, главе Древней Академии, и избрал себе другом и сотрапезником его брата Аристона.
Как все молодые люди своего времени, получившие хорошее воспитание, Брут в равной степени хорошо говорил и на латинском, и на греческом языках; он обладал некоторым талантом красноречия и успешно выступал в суде.
Когда Катон пожелал привлечь его к делу сохранения сокровищ Птолемея от разграбления, он находился в Памфилии, где поправлялся после тяжелой болезни.
Вначале это поручение вызвало у него отвращение; по его мнению, со стороны его дяди было оскорбительно по отношению к Канидию присылать к нему в качестве инспектора двадцатидвухлетнего мальчишку. Однако поскольку он всегда испытывал большое почтение к Катону, он подчинился его желанию.
Брут сам произвел полную инвентаризацию царского наследия, а Катон прибыл, когда пришла пора приступать к продаже.
Цену на всю эту золотую и серебряную утварь, на ценнейшие столы, на драгоценные камни, на пурпурные ткани Катон назначил сам. Более того: желая продать все эти вещи как можно дороже, он сам торговался с покупщиками, пока цена не достигала соответствующей его оценкам цифры.
Деньги, взятые из казны и вырученные от продажи сокровищ, вместе составили сумму примерно в семь тысяч талантов, то есть сорок миллионов в нашей монете.
Катон принял всяческие меры предосторожности, чтобы эта сумма прибыла в Рим в целости и сохранности; на случай крушения судна он велел изготовить ящики, каждый из которых вмещал два таланта пятьсот драхм, около двенадцати тысяч франков; затем к каждому ящику он велел прикрепить длинную веревку, на конце которой был привязан кусок пробковой коры, с тем, чтобы в случае стихийного бедствия, когда ящики упадут в воду, эти поплавки всплыли бы и указали место, где лежат на дне ящики. Кроме того, он составил два полных реестра, в которые внес все, что он получил и потратил за время своего управления; один из этих реестров он вручил своему вольноотпущеннику Филаргиру, а другой оставил у себя.
Но, несмотря на все предосторожности, случай погубил оба реестра: Филаргир потерпел крушение в море и утратил свою копию вместе со всеми тюками, вверенными его попечению; свою же Катон бережно сохранял до самой Керкиры; но там, на площади матросы так сильно разожгли костры, что пламя перекинулось на палатки, и реестр погиб в огне.
А когда один из его друзей стал сокрушаться по поводу этого несчастья:
– Я составил этот реестр не для того, чтобы доказать мою преданность, – сказал Катон, – но для того, чтобы показать другим пример строжайшей точности.
Когда в Риме стало известно о его прибытии, все население высыпало к реке встречать его.
При виде этого флота, – поскольку Катон, отбыв с одним-единственным суденышком, возвращался теперь с флотом, – при виде этого флота, идущего вверх по Тибру, и следующей за ним по берегу толпы народа, всякий счел бы это за триумф.
Возможно, Катону следовало бы из скромности остановиться на том самом месте, где его встречали преторы и консулы; но он не счел нужным сделать этого. Он продолжал плыть на царской галере Птолемея – великолепной галере с шестью рядами весел, – и остановился лишь тогда, когда привел свой флот в гавань.
Будучи большими поклонниками Катона, мы все-таки не можем скрыть от наших читателей, что поначалу такое неожиданное у знаменитого стоика проявление гордыни произвело на Рим очень плохое впечатление.
Но когда все увидели, как через Форум понесли огромные количества золота и серебра, которые он привез в Рим, вопреки обычаям остальных проконсулов, восхищение его бескорыстием рассеяло предубеждение, навеянное его чванством.
Сенат тоже не поскупился на почести Катону. Собравшись, он постановил пожаловать ему внеочередную претуру и право присутствовать на зрелищах в тоге с пурпурной каймой.
Но Катон, который, несомненно, вновь обрел себя, отказался от всех этих привилегий и попросил у сената только отпустить на свободу Никия, управляющего имуществом покойного царя Птолемея, засвидетельствовав его усердие и преданность. Стоит ли говорить, что его просьба была удовлетворена.
Вот что делал Катон в то время, пока Цезарь начинал свой поход против галлов, и пока Цицерон оплакивал свое изгнание в Фессалонике. Посмотрим теперь, что делали Красс и Помпей, или, скорее, что делал Клодий.
Глава 30
Красс, насколько это было возможно, сохранял спокойствие, прикрытый с одной стороны Цезарем, а с другой – Помпеем; впрочем, он хотел только одного: получить должность проконсула Сирии. Его мечтой было объявить войну парфянам, в которых он видел неиссякаемый источник обогащения.
Помпей, стареющий влюбленный, проводил все свое время наедине со своей молодой женой, мало беспокоясь о том, что творилось на Форуме. Клодий, оглянувшись вокруг, увидел себя единственным хозяином Рима: Цицерон был в Фессалониках; Катон был на Кипре. Но поскольку Помпей оставался в Риме, он не знал меры своей власти; он решил ее выяснить.
Мы уже знаем, что с Тиграном-отцом Помпей договорился, а Тиграна-сына оставил для своего триумфа. Пока он сидел в тюрьме.
Клодий силой забрал его из тюрьмы и поселил у себя. Помпей ничего не сказал. Клодий затеял судебные разбирательства против друзей Помпея, и добился для них обвинительного приговора. Помпей промолчал. Наконец, однажды, когда Помпей, покинув свою виллу на холме Альба и переступив магический круг, очерченный вокруг него любовью, явился присутствовать на заседании, Клодий, окруженный толпой своих друзей, – а мы с вами знаем, кто были друзья Клодия! – поднялся на возвышение, откуда он был виден и слышен всем, и крикнул:
– Кто самый распущенный император?
– Помпей! – хором ответили его друзья.
– Кто с тех пор, как женился, чешет себе голову одним пальцем, чтобы не нарушить прическу?
– Помпей.
– Кто хочет отправиться в Александрию и вернуть трон египетскому царю, за что ему хорошо заплатят?
– Помпей.
И так на каждый его вопрос хор друзей отвечал: «Помпей».
Скажем пару слов об этом обвинении: «Кто хочет отправиться в Александрию и вернуть трон египетскому царю, за что ему хорошо заплатят?» Мы стараемся, насколько это возможно, не оставлять позади себя ничего неясного.
Птолемей Авлет, родной брат Птолемея Сотера II, прозванный Auletesза свою страсть к игре на флейте, поссорился со своими подданными.
В то время Рим был судилищем всего мира: цари и целые народы обращались к нему за справедливостью. Птолемей покинул Александрию, чтобы воззвать к римскому народу. Воззвать к римскому народу, это значит обратиться к человеку, который правит в это время в Риме.
Итак, Птолемей пустился в путь, и причалил к Кипру в те дни, когда там ненадолго останавливался Катон. Он узнал, что Катон здесь, и послал одного человека из своей свиты сказать ему, что он хотел бы его видеть. – Заметьте при этом, что Катон прибыл на Кипр, чтобы вышвырнуть оттуда брата Птолемея Авлета.
Стоик в это время находился в уборной, точь-в-точь в такой же ситуации, в какой пребывал господин де Вандом, когда ему доложили о приходе Альберони. [44]44
Сен-Симон в своих Воспоминанияхрассказывает, что герцог Вандомский, побочный внук Генриха IV, охотно принимал посетителей, сидя на стульчаке. Так он принял и Альберони, посланного к нему герцогом Пармским. Этот Альберони, человек низкого происхождения, избрал герцога Вандомского своим покровителем, и, чтобы снискать его расположение, в тот момент, когда тот поднимался со стульчака, воскликнул «culo d’angelo» и поцеловал объект своего восхищения. Его успех был достигнут.
[Закрыть]
– Пусть войдет, – сказал Катон.
Посланник передал ему пожелание своего хозяина.
– Если царь Птолемей хочет видеть меня, – ответил он, – нет ничего проще: мой дом открыт как для простых граждан, так и для царей.
Ответ был весьма груб. Птолемей сделал вид, что не заметил этого, и пришел к Катону.
Сначала беседа была несколько прохладной; но постепенно Птолемей увидел, как разумно все то, что отвечал ему Катон, и спросил у него совета, как ему следует поступить; иначе говоря, должен ли он продолжать свой путь в Рим, или же ему следует вернуться в Египет.
– Вернуться в Египет, – не колеблясь, ответил Катон.
– Почему так?
– Потому что стоит вам сунуть хотя бы самый краешек Египта в эту алчную машину, которая зовется Римом, через миг весь Египет окажется в ней.
– Что же тогда делать?
– Я уже сказал вам: возвращайтесь в Египет, помиритесь со своими подданными; а в доказательство моего к вам расположения, если вы хотите, я буду сопровождать вас и берусь устроить это примирение.
Царь Птолемей поначалу согласился; но потом он поддался другим советам, и, не сказав Катону ни слова, в одно прекрасное утро отправился в Рим и отдал себя под покровительство Помпея.
И действительно, два года спустя Габиний, помпеев легат и ставленник, восстановил Птолемея в его государстве; но только они двое и, возможно, еще Помпей знали, сколько ему стоила эта протекция!
Помпей – тут мы возвращаемся к последней проделке Клодия – Помпей понял, что настало время действовать. Ему, с его нерешительностью, было очень досадно, что такой негодник, как Клодий, вынуждает его принимать решение; однако с подобными выходками следовало покончить; Помпей посовещался со своими друзьями.
Один из них, Кулеон, посоветовал ему порвать с Цезарем, разведясь с его дочерью, и через этот развод наладить отношения с сенатом.
Сенат дулся на Помпея с тех пор, как тот так вероломно и, главное, так неблагодарно поступил с Цицероном, допустив его высылку. Это, разумеется, был верный способ вернуть себе расположение сената; но Помпей не захотел даже думать об этом: мы уже говорили, что он был безумно влюблен в свою жену.
Другие предложили ему вернуть из ссылки Цицерона. К этому предложению он прислушался. Он велел сообщить сенату, что он готов поспособствовать, с оружием в руках, возвращению Цицерона в Рим; но сенату нужно было взять инициативу на себя.
Получив это обещание, сенат издал указ. Этим указом сообщалось, что сенат не даст своей санкции ни на что, и сам не будет решать никаких общественных дел, пока Цицерон не будет вызван из ссылки. Это было формальным объявлением войны.
В тот день на смену Писону и Габинию, при которых состоялось изгнание Цицерона, вступали в должность два новых консула, и один из них, Лентул Спинтер, положительно потребовал вернуть проскрипта. – Другим новым консулом был Метелл Непот, тот самый, которого Цицерон засыпал своими насмешками.
Клодий пригрозил сенату своими головорезами; вот только, что было очень важно и в особенности приятно отметить, он уже не был трибуном.
Помпей решил, что ему недостойно было бы марать себя прямым столкновением с Клодием.
«Крепкий сук – острый топор», гласит пословица; его топором против Клодия стал Анний Милон, только что назначенный трибуном на место Клодия. Милон был человеком того же замеса, что и Клодий; он был женат на дочери Суллы и пользовался в Риме определенным вниманием.
Клодий и Милон не могли спокойно жить в одном городе. Милон принял сторону Цицерона, и вовсе не потому, что на этой стороне была справедливость, а потому, что, став другом Цицерону, он становился врагом Клодию.
Когда Помпей открылся ему, как своему кондотьеру, Милон ничего не сказал, кроме того, что он в его распоряжении; следовало только подготовиться. Клодий постоянно таскал за собой сотню гладиаторов. Милон набрал две сотни бестиариев. Оба отряда встретились. Началось со взаимных оскорблений; потом в ход пошло оружие. Бой был долгим и жарким: друзья Клодия понабежали со всех сторон; никогда еще на мостовых Форума не видели столько шалопаев.
Клодий победил.
Он оставил после себя кровавые ручьи и канавы, набитые трупами. Затем он и его приспешники рассеялись по городу и подожгли храм Нимф.
Среди трупов остался лежать один трибун; его сочли мертвым, но он был только тяжело ранен.
Этот трибун принадлежал стороне Цицерона; это было серьезно.
Клодий нашел, как исправить дело: он подстроил убийство трибуна со своей собственной стороны и свалил это убийство на членов сената.
Помпей решил, что пришло, наконец, время вмешаться.








