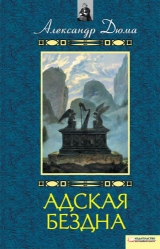
Текст книги "Бог располагает!"
Автор книги: Александр Дюма
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 45 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
XI
ЯГО В РОЛИ ОТЕЛЛО
На следующий день в стенах особнячка в Менильмонтане Самуил строго бранил г-жу Трихтер за то, что она никогда раньше так не медлила подавать на стол.
И самом деле приборы еще не были расставлены, когда Фредерика спустилась в столовую.
Она протянула руку Самуилу, но тот не ответил ей тем же и раздраженно произнес:
– Я уже думал, вы сегодня не спуститесь вообще.
– Но ведь еще рано, – возразила она, взглянув на стенные часы, действительно показывавшие только без пяти десять.
– Что ж, тем лучше, – резко ответил он, – садитесь.
Она села, удивленная таким непривычным всплеском дурного настроения.
Самуил не притрагивался к пище. С исполненной грации тревогой Фредерика спросила:
– Друг мой, вы сегодня так грустны и серьезны, уж не заболели ли вы?
– Нет.
– Вас что-то заботит?
– Нет.
– Если вы сердитесь, что я не пришла сегодня до назначенного часа, почему вы не послали за мной? Я не торопилась, решив, что после ночи, проведенной в гостях, вам надобен отдых; моя леность объясняется только опасением вас разбудить.
– Я на вас не в претензии, – отвечал Самуил.
– Ну, так ешьте, говорите и не забудьте мне улыбнуться!
Не отвечая ей, Самуил повернулся к г-же Трихтер:
– А вы чего дожидаетесь? Не пора ли подать чай?
Госпожа Трихтер вышла и почти тотчас возвратилась с чайником и чашками.
– Вот и прекрасно, – сказал Самуил. – Мы больше не нуждаемся в ваших услугах.
Оставшись наедине с девушкой, Самуил тотчас грозно спросил:
– Фредерика, почему вы мне ни слова не сказали о некоем молодом человеке, явившемся сюда два дня назад?
Фредерика покраснела.
– И почему вы краснеете? – прибавил он.
– Ну как же, друг мой, – попыталось спасти положение дрожащее бедное дитя. – Я же упоминала, что, как раз когда вы отправились с визитом к господину графу фон Эбербаху, за вами прибыл молодой человек в посольском экипаже.
– Все так, но вы ни словом не обмолвились, что он задержался здесь и говорил с вами. Как он мог войти, когда я был в отъезде? Почему беседовал с вами, а не с госпожой Трихтер? И что он вам сказал?
Горечь и раздражение, прозвучавшие в голосе Самуила, смутили Фредерику еще более, чем суть его вопросов.
– Так ответьте же! – продолжал он. – Ах! Вас удивляет, что я об этом узнал?.. Но, видите ли, рано или поздно все тайное становится явным. Усвойте хорошенько: отныне и впредь вы не сможете ни пошевельнуться, ни выговорить хоть одно слово без того, чтобы я об этом не услышал. И не для того я взял на свою совесть заботы о душе моей подопечной, чтобы терпеливо взирать, как первый встречный заходит сюда, будто на рыночную площадь, и говорит о вас на людях, бахвалится знакомством с вами и тем самым компрометирует вас по своей прихоти!
– Компрометирует меня? – воскликнула бедная девушка. – Я не могу поверить, чтобы господин Лотарио…
– A-а, вам уже известно и имя этого господина! – гневно прервал ее Самуил.
– Да, он, естественно, сообщил мне свое имя, чтобы передать вам о его приходе. Друг мой, не надо преувеличивать размеры случившегося. Человек пришел, чтобы увидеть вас, вы только что ушли, и он задержался всего на несколько минут. Есть ли от чего гневаться? Да и что было мне делать? Я была здесь, когда он вошел, – так неужели мне следовало спасаться бегством? Такой поступок вовсе не скромен и походит на какую-то глупую выходку. Что ж, вы этого желаете от меня? Вы требуете, чтобы я сидела в своей комнате и не выходила из нее никогда? Тогда прикажите, я обязана вам всем, я подчинюсь. Хотя я и без того вижу не так уж много людей и, как мне кажется, веду достаточно уединенную жизнь.
– Здесь, увы, нет большой вашей заслуги, – возразил Самуил. – Если бы могли, вы бы ходили всюду, вам ведь нравятся празднества, вы полюбили бы балы, развлекались бы собственным кокетством. Дело тут не в недостатке желания, а просто в том, что не было случая.
– Но тогда в том, что я обхожусь без развлечений, – моя заслуга, и тем большая, что я делаю это охотно. А кокетство мое до сих пор ограничивалось уединенными беседами с госпожой Трихтер.
– И с господином Лотарио, – вставил Самуил.
– Вы изволите шутить? – воскликнула девушка.
– Отнюдь, – грозно отчеканил он. – Госпожа Трихтер не осмелилась скрыть от меня, что он оставался здесь более четверти часа. Не надобно так много времени, чтобы ответить: «Господина Самуила нет дома». Так о чем вы говорили с этим человеком более четверти часа?
– Ну, прежде всего, – отвечала Фредерика, – я говорила не с ним одним. Вместе с ним пришла…
Она запнулась, сообразив, что может выдать свою безымянную посетительницу, хотя обещала держать ее визиты в тайне.
– Кто еще? – спросил Самуил.
– Так… одна дама, она явилась поговорить о делах благотворительности и оставалась все время здесь же.
– Наверняка какая-нибудь сводня, – пробормотал сквозь зубы Самуил. – Однако, если вы чувствуете себя в полном смысле невиновной, – продолжал он громко, – тогда почему вы что-то мямлите и путаетесь в объяснениях, словно желаете солгать?
Но тут у ворот зазвенел колокольчик. В саду раздались чьи-то голоса, он выглянул в окно и, увидев Юлиуса, вошедшего под руку с Лотарио, в ярости обернулся к своей воспитаннице.
– Отправляйтесь в свою комнату, – повелел он тоном, не терпящим ослушания, – и ни под каким предлогом не покидайте ее без моего прямого указания. Вы поняли меня?
– Я повинуюсь, – со слезами на глазах ответила бедная девушка. – Но никогда раньше я не видела вас таким жестоким.
– Извольте, наконец, выйти! – повторил он, схватил Фредерику за руку, чуть ли не поволок ее в комнату и захлопнул за ней дверь.
Не успел он с этим управиться, как выходившая в сад дверь гостиной распахнулась.
– Чуть не опоздал, – вздохнул этот слывущий железным человек и, совершенно разбитый, ослабевший, рухнул на стул.
Явилась г-жа Трихтер спросить, примет ли он господина графа фон Эбербаха с племянником.
– Пусть войдут, – устало ответил он и встал, чтобы пойти навстречу Юлиусу.
Несколько придя в себя, Самуил как мог горячо пожал руку товарищу своей юности. А вот Лотарио встретил весьма холодно.
– Мой дорогой Самуил, с сердечной улыбкой заговорил Юлиус, – я явился сюда, движимый только желанием пошпионить за тобой.
– А-а! – откликнулся Самуил, внимательно глядя на Лотарио.
– Ну, конечно, Бог ты мой! – продолжал Юлиус. – Я пришел собственными глазами посмотреть, как обошлась с тобой фортуна и так ли широк твой образ жизни, как обширны помыслы и силы души. Ты ведь знаешь, Самуил, я богат, слишком богат, моего добра хватило бы на двоих, да что на двоих – на многих.
– Остановимся на этом, – прервал его Самуил. – Благодарю тебя за предложение, но я еще не доведен до того, чтобы им воспользоваться. Мне прекрасно известно, что все зависит от суммы: каждого оскорбит небрежно брошенный ему экю, но почти любой без всяких угрызений примет в дар состояние, равное твоему. Однако я не похож на других. К тому же, – весьма многозначительно добавил он, – ты ведь знаешь: я из породы тех, кто говорит: «Все или ничего!»
– Не горячись так, – дружелюбным тоном произнес Юлиус. – И не сердись на то, что я говорю с тобой как с родным братом. Хорошо, оставим в покое мои деньги; ну ты ведь знаешь, я занимаю такое положение, что могу пригодиться в любых обстоятельствах, позволь же поставить его тебе на службу; не забывай: свое доброе имя я в любой час отдам во имя нашей старинной дружбы.
– Принимаю предложение, – ответил Самуил, протягивая ему руку, – и не премину им при случае воспользоваться. Что до денег, я отказываюсь от них не из гордости, но потому, что моих мне хватает. У меня здесь ни в чем нет недостатка. До сих пор я не жертвовал собой ради благ житейских и, при всех прочих обстоятельствах, устроен в жизни не хуже других. Хочешь, покажу тебе мой дом?
– Поглядим! – воскликнул Юлиус.
При этих словах Лотарио вскочил с такой живостью, что Самуил метнул в его сторону косой взгляд, не обещавший ничего доброго. Без всякого сомнения, молодой человек так воспылал желанием осмотреть дом только в надежде повстречать где-нибудь Фредерику.
Однако если в этом и заключались его подлинные надежды, им не суждено было осуществиться. Он исходил вдоль и поперек дом и сад, но ни шуршания платья за поворотом аллеи, ни белокурого локона в переплете окна – не было ничего, что бы напомнило ему о прошлой встрече.
Что касается Юлиуса, то он вспомнил об отсутствующей юной особе, быть может, совершенно случайно и спросил, когда вся компания вернулась в гостиную:
– Кстати, как поживает молодая девушка, о которой мы говорили прошлой ночью? Кажется, ее зовут мадемуазель Фредерика? Мы не увидим ее?
– Она нездорова, – ответил Самуил.
– Она нездорова! – прошептал Лотарио.
– Да, – отозвался Гельб, счастливый предоставившейся возможностью помучить молодого человека. – Ее недомогание довольно серьезно, и она не может покинуть свою комнату.
– Но она не больна чем-то опасным? – спросил Юлиус.
– Надеюсь, – ответил хозяин дома, не желая сказать «нет».
– Ты привязан к этой девушке? – продолжал Юлиус.
– У этой бедной сиротки нет в мире никого, кроме меня, – отвечал Самуил, – и она бы немало удивилась, узнав, что ее персона так сильно занимает графа фон Эбербаха. Я приютил ее малым ребенком и дал ей воспитание. Так что все просто. Ты доволен?
И он внезапно перевел разговор на другое:
– А что ты скажешь об Олимпии теперь, когда ты ее видел?
– Олимпия! – с живостью отозвался Юлиус, и произнесенное имя вызвало в его душе волнение. Он уже не думал больше о Фредерике. – Я как раз хотел поговорить с тобой о ней, притом серьезно.
– Вероятно, это будет разговор наедине? – спросил Самуил и взглянул на Лотарио.
– Нет, Лотарио может остаться, – запротестовал Юлиус, – он для меня одновременно и друг и сын. В том одиноком существовании, на какое осудил нас обоих рок, мы обретаем в нашей дружбе и утешение, и помощь. Мы не таим друг от друга ни малейшей мысли, ни самого мимолетного чувства. Кстати сказать, здесь я виновен перед ним и тобой. Он, естественно, говорил со мной о мадемуазель Фредерике, как и обо всем, что он обычно находит прекрасным, добрым или примечательным. Я совершил глупость, произнеся недавно это имя вслух, и тотчас заметил, как ты недоволен тем, что оно упоминается всуе. Ты был совершено прав, и теперь я прошу у тебя прощения. Но Лотарио здесь вовсе ни при чем. И он очень желал бы, чтобы ты об этом знал. Это я, один лишь я, в приступе какого-то неуместного зубоскальства захотел подшутить над ним и над тобой и поинтересовался некоей таинственной красавицей, по алчности сокрытой от чужих глаз и по прихоти случая обнаруженной. Не копи зла за это на Лотарио, прости ему мою невоздержанность.
– Так ты хотел поговорить об Олимпии? – отозвался Самуил.
– Да, я хотел бы, чтобы ты получил для меня у лорда Драммонда позволение навестить синьору в ее апартаментах.
– О, я думаю, ты не нуждаешься ни в чьем позволении! Насколько могу судить, вы необычайно быстро поладили, и весь вечер она говорила только с тобой.
– Ты так полагаешь? – произнес польщенный Юлиус.
– Да. Можешь преспокойно отправиться к ней с визитом, и готов поручиться, ты не найдешь двери запертыми. Значит, открывшееся лицо не прогнало тех чар, что навеяла маска, и то, что предстало глазам, не противоречило восторгу ушей?
– Ах! – всплеснул руками Юлиус. – Действительность превзошла все ожидания. Вот уже семнадцать лет я не испытывал чувств, подобных тем, что ощущал подле этой необыкновенной женщины. Ее манеры, ее голос, ее внезапное исчезновение и это ее неслыханное сходство, – все, надо признать, приводит меня в смущение и занимает все мои помыслы. Целое утро я думал только о ней, и вся моя будущность отныне сосредоточилась в словах «Увидеть ее вновь!». Так где она остановилась?
– В точности не знаю, – ответил Самуил. – Мне только известно, что обосновалась она где-то на острове Сен-Луи. Но уже сегодня к вечеру, думаю, я смогу сообщить тебе все поподробнее.
– Спасибо, – сказал Юлиус и не без некоторого стеснения решился спросить: – А не знаешь ли, в каких она отношениях с лордом Драммондом?
– Уверен, что она не возлюбленная его.
– Ты действительно уверен в этом? – с радостным облегчением переспросил Юлиус.
– Да, и более того: она отказалась выйти за него замуж.
– Милый мой Самуил! – воскликнул Юлиус. – Так ты веришь тому, что рассказал ее брат?
– Без сомнения, – решительно ответил Самуил, забавляясь действием, производимым его словами. – Лорд Драммонд при мне неизменно говорил о синьоре Олимпии с глубочайшим почтением. Немало лордов, герцогов и принцев безуспешно предлагали ей кошелек, сердце и руку. Знаешь, все-таки она натура восхитительная в своей возвышенной устремленности. Певица, влюбленная только в чистое искусство и более целомудренная на подмостках, нежели иная императрица на троне. Да, оживить и спустить с мраморного пьедестала эту статую, изваянную из мрамора музыкальной гармонии, – цель, достойная мужчины.
– С тех пор как я узнал о ее существовании, – промолвил Юлиус, очарованный не только воспоминанием о прекрасной Олимпии, но и подобными заверениями Самуила, – мне кажется, что жизнь возвращается ко мне и приобретает новый смысл, новую притягательность.
– Да, черт возьми, – рассмеялся Самуил, – каждый из нас в той или иной мере тратил себя ради увлечений, не входящих ни в какое сравнение с тем, о чем мы сейчас говорили.
– Так ты раздобудешь мне к вечеру ее адрес?
– Можешь на меня положиться.
– И ты думаешь, я могу нанести ей визит? Она не сочтет это несколько бесцеремонным?
– Она будет счастлива тебя видеть.
– Еще раз благодарю! Сейчас нам надо возвратиться в посольство. Так я рассчитываю на тебя.
Юлиус с горячностью пожал Самуилу руку, затем поднялся. Хозяин дома, счастливый тем, что Лотарио, наконец, удалится, распрощался с молодым человеком почти дружески.
Он проводил своих гостей до калитки, но как только она затворилась за ними, принялся расхаживать по саду в сосредоточенной угрюмой задумчивости.
«Ну вот! Я докатился до ревности – только этого еще не хватало! Мне, мне влюбиться – это и так слишком большое испытание, но ревновать!.. Самуилу Гельбу, человеку с таким умом, человеку, для которого все прочие смертные, не исключая и Наполеона, служили всего лишь орудиями, суждено пасть ниц, ползти на коленях, дрожать от каждого слова, взгляда женщины! Я едва не одержал победу над Наполеоном, а теперь сдаюсь в плен ребенку…
Да, сомнения нет: Фредерика может делать со мной что захочет. Если она глупейшим образом влюбится в этого белокурого красавчика, что я смогу поделать? Только от нее зависит предпочесть мне Лотарио, тем самым доказав, что ученость, ум, талант – ничто перед хорошо подвитым локоном! Зачем тогда было воспитывать сироту, преданно служить ей, посвятить ей жизнь, все помыслы, душу, если первый встречный, любой проходимец, какой-нибудь совершенно чужой человек способен вырвать ее из моих рук, похитить мое добро, мою ученицу, мое творение!..
Ну вот, теперь я разглагольствую, как все Кассандры, как все комедийные опекуны. Неужели я докатился до ролей, подобных Арнольфу и Бартоло? Но ведь комедия могла окончиться вовсе не благоприятной для Ораса или Альмавивы развязкой. Меня всегда прямо переворачивало, когда я задавал себе вопрос: над чем смеются в комедии? Арнольф взрастил, вскормил девушку, которую любит. Проходит мимо какой-то пустоголовый повеса, достаточно безмозглый, чтобы делиться своими секретами с соперником. Естественно, девица влюбляется в него и бежит с ним. И вот Арнольф, старый, одинокий, не имеющий ни единой души, способной его пожалеть, рвет на себе волосы от отчаяния. Воистину смешно!
Но я изменю развязку. Смеяться не будут. Последнее слово будет не за Лотарио. Горе ему! И горе Юлиусу, приведшему его ко мне! Ну же, вы проникли сюда, в логово льва? Ах, вы вверяете себя милости хищного зверя? Что ж! Вы не преминете почувствовать на себе его когти.
Итак, война объявлена. Схватка началась. Посмотрим, чья возьмет. Юлиус так мил, что готов поделиться со мной толикой своих денег? Мне этого мало. Ведь я предупредил его: все или ничего! А этот юнец, чем он располагает? Молодостью. Невелико преимущество. Все время, пока он тут торчал, у него не нашлось повода вставить хоть слово. Здесь все понятно: за него только его двадцать лет… и перчатки. Надо признать, они у него хороши. За мной же будут власть и деньги.
Настало время поторопиться. Начать нужно именно с денег, поскольку Союз Добродетели благосклонен только к богачам. Деньги же имеются у Юлиуса. Надо лишь сообразить, как взять над ним верх. Да благословит дьявол синьору Олимпию! Я буду держать Юлиуса в руках, играя на его страсти к ней. Только безумец способен полюбить женщину всего-навсего за то, что она походит на другую! Как всегда, в его натуре верховодит дух подражания. Теперь он бездарно копирует себя самого. Хочет снова пережевывать жвачку своей первой любви. Однако чем нелепее страсть, тем она крепче и глубже. Что ж, Юлиус, если ты так держишься за свои мальчишеские влюбленности, я найду способ воспользоваться твоей слабостью, уж будь покоен. Да, любовное безумие старого волокиты проторит мне тропку к его богатству, подобно тому как глупость наших политических предводителей откроет мне дорогу к власти. Все нити у меня в руках, я – подлинный хозяин положения!»
И возвратившись в дом, Самуил Гельб поднялся к себе, чтобы переодеться.
Он решил навестить синьору Олимпию.
«Вперед, Яго, – сказал он себе, – иди спасать Отелло!»
XII
СДЕЛКА
В тот же день около трех часов Самуил Гельб позвонил у дверей Олимпии.
Слуга открыл ему.
– Извольте спросить синьору Олимпию, может ли она принять господина Самуила Гельба.
Слуга исчез, но почти тотчас возвратился и объявил:
– Госпожи нет дома.
Самуил нахмурился. Ничто так не досаждало его высокомерной натуре, как все эти мелочные препятствия на пути к цели. Однако он смирил гордыню и позволил себе некоторую настойчивость:
– Если бы вашей госпожи не было дома, вы сообщили бы мне об этом тотчас, а не пошли справляться у нее, может ли она меня принять. Значит, она дома, но ее нельзя видеть. Будьте же так любезны, пойдите к ней вновь и скажите ей, что я прошу ее извинить меня за мою назойливость, но мне необходимо сообщить ей нечто чрезвычайно важное и неотложное.
Лакей вышел и на этот раз не появлялся несколько долгих минут.
«А-а, – с горечью сказал себе Самуил. – Они, видите ли, в сомнении… И право, что, собственно, такое этот господин Самуил Гельб, решившийся побеспокоить нашу певичку! Да, в который раз случай напоминает мне: пора обзавестись состоянием. Ум и душа не требуют украшений, орденов или титулов, но любой осел, обвешанный подобными знаками достоинства словно святыми реликвиями, скорее сподобится всеобщего поклонения, нежели гений без оных. Нет, мне надобны бросающиеся в глаза приметы земного величия, грубые, осязательные. Прежде всего богатство. Как бы дорого не запросило зло за благородный металл, я согласен платить…»
Но тут дверь, за которой скрылся слуга, наконец растворилась и Самуила ввели в гостиную.
Олимпия сидела в кресле у огня, а Гамба – верхом на стуле.
Самуил отвесил низкий поклон. Олимпия, не вставая с места, суровая, холодная, слегка удивленная, молчаливым жестом предложила ему сесть.
– Сударь, – произнесла она, – вы полагаете, что можете сообщить мне что-либо важное?
– В высшей степени важное, сударыня.
– Что ж, я вас слушаю.
Самуил бросил взгляд на Гамбу.
– Тысячу раз прошу прощения, сударыня, но то, что я должен вам сказать, может быть сказано только наедине.
– Гамба мой брат, – отрезала Олимпия, – и у меня нет от него секретов.
– О, я не любопытен, – поспешил вставить Гамба в восторге от возможности избежать разговора, грозившего оказаться серьезным. – Судя по началу, похоже, что беседа будет не из шутливых, а ты ведь знаешь, там, где надо изречь что-нибудь глубокомысленное, я предпочитаю обходиться пантомимой. Лучше мне улизнуть.
И он устремился к двери.
– Гамба! – крикнула Олимпия.
Но он был уже далеко.
– Что ж, – сказала Олимпия. – Теперь, когда мы одни, – она окинула его надменным и властным взглядом, – прошу вас, будьте кратки, и покончим с этим.
– Я не прошу ничего иного, кроме позволения говорить с вами начистоту, – заявил посетитель. – Пришел я затем, чтобы просто-напросто предложить вам сделку. Вы не были бы той великой артисткой, какой вы являетесь, если бы не стояли выше предрассудков толпы и вульгарной щепетильности. Итак, я полагаю, что вы примете мое предложение, и в этом случае, коль скоро молчание будет первейшим условием нашего договора, я уверен, что вы будете молчать. Но, поскольку, может статься, вы откажетесь, я не хочу понести ущерб из-за вашей нескромности и прошу вас дать мне слово сохранить в тайне все, что будет сказано между нами.
– Клятву?
– И я вам скажу, какую. Я ведь скептик, привык все подвергать сомнению и уже не в том возрасте, чтобы верить любой клятве. И вместе с тем я верю, что всякое человеческое существо, которое чего-то стоит, имеет свою религию, нечто святое, будь то Бог для одних, любовь для других, собственное «я» для третьих. Сам я как раз из числа последних. Что до вас, то вы веруете в искусство. Поклянитесь же мне вашей священной музыкой навечно сохранить в тайне все, что я сейчас вам скажу.
– Простите, сударь, – заметила Олимпия, – но с какой стати мне связывать себя какими-то обещаниями по отношению к вам? Это ведь не я нуждаюсь в вас, не я пришла к вам, не я искала встречи. Напротив, похоже, что я вам нужна, раз вы явились сюда. Я не просила вашей откровенности, и ваши предложения мне не интересны. Не навязывайте мне всего этого. Вы вольны молчать, но я хочу оставить за собой право говорить все, что пожелаю.
– Что ж, пусть так, – усмехнулся Самуил. – В сущности, мне-то что? Мы здесь одни, нас никто не слышит. Если бы вы заговорили, ничто не помешает мне все отрицать. Таким образом, худшим следствием вашей нескромности окажется то, что мой замысел не осуществится. Но коль скоро разболтать это с вашей стороны будет равносильно отказу, дело в таком случае все равно провалится. И потом, предать меня значило бы объявить мне войну, а когда у меня есть враг, бояться надобно ему, а не мне.
Произнося последнюю фразу, Самуил устремил на Олимпию пристальный взгляд.
Но она не опустила глаз и отвечала Самуилу взглядом, стальной блеск которого говорил о твердости характера, закаленного не хуже, чем его собственный.
– К делу, сударь! – произнесла она с некоторым нетерпением.
– Вам угодно, чтобы я был кратким и выражался ясно, – уточнил Самуил. – Что ж, сударыня, это и мне подходит.
– Говорите же.
– Я пришел к вам с предложением руки.
– Вы? – воскликнула певица тоном, в котором презрения было не меньше, чем удивления.
– О, не беспокойтесь, сударыня. Вашей руки я прошу не для себя.
– Для кого же?
– Я сюда явился, чтобы спросить вас, не желаете ли вы стать супругой господина графа фон Эбербаха.
– Графа фон Эбербаха? – повторила она, вздрогнув.
– Да, сударыня.
Несколько мгновений оба молчали. Потом Олимпия спросила:
– Господин прусский посол поручил вам сделать мне подобное предложение?
– Ну, не совсем так, – сказал Самуил. – Я даже признаюсь вам, что он не проронил об этом ни звука.
– В таком случае, сударь… – произнесла она, поднимаясь с места.
– О сударыня, не сердитесь и соблаговолите сесть, – промолвил гость в ответ на жест певицы. – Не думайте, что я пытаюсь оскорбить вас насмешкой, слишком тупой, чтобы ранить. Мое предложение серьезно. Если вы хотите быть женой графа фон Эбербаха, вы ею станете. Он со мной об этом не заговаривал – что правда, то правда. Такой замысел возник в моей голове, но, может статься, даже лучше, что именно я, а не он сам пожелал этого. Об этом-то мне и надо поговорить с вами.
– Объяснитесь, сударь, – сказала Олимпия, – и сделайте милость, поскорее. У меня нет времени разгадывать ваши загадки.
– Я все объясню, – продолжал Самуил. – Но прежде всего поймите: на карту поставлена судьба трех человек. А чтобы вы удостоили серьезного внимания мои слова, для начала замечу вам, что из этих троих наименее заинтересованная персона – это я, а наиболее заинтересованная – вы.
– Если можно, без предисловий!
– Вы не любите предисловий? – усмехнулся Самуил. – А напрасно: иное предисловие стоит больше, чем сама книга, да и с предисловиями к любви все обстоит так же. Сама жизнь в конце концов не более чем предисловие к смерти. И однако находится мало охотников поспешить перевернуть страницу.
Впрочем, виноват, мне же приказано избегать многословия.
Хотя предложение, которое я вам только что сделал, выглядит странным, вам не стоит ни оскорбляться, ни удивляться. Вы не знаете меня, и я вас не знаю, однако так неожиданно вторгаюсь в вашу жизнь. Но вскоре вы узнаете меня поближе, я же, со своей стороны, не премину лучше понять вас. Я и теперь уже не сомневаюсь, что разгадал вас: мне довольно было послушать ваше пение в тот вечер у герцогини Беррийской и вчера ночью у лорда Драммонда. Чтобы вы сумели так сильно меня взволновать, чтобы ваш голос до такой степени поразил меня, вам надо было много выстрадать, познать жизнь в ее глубочайших первоосновах. Я тотчас понял, что искусство для вас то же, что для меня наука: высшее призвание. Мы с вами оба принадлежим к великому масонскому братству высоких, гордых и скорбных душ, наделенных знанием, волей и прозорливостью. Итак, мы говорим на одном языке, нам легко друг друга понять.
Ну, и что же вы скажете о людях, сестра? Они мелочны и злы, не так ли? А о жизни что вы думаете? Не правда ли, она убога и скоротечна? Разве есть в этом мире кто-то или что-то, чему стоило бы отдать себя, приносить жертвы, отказаться хотя бы от малой части собственной личности? Случалось ли вам встретить в этом мире подлинное величие? В искусстве или, может быть, в любви? Да, было бы недурно, если бы человек мог не делать ничего другого, только любить и петь. Но его подстерегает тысяча невзгод, тысяча скорбей и, что всего хуже, тысяча забот, преграждающих ему путь. Ценой скольких разочарований, зависти, жестоких сцен, унизительных подозрений, недостойных связей покупается несколько мгновений истинного счастья, малые крохи любви, отпущенные на все человеческое существование! А сколько переговоров, сколько лести в адрес авторов драм, театральных директоров и публики, сколько унижений таится за кулисами внешнего блеска и славы величайших певиц! За все приходится платить. И когда приходит успех, он не искупает всех тех треволнений и душевных тягот, что предшествовали ему.
Единственное безусловное знание, которое приносит опыт, состоит в том, что душа, ум, страсть, гений не могут существовать без всего остального, материального, – без плоти, одежды. Толпа ничего не замечает, кроме того, что бросается в глаза. Легко говорить: «Суждения черни меня не заботят!» Однако и самая твердая убежденность способна поколебаться, если ее правота не подкреплена успехом. Всем нужно это эхо, отзыв, повторяющий их мысли и доказывающий реальность их существования. Следовательно, преуспеть необходимо, однако достигает этого не талант сам по себе, но умение пустить его в ход. Здесь не сердце важно, а наряд. Самый крупный алмаз, пока он не обработан, остается лишь камушком, и любой мужлан будет топтать его подошвами своих сабо. Но отшлифуйте его, и вы сможете получить за эту драгоценность ключ от кабинета короля или спальни королевы.
На улице, меж четырех свечей, вы сколько угодно могли бы петь ту самую великолепную мелодию, что пели в тот вечер, но ни один из господ, которые так вам рукоплескали в Тюильри, и не подумал бы остановить свою карету, чтобы послушать вас. А если бы повозки, запрудившие улицу, вынудили его остановиться помимо собственной воли, ему, разумеется, и на ум бы не пришло восторгаться тем, что он слышит, и, вернувшись к себе домой, рассказывать, как он только что наслаждался искусством величайшей певицы своего времени.
Мое заключение таково: гений есть не что иное, как великолепное блюдо, которое нуждается в соусе. Превосходить людей тем, что есть у вас, этого еще мало. Надо их превзойти и в том, что есть у них. Тут двойная задача: иметь то, чего они не имеют, и завладеть тем, что у них есть. Какими бы достоинствами я ни обладал, сколько бы преимуществ ни было у вас, и вы и я ничего не будем собой представлять до тех пор, пока не сумеем самым реальным образом воздвигнуть материальный пьедестал для нашего морального превосходства. Так вот, я сюда явился затем, чтобы предложить вам заключить оборонительный и наступательный союз против людской глупости. Чтобы заслужить в обществе полное уважение, к величию духа необходимо прибавить высокое положение и солидное состояние. Я предлагаю вам и то и другое. Хотите?
Олимпия слушала Самуила внимательно, не перебивая.
Что происходило в душе и мыслях этой женщины? Разделяла ли она высказанные Самуилом горькие мысли о жизни, вспоминала ли прежние страдания, обиды, что ей приходилось сносить от богатых глупцов в пору, когда она еще не стала прославленной актрисой? Или жестокие, безжалостные речи Самуила пробудили в ней старинную печаль, память о лживых клятвах, неверие в постоянство человеческих чувств, скептицизм обманутой любви, попранной страсти? Таилось ли в ее прошлом что-то душераздирающе мучительное и все же дорогое, какая-то утрата, воспоминание о которой служило слишком неопровержимым подтверждением презрительных умствований Самуила Гельба? Или, может быть, великая певица просто-напросто была женщиной до мозга костей и ее как истинную дочь Евы заворожил соблазн запретного положения, так что ей не терпелось узнать, где та дверь, что откроет ей путь к богатству и власти? Или, наконец, хотя это предположение было наименее вероятным и ничто, кроме разве легкой Дрожи, которой Олимпия не сдержала, услышав из уст Самуила имя графа фон Эбербаха, не подтверждало подобной мысли, но все же, может быть, певица стремилась узнать, что именно замышляет Самуил против прусского посла, чтобы в случае необходимости предостеречь его?
Как бы то ни было, она не без некоторого волнения спросила:
– Вы дадите мне положение и богатство? Но как?
– Будьте покойны, – отозвался Самуил, – я знаю, как надо действовать. Что всегда мешает благородным натурам обогатиться? Недостаток времени, которое пришлось бы на это потратить: им некогда экономить и копить экю, ибо они заняты накоплением идей. Экю валяются на земле, идеи же витают в небесах. Чтобы разбогатеть, пришлось бы нагибаться, а это не всем по душе. Я, подобно вам, жил для того, чтобы обогащать мой дух, а не чтобы наполнять карман. Но сейчас представляется отличный повод нам обоим сразу составить себе состояние. Без гнусной скаредности, без нужды провести добрых два десятка лет, складывая лиары и сантимы. Я предлагаю вам вот что: за пару лет заработать десять миллионов.








