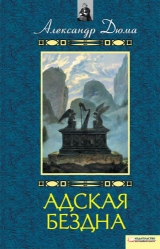
Текст книги "Бог располагает!"
Автор книги: Александр Дюма
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 45 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
– Вам так представляется?
– О сударь, не спрашивайте ее, – ласково произнесла Фредерика. – Она таинственна, как запертая дверь. И нет такого ключа, что помог бы раскрыть ее секреты. Она мне клялась своей бессмертной душой, что мы с нею даже не родня, но каждый год она проделывает двести или триста льё, чтобы повидать меня всего на несколько минут. Она приходит в отсутствие моего опекуна, упорно избегая встреч с ним, спрашивает, здорова ли я, счастлива ли, – и удаляется.
– Она говорит с вами, только если вы одна? – спросил Лотарио.
– Ну да, одна, – сказала Фредерика.
– Мне пора уходить, – горестно вздохнул Лотарио.
– Нет, нет, – с живостью возразила незнакомка. – Вы – это совсем другое дело, вам можно остаться. Я не скажу ей ничего такого, что вам нельзя было бы услышать. Вы не такие уж чужие друг другу.
– О, так мы не чужие! – радостно вскричал Лотарио.
– Но я никогда прежде не видела этого господина, – возразила Фредерика.
– А я, – признался Лотарио, – впервые увидел фрейлейн вчера утром на террасе.
– Ах, так вы меня видели?
Лотарио осекся, сконфуженный тем, что так торопливо проговорился. Ему казалось, будто по его лицу легко прочесть все, что творится в его сердце.
Немка смотрела на них с улыбкой.
– О, – прошептала она, – вдвоем они могли бы создать рай, если бы Адская Бездна не пролегала между ними.
Затем она обернулась к девушке:
– Ну же, Фредерика, расскажите, что с вами случилось за тот год, что мы не виделись?
– Ах, мой Бог, да ничего особенного, – отозвалась Фредерика. – У меня неделя за неделей проходят, похожие одна на другую. Всегда то же существование, простое, мирное. Те же занятия, те же лица. Ничего нового не происходит. Я работаю, шью, читаю, музицирую, молюсь, думаю о своем отце и своей матери, хотя никогда их не знала.
– Совсем, как я, – промолвил Лотарио.
– А… тот, кого вы называете своим опекуном? – проговорила крестьянка, и ее лицо потемнело.
– Он всегда добр и предан.
– И вы с ним счастливы?
– Совершенно счастлива.
– Странно, – пробормотала неизвестная. – Это очень странно. Господень промысел неисповедим… Ну, да все равно! Не говорите ему ни слова о моем посещении.
– Вам бы не надо требовать этого от меня, – сказала Фредерика.
– Как так?
– Ну, послушайте! Эти ваши тайны… Мне порой бывает совестно, – сказала прелестная девушка. – Мой опекун вырастил меня, воспитал, так имею ли я право принимать кого-то без его ведома, таить от него то, что происходит под его кровом, не доверять ему? И если бы хоть у меня были для этого какие-то исключительные причины! Но когда я пробую выспросить их у вас, вы молчите. Вы даже не хотите мне сказать, кто были мои родители. Мой опекун говорит, что ничего не знает о моем происхождении. Умоляю вас, расскажите мне хотя бы о моей матери. Вы должны были ее знать! Вы знали ее!
– Нет, нет, не расспрашивайте меня, – взмолилась крестьянка. – Я не смогу вам ответить.
– Что же, раз вы не хотите говорить со мной о моей матери, я стану думать, что вы приходите сюда с дурным умыслом, что вас подослали какие-то враги, чтобы шпионить за мной и, может быть, даже меня погубить.
Крестьянка встала. Слезы навернулись ей на глаза.
Перед этим немым упреком Фредерика не могла устоять. Она бросилась на шею незнакомке и стала просить у нее прощения.
– Милое мое дитя, – произнесла крестьянка, – никогда не подозревай меня в злых намерениях. Это причиняет мне боль, но еще больше вреда это принесет тебе самой. Почему я так пекусь о тебе? Тому есть тысяча причин, но я не могу говорить с тобой о них. Некогда в час смятения я совершила поступок, который может очень дурно отозваться в твоей судьбе. До сих пор Господь нас хранил, и то, что могло бы тебя погубить, похоже, оборачивается к лучшему. Но как знать, что нам готовит будущее? Если с тобой стрясется беда, не кто иной, как я, буду в ней повинна. Вот почему моя жизнь посвящена тебе. Ты можешь взять ее, когда пожелаешь: она твоя. Как только я тебе понадоблюсь или просто возникнет что-то, о чем надо будет мне сообщить, что бы это ни было – перемена ли судьбы или перемена жилья, – напиши мне, как ты по своей доброте всегда делала прежде, по тому же адресу, в Гейдельберг. Чтобы в конце концов не вышло так, что я потеряю тебя из виду. О, молю тебя, верь мне!
Она повернулась к Лотарио и продолжала:
– Вы остаетесь в Париже, так вот, в поручаю ее вам. Приглядывайте за ней, не спускайте с нее глаз. Она со дня на день может оказаться в страшной опасности, о которой не подозревает.
– К несчастью, – проговорил Лотарио, – я не имею права покровительствовать фрейлейн.
– Да нет, вы имеете! – возразила незнакомка. – Я вам клянусь, что имеете.
– В самом деле? Однако фрейлейн Фредерика едва ли признает за мной такое право.
– Я от чистого сердца и всей душой признаю право каждого покровительствовать тем, кто находится в беде, – сказала Фредерика. – Но мне не нужна ничья защита, ведь у меня есть мой опекун.
Крестьянка с горькой усмешкой покачала головой.
– Но мы будем видеться, фрейлейн, – сказал Лотарио в восторге от возможности быть причастным к жизни Фредерики. – Ваш опекун старинный друг моего дяди, они возобновят знакомство, и мне будет позволено иногда бывать здесь. Дядя позволит, чтобы господин Самуил Гельб принимал меня у себя. В эту самую минуту господин Гельб находится в нашем посольстве, и возможно, что я еще застану его, вернувшись туда. Я попрошу, чтобы меня ему представили. Какое счастье!
– А, так они снова встретились? – пробормотала незнакомка так тихо, словно говорила сама с собой. – Так, стало быть, Самуил опять нацелил свои когти на Юлиуса? Тем хуже! Теперь жди новых бед. – И она, возвысив голос, обратилась к юноше: – Лотарио, оберегай ее и самого господина графа тоже. Я же возвращаюсь к себе домой, довольная настоящим, но в страхе за будущее. Прощай, Фредерика, я вернусь не раньше чем через год.
– Ах, – блаженно вздохнул Лотарио, – зато я вернусь самое позднее через два дня.
Незнакомка поцеловала Фредерику в лоб, прошептала слова благословения так тихо, что нельзя было расслышать, и вышла из гостиной.
Фредерика проводила ее до калитки, и крестьянка вместе с Лотарио удалились, оставив Фредерику во власти того мечтательного, неясного волнения, какого не могло не заронить в сердце юной девушки это неожиданное сближение с очаровательным, элегантным молодым человеком, чье появление впервые нарушило привычное течение ее уединенной жизни.
VII
У ОЛИМПИИ
Олимпия занимала апартаменты во втором этаже старинного особняка благородного и сурового вида, что находился на южной набережной острова Сен-Луи.
Войдя в ее покои, никто бы не подумал, что попал в обиталище актрисы. Здесь совсем отсутствовал дух новейшей легковесности, погони за самой последней модой, той, что родилась сегодня на рассвете, считается необходимой днем, а на следующее утро выглядит непозволительно устаревшей. Не было и нелепой роскоши, тяга к которой свойственна выскочкам, никакого особенного блеска и кокетства. Дверь из прихожей вела в столовую, обтянутую старинными гобеленами. Гостиная, сплошь отделанная дубом и украшенная резьбой, тут и там изображавшей розы и виноградные кисти, с потолком, расписанным Лебреном, гармонировала со строгой меблировкой.
Лишь большое черного дерева фортепьяно с золотой инкрустацией, стоящее напротив камина, могло напомнить о том, какой великой артистке принадлежат эти апартаменты; не будь его, никто бы и помыслить не мог, что здесь обитает певица, а не светская дама.
В то время, когда мы взяли на себя смелость ввести наших читателей в покои певицы, что произвела такое смятение в душах на балу у герцогини Беррийской, Олимпия в просторном пеньюаре из белого кашемира как раз находилась в гостиной и давала распоряжения ливрейному лакею.
Олимпии было, по-видимому, года тридцать четыре. Следовательно, она находилась в полном расцвете своей яркой и величественной красоты, которую еще более подчеркивал золотистый тон кожи, изнеженной жарким солнцем Италии. Ее ласковые глаза, глубокая синева которых порой казалась почти черной, в иные минуты могли вспыхивать, выражая сильное чувство и свидетельствуя о решительном нраве. За ее добротой угадывалась сила, за женственной грацией – мужская воля.
Рыжевато-золотистые волосы в роскошном и величавом изобилии венчали ее голову, словно пламенный ореол, и струились вдоль висков. Лицо поражало сияющей белизной, напоминающей матовый блеск светлого мрамора.
Руки, достойные императрицы, гордый и гибкий стан, да и все в облике этой женщины отличалось теми особыми признаками, какими искусство отмечает своих избранников, выделяя их среди людской толпы, – короче, наружность Олимпии стоила ее голоса и являла взору само совершенство, прекрасное и безмятежное, призванное пленять взоры так же, как и слух.
– И не забудьте, Паоло, – говорила Олимпия лакею, – когда вы передадите полторы тысячи франков мэру округа, а другие полторы тысячи – кюре собора Парижской Богоматери, зайдите на обратном пути к той бедной женщине, чей сын угодил в рекруты, и вручите ей эту тысячу. Мне говорили, что этого хватит, чтобы выкупить ее сына. И она не будет больше плакать.
– Сказать ей, что меня послала госпожа? – осведомился лакей.
– Это ни к чему, – отвечала Олимпия. – Просто, не называя никаких имен, скажите ей, что вы из предместья Сен-Жермен.
Лакей удалился.
Не успела дверь гостиной закрыться за ним, как две или три подушки, лежащие на широком канапе, придвинутом вплотную к фортепьяно, вдруг зашевелились. Олимпия обернулась и увидела, как из груды шелковых подушек высунулась черноволосая курчавая голова с весьма подвижной и странной физиономией, с черными глазами и белыми сверкающими зубами. Свернувшееся в клубок тело человека, на чьих плечах находилась эта голова, все еще было скрыто подушками.
Продолжая лежать и даже не изменив позы, это существо изрекло:
– Итак, дражайшая сестрица, ты по-прежнему совсем ничего не оставляешь для себя самой?
– Какого черта ты там делал, Гамба? – спросила певица.
– Вопросом на вопрос не отвечают, – настаивал странный субъект. – Госпожа герцогиня Беррийская возымела разумную идею попросить тебя спеть у нее на балу и приятную идею вознаградить тебя за это пение, послав тебе двести луидоров. Если из этих двухсот луидоров ты отправила полторы тысячи франков мэру, столько же кюре и тысячу старухе, я снова спрашиваю, что же осталось тебе.
– Мне, – строго отвечала Олимпия, – остались четыре строки, которые Мадам продиктовала и собственноручно подписала. Разве благодарность, подписанная такой рукой, не драгоценнее, чем две сотни жалких луидоров? Ну а теперь, когда я ответила на твой вопрос, изволь и ты ответить на мой. Что ты там делал?

– Я? – хмыкнул Гамба. – Э, черт возьми! Шпионил. Подсматривал за милосердными делами бескрылого ангела, в то же время упражняя гибкость бескостного человека. Когда ты неожиданно вошла в гостиную, мне как раз вздумалось немного поразмять мускулы и повторить кое-что из моих прежних кульбитов. Твое внезапное появление меня смутило, и, опасаясь быть застигнутым на месте преступления, то бишь шутовства, я зарылся в недра этого канапе, где бы и остался погребенным до твоего ухода, если бы не восклицание ужаса, которое исторгла у меня твоя добродетель.
Проговорив это, синьор Гамба проворно соскочил с канапе, одним великолепным прыжком достиг стола, за которым сидела Олимпия, и застыл как вкопанный прямо перед ней.
– Чудак! – улыбнулась она.
Он и в самом деле был странным, любопытным созданием, этот Гамба. Маленький, стройный, с тонкой талией и квадратными плечами, с шеей молодого быка – смесь хрупкости и мощи, порывистый, с узкими запястьями, с женскими пальцами и железной хваткой Геркулеса. Но что особенно поражало при взгляде на него, так это бросающееся в глаза несоответствие между его костюмом и манерой держаться. Было заметно, что его природная живость никак не мирилась с фраком и панталонами, и хотя он, конечно, носил панталоны с широкими складками, штрипки и подтяжки все же причиняли ему истинные мучения. Такую одежду носили все, но ему в ней было неуютно, а фрак придавал ему сходство с клоуном, загнанным в клетку.
Лишь одна деталь костюма Гамбы, должно быть, пленяла его фантазию южанина настолько же, насколько она бы шокировала нас с нашими ограниченными понятиями о хорошем вкусе: в ушах у него болтались два широких золотых кольца, и при каждом порывистом движении головы они слегка били его по щекам и своим сверканием усиливали блеск его глаз. Ничьи мольбы, никакие обстоятельства не могли бы принудить Гамбу отказаться от этого ослепительного украшения.
Олимпия сдержала улыбку, которую вызвал у нее внезапный прыжок Гамбы, и приняла самый серьезный вид, какой только смогла.
– Стало быть, мой любезный брат так никогда и не усвоит достойных манер и не научится сдерживать себя? – укорила она его. – А ведь в свои без малого сорок лет моему старшему братцу пора бы хоть немного поубавить резвости.
– Ах, черт возьми, тем хуже! – воскликнул Гамба. – Здесь же сейчас никого нет. Лорд Драммонд нас не видит. Позволь мне хоть чуточку поразмяться. Знала бы ты, как мне надоел высший свет вообще и Париж в частности! Что за кошмарная страна эта Франция! Солнце, потрудившись дня два в неделю, отдыхает остальные пять. Меня от этого тоска берет и насморк одолевает. И в довершение всего еще лорд Драммонд, это исчадие тумана. Думаю, corpo di Вассо [1]1
Черт возьми (ит.).
[Закрыть], что здесь я в конце концов стану жалеть даже о скучной Вене с ее климатом!
Олимпия болезненно вздрогнула:
– Ты же обещал мне, брат, никогда не заводить речь о Вене, об этих двух месяцах, что мы провели там.
– Это верно! Ох, сестрица, прости! Я дурак и болтун. Поговорим лучше об Италии. О, милая Италия!
– Ты так любишь Италию, Гамба!
– Как родную мать, – отвечал Гамба, и голос его смягчился, а глаза так повлажнели, как будто он готов был всплакнуть.
Справившись с собой, он продолжал:
– И потом, в Италии тепло, там солнце. К тому же там у меня были друзья почти что в каждом городе: фонарщики, танцоры из кордебалета, суфлеры. По ночам после представления мы с ними отправлялись в кабаре, я сбрасывал одежду, и надо было видеть, как я тогда вытворял все, что природа и фантазия могут позволить такому, как я, человеку-змее. А сколько рукоплесканий, какие крики восторга! Теперь все не так, и здесь я никого не знаю. Вместо того чтобы наняться в театр, где я бы не замедлил завязать почтенные знакомства среди статистов и пожарных, ты величественно сидишь в особняке, где я обречен водить компанию с лордами и принцами. Какая скука! Приходится днем и ночью корчить из себя важную персону, чопорного богача в галстуке и перчатках, а побыть шутом никак невозможно! Никогда не делать того, что тебе по вкусу – разве это жизнь?
Я так тебя люблю, что ради тебя принужден выносить весь этот блеск, послушно ложусь спать в роскошных покоях, терплю слуг, стоически присутствую на блистательных обедах. Но мне не хватает моей бедности, доброго сна на свежем воздухе, макарон, которыми торгуют на площадях, а больше всего – крепкого каната и акробатической пирамиды. Ах! Подумать только, что есть бедняки, умудряющиеся завидовать богатым!
Свои смешные жалобы Гамба высказывал таким проникновенным тоном, что Олимпия, хоть и посмеивалась, почувствовала себя почти растроганной его нелепыми сетованиями.
– Не печалься, мой славный Гамба. Твои желания могут исполниться куда раньше, чем ты мог бы надеяться, а я – хотеть.
– Мы вернемся в Италию?
– Увы, да! – вздохнула Олимпия. – Хотя я люблю Париж, не то, что ты.
– Раз ты его любишь, – уныло прервал бедняга, – давай останемся.
– Нет, – отвечала она. – Париж мне дорог как священный город искусств, столица великих умов, где только и могут быть окончательно и несомненно коронованы славой артисты и мыслители. Ведь Париж создает имена и репутации. Никто не вправе быть уверенным в себе, пока Франция не произнесла своего суждения о нем. И вот однажды, усомнившись в своем вдохновении и власти своего искусства, я ощутила непреодолимую потребность явиться сюда, чтобы спросить этого верховного судию, чего я на самом деле стою. Верно и то, что лорд Драммонд умолял меня отправиться с ним в Париж. Я надеялась, что смогу здесь петь, хотя лорд Драммонд – ты знаешь, как он ревнив в том, что касается моего пения – заранее объявил, что будет препятствовать этому. Я попыталась, не сказав ему об этом, получить ангажемент в Итальянской опере. Но он это, похоже, предвидел. Напрасно я шла на все мыслимые уступки, готовая петь чуть ли не бесплатно, – мне отказывали, приводя любые доводы: что все ангажементы уже разобраны, что они опасаются, как бы я не составила конкуренцию их модным дивам… В общем, двери театра были передо мной закрыты. Что ж! Вернусь туда, где они открыты для меня, потому что, видишь ли, Гамба, мне необходимо петь.
– Как для меня – прыгать! О, уж это-то я понимаю! – вскричал Гамба. – Да, да, еще бы! Сила глотки или сила ног – какая разница? Но видеть кругом разинутые рты, слышать рукоплескания, вызывать восторг – вот это жизнь!
– Нет, – возразила Олимпия, с глубокой печалью покачав своей прекрасной головой. – Нет, не то. Если я люблю пение, божественные мелодии, творения великих музыкантов и эту возвышенную отраду, которую нам дарит искусство, то не ради криков «браво», не во имя славы и почета, а ради себя самой, тех чувств, которые я испытываю и которыми делюсь с другими, во имя возможности выплеснуть то, что мучительно переполняет мое сердце. Во мне живет нечто такое, что, как мне кажется, просто задушит меня, если не излить его в пении. Я не затем пою, чтобы мне аплодировали, братец, а чтобы жить.
– Ладно, не важно, – сказал Гамба. – Ты задумала покинуть Париж?
– Да.
– И возвратиться в Италию?
– Да.
– Скоро?
– Самое позднее через две недели.
– Так это правда? Ты говоришь это не для того, чтобы обмануть твоего бедного Зорзи?
– Я тебе обещаю.
В комнате было два золоченых кресла, прислоненных друг к другу спинками. Ни слова не ответив, Гамба вдруг запрокинулся навзничь, в падении пришелся позвоночником на эту двойную спинку и, проделав немыслимый кульбит, очутился по другую сторону кресел, прямой, как свеча, с плотно сдвинутыми ногами.
Такова уж была его манера выражать радость.
Олимпия испуганно вскрикнула.
– Несчастный, – простонала она, уже улыбаясь, – ты кончишь тем, что сломаешь себе шею. Не говоря о том, что мою мебель ты уже начал ломать.
– Ах! Ты меня оскорбляешь! – возмутился Гамба, задетый в своем самолюбии искусного акробата.
И словно бы затем, чтобы отомстить за столь обидные опасения, он вспрыгнул на канапе, перескочил на сундук, а оттуда стал взбираться на что-то вроде огромного деревянного с позолотой канделябра, на котором стояла громадная японская ваза. На нее-то он и перебрался и принялся раскачиваться там, чудом удерживая равновесие.
– Да спустись же, я тебя прошу! – в ужасе воскликнула Олимпия.
– Будь покойна, – отвечал он, – это я торжественно отмечаю наше славное возвращение в Италию.
Надув щеки, он стал голосом изображать звук трубы, а руками имитировать движения трубача, потом громко запел:
– Тара-ра! Тара-ра! Тара-ра!
Внезапно пение застряло у него в глотке, и Олимпия с удивлением заметила, как он побледнел и мгновенно приобрел самый жалкий вид.
Причиной тому было появление лорда Драммонда.
Он вошел незамеченным: гром фанфар Гамбы заглушил слова лакея, когда тот вошел, чтобы доложить о его приходе. Так и вышло, что Гамба вдруг оказался лицом к лицу с холодной суровостью несгибаемого джентльмена.
Обескураженный, Гамба не столько спрыгнул, сколько свалился на пол с высоты своей вазы.
Не в силах сдержаться, Олимпия весело рассмеялась.
Лорд Драммонд, стараясь не дать воли раздражению, смотрел на певицу взглядом, полным молчаливого упрека за то, что она поощряет в своем брате склонность к развлечениям столь дурного тона.
Но она, не обращая внимания на его кислую мину, продолжала от души хохотать.
Гамба, обиженный такой ее веселостью, колебался, не уйти ли ему, но при одной мысли о том, что для этого придется пройти через гостиную перед самым носом у такого важного господина, на лбу бедного акробата выступил холодный пот. Дверь была далеко, канапе – близко, и он, выбрав канапе, молча опустился на него, стараясь, однако, принять достойную и приличную позу.
Он мог бы удалиться без малейшей неловкости: лорд Драммонд больше не обращал на него внимания. В присутствии Олимпии он переставал видеть что бы то ни было, кроме нее одной. Его взгляд, обычно учтивый, но холодный, обращаясь к ней, наполнялся невыразимым восхищением, смешанным с нежностью, в нем сияла симпатия, переходящая почти в восторг.
Певица протянула лорду руку для поцелуя.
Потом она предложила ему кресло, и оба сели у камина.
– Мой милый лорд, – сказала она, – чему я обязана удовольствием видеть вас в столь ранний час?
– Я пришел просить об одной милости, сударыня.
– О милости? Меня?
– Да, я сегодня даю званый ужин и прошу вас быть на нем… О, разумеется, не одну! С вашим братом.








