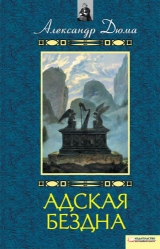
Текст книги "Бог располагает!"
Автор книги: Александр Дюма
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 45 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
XXV
ЛЮБОВЬ, ВЕСЬМА ПОХОЖАЯ НА НЕНАВИСТЬ
Самуил сдержал слово, данное Юлиусу: он устроил Фредерику и г-жу Трихтер в одном из покоев посольского особняка, сам же расположился в комнате по соседству со спальней больного.
Итак, они не покинули Юлиуса.
Граф фон Эбербах прошел через все возможные муки, перемежаемые краткими часами облегчения. Несколько раз Самуил совсем было терял надежду, что больной выживет, потом недуг, казалось, отступал, побежденный, потом снова брал верх…
Целую неделю Юлиус пролежал в кровати, воскресая к утру, погибая по вечерам.
На восьмой день стало заметно существенное улучшение.
В тот день должен был состояться, уже в третий раз, консилиум четырех или пяти знаменитых докторов, каких всегда можно отыскать в Париже.
Часовая стрелка только что перешла за полдень. В комнате больного Фредерика, склонясь к его изголовью, поила графа целебным настоем из чашки.
Самуил наблюдал, сидя в ногах постели. Только ли состояние пациента было предметом его наблюдений?
Юлиус возвратил Фредерике чашку, поблагодарив ее взглядом, полным умиления.
– Так что же? – спросила она. – Как вы находите, это хорошее средство? Оно помогает? Вам лучше?
– Да, – отвечал граф фон Эбербах, – это хорошо, как все, что исходит от вас. Но больше всего мне помогает не ваш отвар, а ваше присутствие. Будьте покойны, вы меня вылечите. Входя сюда, вы несете с собой все радости жизни. За один день вы нашли средство дважды спасти меня. Я буду жить хотя бы затем, чтобы не пропало даром столько трогательных забот. Мне кажется, я из одной благодарности должен, просто обязан воскреснуть.
– Не разговаривайте так много, – попросила его Фредерика, – а главное, не тратьте сил на то, чтобы так все преувеличивать.
А Самуил все не спускал с них глубокого, непроницаемого взгляда, что был так ему свойствен.
В это мгновение появился Лотарио.
Он холодно, сурово приветствовал Фредерику, не менее церемонно ответившую ему реверансом. Потом он пожал руку своему дяде и, подойдя к Самуилу, что-то шепнул ему на ухо.
– А! – громко отозвался Самуил. – Это пришли врачи, которых мы ожидали.
– Зачем ты снова их пригласил? Чтобы попусту нас беспокоить? – промолвил Юлиус. – Я не доверяю никому, кроме тебя, и твоих забот мне вполне хватит. Впрочем, сейчас они еще и опоздали: я уже здоров.
– Я их и позвал, чтобы они мне это подтвердили.
– Раз уж они здесь, пусть их приведут, – сказал Юлиус, – и покончим с этим.
– Я выйду, – сказала Фредерика.
И она направилась было к двери.
– Нет, останьтесь, – сказал Юлиус. – Я хочу, чтобы вы остались. Вы и есть мое здоровье: если вас здесь не будет, они меня сочтут совсем больным и замучают скучнейшими предписаниями.
– Хорошо, – сказала Фредерика, – я пристроюсь здесь.
Она отошла и преклонила колена на молитвенной скамеечке, полускрытая складками полога.
Самуил растворил двери и пригласил врачей войти.
Он описал им, как за последние дни развивалась болезнь Юлиуса – все то, что происходило с пациентом со времени их предыдущего визита. Затем они сами принялись расспрашивать и осматривать своего подопечного.
Прошло около получаса, и доктора вместе с Самуилом отправились в гостиную, чтобы посоветоваться.
Фредерика и Лотарио остались у постели больного одни.
С минуту продолжалось молчание. Юлиус задумчиво переводил взгляд то на молодого человека, то на девушку.
– Фредерика! – окликнул он.
Она поднялась с молитвенной скамеечки и бросилась к нему.
– Ну как? У них был довольный вид? – спросила она.
– О, сейчас речь совсем о другом, – отвечал Юлиус. – Обо мне и моей болезни мы имеем возможность говорить целый день. Но коль скоро мы остались втроем и нас никто не слышит, мне надо с вами объясниться по поводу того, что у меня на сердце.
– О чем вы? – пробормотала Фредерика.
– Я хочу спросить вас обоих, дети мои, что вы имеете друг против друга.
– Что я имею против господина Лотарио? – в смущении повторила Фредерика.
– Ну, я ровным счетом ничего не имею против мадемуазель Фредерики, – отчеканил Лотарио весьма холодно.
– Я помню времена – с тех пор прошло не больше десяти дней, – когда, мельком увидев Фредерику всего один раз, Лотарио отзывался о ней с самым восторженным восхищением. Узнать ее поближе, говорить с ней, хотя бы увидеть ее было недостижимой мечтой. Что ж, милый Лотарио, теперь она здесь, ты видишь ее, говоришь с нею. И, вместо того чтобы сиять от восторга, ты стал угрюм, выходишь из комнаты, когда она входит, держишься так замкнуто, что это походит на враждебность. Какое зло она тебе причинила? Она заботилась обо мне, вылечила меня. И так-то ты стараешься ей за это отплатить? Так-то ты меня любишь?
– Вы заблуждаетесь, любезный дядюшка, – сказал Лотарио. – Я по-прежнему нахожу мадемуазель Фредерику очаровательной, милой и прекрасной, и то добро, что она сделала и продолжает делать для нас все эти дни, разумеется, не могло вызвать у меня охлаждения к ней. Но все это не основание досаждать ей своим восхищением, что было бы совсем неуместно.
– В твоей сдержанности заметно нечто большее, чем простая скромность, – настаивал Юлиус. – Наверняка между вами что-то произошло.
– Ничего не произошло, я вам клянусь.
– Решительно ничего, – подтвердила Фредерика.
– Да и Фредерика обходится с тобой не так, как со всеми прочими. Она, такая добрая, улыбчивая, сердечная, при тебе чувствует себя не в своей тарелке, как и ты при ней. Даже в эту самую минуту вы напрасно стараетесь выглядеть непринужденно, что один, что другая. И думаете, что вы преуспели в этом? Отнюдь! Вы обуздываете свои чувства, скрывая их под маской спокойного достоинства. Но в глубине ваших душ происходит нечто такое, что вы прячете от меня. Ну же, дети мои, это ведь нехорошо для меня в моем состоянии: я же люблю вас обоих, каково мне делить свое сердце на две половинки? За всем этим, верно, кроется какое-то недоразумение. Вы прямо сейчас же, в моем присутствии объяснитесь и помиритесь. Итак, сию минуту расскажите мне все, что случилось с вами.
– Да ничего не случилось, – сказала Фредерика.
– Нам незачем мириться, – прибавил Лотарио, – потому что мы не можем и не должны быть в ссоре.
– Если вы не в ссоре, почему же я не вижу в вас той веселости и беспечности, что подобает вашим летам? В конце концов, у вас нет никаких оснований ходить вот так с кислыми, вытянутыми физиономиями. То, что ко мне вернулось здоровье, не может служить достаточным объяснением для вашего уныния. Или вы хотите, чтобы я подумал, будто от меня скрывают мое истинное положение и я в куда большей опасности, чем воображаю?
– О нет, дорогой дядя, вы исцелились! – вскричал Лотарио.
– Что ж! Если причина вашей печали не во мне, стало быть, она исходит от вас самих. Итак, я в последний раз прошу вас помириться и в моем присутствии обменяться братским рукопожатием. Ну же, пусть тот из вас, кто меня больше любит, первым протянет руку. Фредерика, вы лучше всех, так неужели вы не сделаете первый шаг?
Фредерика, казалось, хотела протянуть руку, но удержалась от этого жеста. Какие бы чувства она ни испытывала в глубине сердца, но после ее разговора с Самуилом между ней и Лотарио выросла непреодолимая преграда. Зачем оживлять, пусть всего лишь жестом, мечты, которым не дано исполниться? Лучше сразу со всем покончить, ведь разумнее, да и милосерднее не дать зародиться чувству, которое потом все равно придется убить. Девушка не желала позволить надежде воспрянуть в сердце Лотарио, как и в своем собственном.
– Я прошу вас, Фредерика, – повторил граф фон Эбербах.
– Господин Лотарио только что сделал очень справедливое замечание, – отвечала она. – Невозможно помириться тем, кто не ссорился.
– Она не хочет начинать первая, – сказал Юлиус, обращаясь к Лотарио, – и правильно делает. Совершенно очевидно, что именно тебе надлежит попросить прощения и самому сделать шаг к примирению. Ну, Лотарио, докажи, что ты готов сделать это хотя бы для меня.
Лотарио не смел поднять глаз на своего дядю, боясь, что не сможет выдержать его взгляда.
– Дорогой мой дядюшка, – проговорил он, – доктора что-то задерживаются. Позвольте мне отправиться к ним. Вы не можете сердиться на меня за то, что выводы этого консилиума интересуют меня больше, чем что бы то ни было в целом свете.
Он чуть не бегом бросился к двери и скрылся за ней.
Обескураженный Юлиус упал на постель и повернулся лицом к стене.
Что же могло произойти между Фредерикой и Лотарио? Откуда этот внезапный переворот в чувствах Лотарио, почему он стал вдруг так холоден к той, о ком когда-то говорил с таким жаром и восхищением? Он любит ее и, быть может, опасается соперника? Чего доброго, ему не по душе заботы, которые Фредерика расточает больному? Неужели в своем дяде он видит «другого»?
Или, как знать, возможно, вовсе не ревнивец страдает в нем, а, увы, наследник? Что если его страшит и бесит внезапное вторжение посторонней в жизнь и душу дяди, на чье состояние он уже привык смотреть с надеждой как на свою будущую собственность? Он, до сей поры единственное дитя Юлиуса, возмущен при виде почти незнакомой девушки, которая вдруг является и говорит: «Поделимся?»
Между тем Лотарио никогда не проявлял ни малейших наклонностей к алчности и скупости. Но это еще ничего не доказывает. Юлиус слишком хорошо изучил жизнь и природу людскую, чтобы не знать, что характер проявляется сообразно обстоятельствам, инстинкты, не ведомые никому, даже самому их обладателю, дают о себе знать, как только под угрозой оказываются интересы человека. Да полно, спросил он себя, существуют ли вообще в действительности сердца достаточно благородные и стойкие, чтобы соблазны богатства не сбивали их с толку? Самые мощные натуры тают, как снег, под лучами, исходящими от луидоров. Перед деньгами все люди равны.
Несомненно в этом все дело. Лотарио мельком заметил Фредерику в Менильмонтане, нашел ее красивой, рассказывал о ней с восторгом, как любой молодой человек говорит о всякой хорошенькой женщине, а потом и не вспоминает о ней. Это беглое, минутное восхищение рассеялось без следа, сменившись озабоченностью, когда он увидел эту девушку обосновавшейся в доме его дяди и готовой оспаривать у него половину его наследства.
И бедняжка Фредерика вынуждена терпеть эту обидную перемену. Мало того, что она устает, окружая заботами дядю, сверх того ей приходится сносить дурное расположение племянника. При мысли об этом признательность Юлиуса еще более возросла.
Он повернулся к ней и ласково сказал:
– Моя добрая Фредерика, простите мне раздражительность Лотарио. Держитесь с ним как вам угодно: вы здесь у себя дома, и я не хочу, чтобы вы испытывали стеснение от чего бы то ни было. Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы все те, кто мне дорог, могли полюбить друг друга, но пусть все идет так, как по сердцу вам. И в любом случае будьте уверены, что я не стану сердиться на вас и никогда не смогу предпочесть вам кого-либо другого.
– Ах, сударь, – отвечала она спокойно, хотя немного печально, – не придавайте значения тому, как господин Лотарио обходится со мной. Я не прошу у него большего, чем он мне дает, и знаю, что ему удобнее держаться со мной в рамках вежливой сдержанности; ничего иного и не нужно. Если я нахожусь здесь, то не ради него, а ради вас, и он это прекрасно знает; что касается забот, которые вам угодно от меня принимать, я достаточно вознаграждена за них тем удовольствием, что я получаю, когда забочусь о вас.
– Мое дорогое дитя! – воскликнул Юлиус, прерывая ее.
– Верьте тому, что я вам говорю, господин граф, – продолжала Фредерика. – Я с первой минуты почувствовала глубокую, естественную привязанность к вам, и это само по себе дает мне радость. Еще никогда мне не было так хорошо, как в эти дни, когда я имела счастье вам послужить и быть для вас хоть немножко полезной.
– Такими словами, как эти, вы, Фредерика, поистине исцеляете меня.
– Господину Лотарио не за что ни благодарить меня, ни любить. Я ничего не сделала для него – все только для вас и для себя самой.
«Ясно! – подумал Юлиус. – Они друг друга не любят, и Лотарио терзается совсем не от ревности. Значит, в нем говорит тщеславие. О жалкая человеческая природа!»
И все же Юлиус еще сомневался, ему хотелось сомневаться в справедливости подобного заключения.
Дверь открылась; вошли Самуил и Лотарио.
У Самуила был очень веселый вид.
– Спасен! – провозгласил он. – Доктора весьма тобой довольны.
– Весьма довольны не только пациентом, но и врачом, – прибавил Лотарио. – Господин Самуил Гельб не может сам вам рассказать, какие похвалы они расточали его способу лечения, но я там был и о том свидетельствую.
– Нет надобности сообщать мнение докторов, – сказал Юлиус, – я и без того знаю, чем я обязан преданности и искусству Самуила.
– Мы отвечаем за твою жизнь: она вне опасности, – вмешался Самуил, желая переменить разговор. – Теперь тебе не нужно ничего, кроме терпения. Доктора сказали, что выздоровление, вероятно, будет очень длительным. Тебе придется всерьез беречься, потребуется много времени и заботы, чтобы восстановить и обновить твои силы, истощенные из-за твоей же безудержной беспечности.
– О, теперь я могу ждать! – сказал Юлиус. – Ведь вы все будете со мной, чтобы помогать мне жить.
– С вами будут господин Самуил и мадемуазель Фредерика, – сказал Лотарио.
– И ты тоже, Лотарио! Поверь, я очень на тебя рассчитываю.
– Ну, – возразил молодой человек, – я вам не так уж необходим с тех пор, как господин Самуил и мадемуазель Фредерика согласились поселиться в посольском особняке.
– Что ты хочешь этим сказать? – спросил граф фон Эбербах. А про себя подумал: «Так и есть! Оправдываются мои худшие предположения».
– Милый дядюшка, – продолжал Лотарио с видимым смущением, – теперь, благодарение Богу, я совершенно спокоен за вашу драгоценную жизнь. И мне пора хоть немного подумать о делах. Уже неделя прошла с тех пор, как мы совершенно их забросили. Тем не менее вы, может быть, помните, что я позавчера упоминал о необходимости отправить в Берлин посланца, какого-нибудь надежного человека.
– Договаривай, – обронил Юлиус.
– Так вот, дорогой дядюшка, вы теперь пришли в себя. И вы не один: вам и без меня будет куда менее одиноко, чем все последние годы…
– Ты хочешь уехать, – перебил его Юлиус.
– Я вам здесь не так уж необходим, а там был бы полезен.
– На Берлин мне плевать! – заявил граф. – Я не хочу, чтобы ты меня покинул.
– Однако же дела требуют этого, – настаивал Лотарио.
– Нет такого дела, которое бы того стоило, – отвечал Юлиус. – Если так, что ж: я достаточно болен, чтобы подать в отставку. Ты мне дороже, чем должность посла.
– Мой милый дядюшка, – сказал Лотарио, – я глубоко тронут вашей добротой, но подобной жертвы принять не могу. Разрешите мне повторить вам, что этот отъезд абсолютно необходим. Впрочем, я буду отсутствовать не более двух недель.
– Но ты нужен мне здесь. Уж если тебя так заботит посольство, то скажи: каким образом оно сможет без тебя обойтись?
– Господин Самуил, за последние три месяца оказавший нам столько услуг, теперь достаточно в курсе дела, чтобы занять мое место, на котором он окажется еще более полезным, чем я сам.
– Ну, Самуил, ты хоть уговори его, – попросил Юлиус. – У меня ведь мало сил для борьбы, и они уже истощились на просьбы.
Самуил слушал весь этот спор, не произнося ни слова, но неуловимая улыбка, проступившая на его губах, говорила о том, что чувства Лотарио ему понятны.
Когда молодой человек заговорил об отъезде, молния торжества сверкнула в глазах Самуила. Без сомнения, он был счастлив, что воздыхатель Фредерики избавляет его от небезопасного соперничества. К тому же томящая Лотарио потребность уехать подальше от возлюбленной служила лучшим доказательством того, что он с ней не поладил.
Возможно также, что отсутствие Лотарио благоприятствовало другому замыслу Самуила – замыслу, о котором он никому не говорил.
Таким образом, Самуил и не думал принуждать Лотарио остаться. Он сказал:
– Господину Лотарио лучше знать, где его присутствие более необходимо. Совершенно очевидно, что, если его поездка предотвратит твою отставку с должности посла, не стоит отказываться от той пользы, какую ты можешь принести своей родине, всего лишь из-за двухнедельной разлуки. Мы с Фредерикой беремся удвоить наши заботы, я в качестве секретаря, она в роли сиделки, и сделаем все от нас зависящее, чтобы ты ни в чем и ни в ком не испытывал нужды.
– Так ты все еще упорствуешь в своем желании меня покинуть, Лотарио? – спросил Юлиус.
– Так надо, дядюшка.
– Скажи, что ты так хочешь, это будет вернее. Значит, ничто не совершенно, всякая радость таит в себе какой-нибудь изъян, вот и ты портишь мне мое выздоровление. В конце концов, поступай как знаешь.
– Спасибо, дорогой дядя.
– Он меня благодарит за мое же огорчение! И когда ты думаешь отправиться?
– Чем скорее я уеду, тем быстрее вернусь.
– Так ты уезжаешь сегодня?
– Я уезжаю тотчас.
– Тогда прощай, – горестно вздохнул Юлиус, не в силах дольше сопротивляться.
В ту же минуту во двор въехал экипаж, послышалось щелканье кучерского кнута.
– Вот и лошади поданы, – сказал Лотарио.
– Уже! – воскликнул Юлиус. – Значит, ты все решил заранее?
– Для всех здесь присутствующих будет лучше, если я уеду, – заявил Лотарио. – Как только врачи сказали, что ваша жизнь вне опасности, я приказал подать лошадей.
– Что ж, прощай, Лотарио, – сказал Юлиус.
– Прощайте, дядя.
И Лотарио с жаром поцеловал графа.
Потом он холодно поклонился Фредерике. Но она заметила, что молодой человек сильно побледнел.
– Прощайте, мадемуазель, – проговорил он.
Голос его прервался; он протянул руку Самуилу.
– Ну, я-то провожу вас до кареты, – сказал тот.
И они вышли оба, оставив удрученного Юлиуса в обществе Фредерики, взволнованной больше, чем она согласилась бы признать.
XXVI
ЛЕГКО ЛИ ДАРИТЬ?
Три месяца спустя после той сцены, которую мы только что описали, то есть в начале августа 1829 года, граф фон Эбербах, полулежа в шезлонге, беседовал с Фредерикой. В эти минуты они находились в комнате вдвоем.
Сквозь плотные, жесткие шторы тут и там пробивались тонкие лучики августовского солнца, и чувствовалось, что там, за окном, оно пылает знойно и ослепительно.
Как и предсказывали Самуил Гельб и доктора, приглашенные для консультации, выздоровление Юлиуса продвигалось медленно, так медленно, что и за три месяца оно еще не было завершено.
Однако Юлиус уже начал вставать с постели. Но он был так слаб, до того разбит, что пока всего лишь дважды смог совершить прогулку в экипаже, да и то пришлось почти тотчас отвезти его обратно, так как он был не в силах выносить уличный шум и тряску по камням мостовой. Он едва мог продержаться несколько мгновений, стоя на ногах. Только встав, он тут же чувствовал потребность снова улечься в кровать.
Самуил строжайше запретил ему любые возбуждающие средства, которые, вызывая искусственный прилив энергии, в конце концов полностью истощили запас естественных сил его организма. Юлиус подчинялся предписаниям Самуила. Ибо теперь, то ли оттого, что, увидав смерть так близко, он испугался, то ли потому, что какая-то привязанность, обновив его душу, научила его ценить жизнь, он стал держаться за нее и делал все, чтобы выжить.
Он, некогда так жаждавший могильного покоя, временами стал испытывать нетерпение и гнев против этой неодолимой слабости, что приковала его к креслу выздоравливающего, превратив его комнату в подобие склепа.
И ни он сам, ни Самуил не могли предугадать, когда он сможет преодолеть свое странное изнеможение.
Единственным обстоятельством, придававшим ему мужество, было присутствие Фредерики, потому что Лотарио, увы, все еще был в отъезде, и в письмах, присылаемых им все эти три месяца, его возвращение непрестанно откладывалось с недели на неделю.
Однако во все продолжение этих трех месяцев трогательные заботы и дочерняя преданность белокурой девушки не ослабевали ни на одну минуту. Чтобы заменить Лотарио, она удвоила свои старания. То было чарующее зрелище: такое свежее, юное создание растрачивало свои силы на еще не старого годами, но одряхлевшего телом и душой, бледного, умирающего человека; жизнь, бьющая в ней ключом, так обильно орошала это более чем наполовину иссохшее существование, ее юность так переполняла его комнату жизнью и здоровьем, что болезнь не могла взять над ним верх.
Каждый день восхищенному взору Юлиуса открывались новые, доселе неведомые стороны души Фредерики. Ранее подавляемая горькой, суровой ироничностью Самуила, простодушная и полная благочестивой веры девушка почувствовала себя свободнее рядом с графом фон Эбербахом, добрым, нежным, немного слабохарактерным. В ее привязанности к нему смог появиться тот покровительственный оттенок, что столь мил женской природе. Вставая, он опирался на ее руку; она ему читала; он ел с аппетитом лишь те блюда, которые подавала ему она. Фредерика почувствовала себя необходимой: привилегия, какой пользуются дурные сердца, чтобы продать себя подороже, а добрые – чтобы самим давать больше.
В тот день, как и в любой другой, Фредерика была около графа фон Эбербаха; настороженно-внимательная к малейшему его желанию, она поправляла его подушки, заглядывала ему в глаза, стараясь прочесть в них, не нужно ли больному еще чего-нибудь.
– Вы отправитесь сегодня на прогулку, господин граф? – спросила девушка.
– Если хватит сил, – отвечал Юлиус. – Но я подожду, пока жара немного спадет, мне ведь трудно выдерживать такое солнце. Но будьте покойны, милая Фредерика: я чувствую, что мое здоровье, по существу, восстанавливается. Всем вашим трудам придет конец. Вы так любезны и добры со мной, что я был бы просто неблагодарным, если бы не исцелился полностью и немедленно.
– Хотите, я вам что-нибудь почитаю? Вы не скучаете?
– Я никогда не скучаю, если вы здесь, Фредерика. Теперь я понимаю: нет ничего удивительного в том, что скука грызла меня так долго. Это потому, что я не знал вас. Но коль скоро вы так любезно предлагаете, продолжите то чтение, что вы начали вчера. Я всегда любил поэзию, но мне кажется, что вполне понимать стихи я научился лишь с тех пор, как вы стали мне их читать.
Фредерика подошла к столу, взяла томик Гёте и, возвратясь, села около графа фон Эбербаха.
Она открыла книгу и принялась было читать, но тут вошел Самуил.
В руке у него поблескивала маленькая склянка, которую он поставил на камин.
– А, вот и ты, – приветливо улыбнулся Юлиус.
– Да, – сказал Самуил. – Я принес тебе новость.
– Новость касается меня?
– Она касается всех.
– Что же это?
– Министерство Мартиньяка пало. Его место заняло министерство Полиньяка. Официальное сообщение об этом появится завтра в «Монитёре».
– Это и вся твоя новость? – спросил Юлиус явно равнодушно.
– Дьявольщина! Если тебе ее мало, с тобой трудно иметь дело. Ведь это просто-напросто означает начало войны. И в зачинщиках – сам король. Что ж, тем хуже для него! Вот увидишь: сообщение выйдет в свет восьмого августа тысяча восемьсот двадцать девятого года, и хоть я не великий прорицатель, держу пари, что восьмого августа тысяча восемьсот тридцатого Карла Десятого на троне уже не будет. Смешение министерства Мартиньяка не что иное, как отставка королевской власти.
– Что мне до всего этого? – отвечал Юлиус. – Политика меня больше не занимает. Я намерен поговорить с тобой о других, более серьезных предметах.
Фредерика поднялась.
– Я оставляю вас, – сказала она.
– Да, разрешите мне пока что отослать вас, моя дорогая девочка, – с улыбкой отозвался граф. – Мне нужно поговорить с Самуилом о том, что касается вас слишком близко, чтобы вам можно было слышать все это. Но можете уйти без сожаления: поверьте, в нашей беседе вы будете присутствовать постоянно.
Фредерика вышла; Самуил откупорил склянку, которую принес с собой, вылил ее содержимое в стакан и протянул Юлиусу.
– Выпей это, – сказал он.
Юлиус взял стакан.
– Что это за странный эликсир, – спросил он, – ты даешь мне вот уже несколько дней? У меня такое чувство, будто остаток крови, еще сохранившийся в моих жилах, стынет от него.
– Пей, говорят тебе! Ты как ребенок, который капризничает, отказываясь принять лекарство. Твоя воспаленная кровь нуждается в том, чтобы я несколько ее охладил, она не сможет быстрее побежать по жилам, прежде чем ее ток не замедлится: так после ночной оргии, чтобы прийти в себя, надо поспать. Это сок одного растения, что я отыскал в Индии. Его способность восстанавливать силы невообразима. Этот напиток сохраняет кровь, в некотором смысле оледеняя ее. Да какого черта? Тебе же нет нужды превращаться в резвого юнца! Тут лишь бы выжить! Ты ведь не ждешь, что я верну тебе твои двадцать лет; но вот еще лет двенадцать жизни я смело могу тебе обещать.
– Двенадцать лет? – повторил Юлиус. – Это больше, чем я прошу и чем мог надеяться, и вот именно поэтому я хочу задать тебе один вопрос, на который мне надобно получить в высшей степени серьезный и искренний ответ.
Он выпил снадобье и продолжал:
– Послушай, друг, я мужчина и сейчас мы одни. Ты достаточно хорошо знаешь меня, чтобы не сомневаться, что я смогу спокойно вынести любую правду. Итак, слушаю тебя. Мне нужно, чтобы ты сказал, каково мое истинное положение.
– Ну… ты ведь сам знаешь.
– Нет, не знаю. До сих пор твоя дружба ко мне побуждала тебя рисовать мое будущее в радужных тонах, говоря со мной только о благоприятных возможностях, обещая то и это. Но, видишь ли, меня страшит лишь одно: быть застигнутым врасплох, уйти внезапно, не успев осознать происходящего, не ведая, что всему конец. Ты слишком хороший врач, чтобы не знать с точностью до недели, сколько мне еще отпущено. Так вот, я прошу, я настаиваю, окажи мне эту услугу: открой правду без утайки.
– Ты хочешь этого? – спросил Самуил, явно колеблясь.
– Хочу и прошу тебя об этом. Притом могу избавить тебя от всех сомнений. Знай: что бы ты сейчас мне ни сообщил, это будет не хуже того, что я сам предполагаю на сей счет. Этот упадок сил, с которым я не могу справиться, свидетельствует о многом. Время от времени я пробую подняться с кровати или из кресла, встать на ноги, но они тотчас подкашиваются. Лежачее положение уже стало для меня привычным. Отсюда рукой подать до могилы. Ну же, старый дружище, во имя нашего детства, нашей юности скажи: сколько минут мне осталось?
– Ты требуешь всей правды? – повторил Самуил.
– Всей правды, – эхом отозвался Юлиус.
– Что ж, по самой очевидной вероятности, – но подумай и о том, что невероятное случается не так уж редко, – твоя жизнь действительно исчерпала себя. Я еще надеюсь. Ты же видишь, я прилагаю героические усилия. Ты говоришь о минутах, я же отвечаю за то, что ты проживешь месяцы, а может быть, и годы. Но поскольку ты спрашиваешь меня так всерьез, должен признаться: не думаю, что тебя ждет столь долгая череда дней, какую рассчитывают прожить – и весьма часто при этом ошибаются – самые крепко сбитые, мощные здоровяки.
– Благодарю, Самуил, – промолвил Юлиус. – Признателен тебе за прямоту. Впрочем, ты меня ободрил. Ты сулишь месяцы, а я не надеялся даже на недели.
– Впрочем, – продолжал Самуил, – твоя жизнь зависит от тебя самого в большей степени, чем от моих снадобий. Главное – это избегать волнений, которые были бы тебе не по силам. Неосторожность убьет тебя безусловно и разом.
– Если так, – сказал Юлиус, – очень важно, чтобы Лотарио срочно вернулся. Я напишу ему письмо еще более настойчивое, чем все предыдущие. Не могу понять, что его так держит в Берлине вопреки тем двум десяткам писем, что я успел ему послать за эти три месяца. Теперь он не сможет больше ссылаться на посольские дела, так как я подал прошение об отставке и с минуты на минуту жду прибытия моего преемника.
– Ты же писал ему, чтобы он там, на месте, поторопил решение этого вопроса. Вот он и выполняет твою волю.
– Да нет, насколько мне известно, вопрос о моей замене уже решен. Итак, теперь со всем этим покончено и Лотарио нам нужнее здесь, чем где бы то ни было еще. Когда мой преемник явится, Лотарио введет его в курс дел; я бы хотел даже и несомненно этого добьюсь, чтобы Лотарио остался служить при нем: он слишком молод, чтобы последовать за мной в мое уединенное убежище. Уезжал он на две недели, а тянутся они уже три месяца, и он даже не упоминает о возвращении. Зато съездил в Вену. На мои послания отвечает кратко и невразумительно. Тут, видимо, что-то кроется.
– Ба! Тут кроется любовница, – усмехнулся Самуил.
– Откуда ты знаешь? – спросил Юлиус: он был не прочь вникнуть в подобное объяснение.
– Я знаю его возраст, – отвечал Самуил. – Что, по-твоему, может удерживать там молодого красавца, обходительного, остроумного, богатого? Или ты забыл, что такое Вена? Все женщины там вешаются ему на шею. Это мы с тобой такие суровые, мрачные и угрюмые. Ты же сверх того еще и болен. Я вовсе не стремлюсь оклеветать твоего племянника, он просто-напросто молод. Пытаться приковать мальчишку с такой внешностью к постели больного – в этом, право же, есть что-то абсурдное, противоестественное. Это хорошо для Фредерики – она еще не начинала жить, и для меня – я уже жить кончил. А Лотарио развлекается, и правильно делает. Ты же не такой эгоист, чтобы злиться на него за это? Если любишь его, не стоит о нем тревожиться. Будь уверен: сейчас ты озабочен судьбой существа вполне беззаботного.
– Все равно! – сказал Юлиус. – Я напишу ему еще одно, последнее письмо. И уверен, что он не оставит меня умирать, не повидавшись с ним.
– Ну, если ты хочешь только этого, – усмехнулся Самуил, – тогда все в порядке. Надеюсь, у него хватит времени, чтобы перессориться со всеми подружками и вернуться сюда прежде, чем настанет час диктовать твое завещание.
– Час может пробить прежде, чем мы думаем. Ему самое время приготовиться к возвращению; что до меня, то я начинаю готовиться к своему уходу.
– Что ты хочешь этим сказать?
– Я имею в виду, что мне пора, как ты выразился, продиктовать мое завещание.
– Хорошенькое дело! Повторяю, что речь об этом не идет! – вскричал Самуил.
– Какая разница, – возразил Юлиус, – продиктую я его неделей раньше или позже? Зачем откладывать то, что все равно необходимо сделать? Мне станет спокойнее, когда этот долг будет исполнен. По крайней мере, в глубине моей души не останется беспокойства, страха, как бы не покинуть сей мир, не успев отблагодарить тех, кому я столь многим обязан. После этого я почувствую себя лучше. Впрочем, я не собираюсь заниматься этим прямо сегодня. Но я уже обдумал все, что намерен предпринять. Излишне говорить, что о тебе я при этом не забыл.
Самуил сделал протестующий жест.
– О, мне известно, – промолвил Юлиус, – что ты презираешь деньги, поскольку метишь выше. Я лишь хочу обеспечить тебе полную независимость от кого бы то ни было. Материальные нужды суть прутья клетки, в которую общество запирает великие сердца и грандиозные замыслы. Ты ведь не откажешься от свободы и простора. Впрочем, я не приношу тебе ничего в дар, я лишь плачу долг. Не хочешь же ты остаться у моего гроба банкротом? А теперь перейдем к Лотарио.








