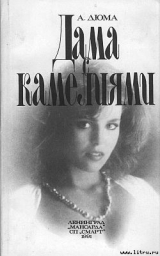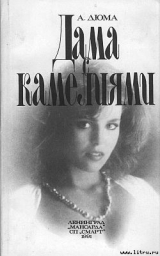сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 23 страниц)
Мне трудно объяснить, что во мне происходило. Я был полон снисходительности к ее образу жизни, я был полон восторга перед ее красотой. То бескорыстие, с которым она относилась к молодому человеку, изящному и богатому, готовому разориться для нее, извиняло в моих глазах все ее былые ошибки.
В этой женщине была какая-то чистота. Видно было, что порок не развратил ее. Ее уверенная походка, гибкая талия, розовые открытые ноздри, большие глаза, слегка оттененные синевой, выдавали одну из тех пламенных натур, которые распространяют вокруг себя сладострастие.
К тому же как результат болезни или от природы, но в глазах этой женщины мелькали время от времени огоньки желания, сулившие неземные радости тому, кого она полюбит. Правда, тем, кто любил Маргариту, не было счету, она же не любила никого.
Словом, в ней была видна непорочная девушка, которую ничтожный случай сделал куртизанкой, и куртизанка, которую ничтожный случай мог превратить в самую любящую, самую чистую женщину. У Маргариты, кроме того, было чувство гордости и независимости. Я ничего не говорил: казалось, центром души моей стало сердце, а сердце отражалось в глазах.
— Так, значит, это вы, — начала она вдруг, — приходили узнавать о моем здоровье, когда я была больна?
— Да.
— Знаете, вы поступили прекрасно. Чем я могу вас отблагодарить?
— Позвольте мне время от времени приходить к вам.
— Сколько угодно, от пяти до шести, от одиннадцати до двенадцати. Послушайте, Гастон, сыграйте мне «Приглашение к танцу».
— Зачем?
— Чтобы доставить мне удовольствие. К тому же я никак не могу сыграть его сама.
— В чем же трудность?
— В третьей части, пассаж с диезами.
Гастон поднялся, сел к пианино и начал играть эту чудесную вещь Вебера по нотам, которые лежали на пюпитре.
Маргарита, опершись одной рукой о пианино, напряженно следила глазами за каждой нотой и подпевала вполголоса, а когда Гастон подошел к указанному пассажу, она продолжала напевать, ударяя пальцами по крышке пианино:
— Ре, ми, ре, до, ре, фа, ми, ре — этого я никак не могу сыграть. Начните сначала.
Гастон начал сначала, потом Маргарита ему сказала:
— Теперь дайте и мне попробовать.
Она села на его место и сыграла в свою очередь, но ее непокорные пальцы все время ошибались в этом месте.
— Прямо непостижимо, — сказала она с ребяческой интонацией, — я никак не могу разучить этот пассаж! Вы не поверите, я сижу иногда до двух часов ночи над ним! А как вспомню, что этот несносный граф восхитительно играет его наизусть, так начинаю злиться на него, право.
Она опять начала сначала, и все с тем же результатом.
— Ну его к черту, вашего Вебера, музыку и пианино! — сказала она, забросив ноты на другой конец комнаты. — Ведь не могу же я брать восемь диезов подряд!
Она скрестила руки на груди, окинула нас взглядом и топнула ногой. Щеки ее покраснели, и легкий кашель вырвался из груди.
— Ну, ну, — сказала Прюданс, которая уже сняла шляпу и оправляла прическу перед зеркалом, — вы ещё рассердитесь, вам станет худо, пойдемте лучше ужинать. Я умираю от голода.
Маргарита опять позвонила, потом села к пианино и начала петь вполголоса какую-то шансонетку, аккомпанемент к которой ей давался без ошибок.
Гастон знал эту песенку, и их голоса почти составили дуэт.
— Не пойте эту гадость, — сказал я Маргарите просящим голосом.
— О, как вы стыдливы! — сказала она с улыбкой, протянув мне руку.
— Я не за себя прошу, за вас.
Маргарита сделала жест, который должен был означать: «О, я уже давно покончила со стыдливостью!»
В это время пришла Нанина.
— Ужин готов? — спросила Маргарита.
— Да, сейчас.
— Кстати, — обратилась ко мне Прюданс, — вы не видели квартиры, пойдемте я вам покажу.
Вы знаете, гостиная была очень красива. Маргарита проводила нас немного, потом, позвала Гастона и пошла с ним в столовую, чтобы посмотреть, готов ли ужин.
— Послушайте, — громко сказала Прюданс, посмотрев на этажерку и взяв там саксонскую статуэтку, — я не видела у вас этой фигурки!
— Какой?
— Маленького пастуха, который держит клетку с птицей.
— Возьмите, если она вам нравится.
— Ах, зачем?
— Я хотела его подарить горничной, мне он не нравится, но раз он вам нравится, возьмите.
Прюданс обрадовалась подарку и не обратила внимания на форму, в какой он был предложен. Она отложила статуэтку в сторону и повела меня в уборную, там она показала мне две одинаковые миниатюры и сказала:
— Вот граф Г. Он был страшно влюблен в Маргариту. Он ее оставил. Вы знаете его?
— Нет. А это кто? — спросил я, указав на вторую миниатюру.
— Это маленький виконт Л. Он должен был уехать…
— Почему?
— Потому, что был почти разорен. Как он любил Маргариту!
— И она его тоже сильно любила?
— Она странная девушка, с ней никогда не знаешь, что и подумать. Вечером в тот же день, как он уехал, она была, по обыкновению, в театре, а в час разлуки плакала.
В это время пришла Нанина и доложила, что ужин подан.
Когда мы вошли в столовую, Маргарита стояла у стены, а Гастон держал ее руки в своих и что-то тихо говорил ей.
— Вы с ума сошли, — ответила ему Маргарита. — Вы отлично знаете, что я не хочу вас. Нельзя только после двухлетнего знакомства с такой женщиной, как я, пожелать стать ее любовником. Мы отдаемся сейчас же или никогда. Ну, господа, к столу.
И, вырвавшись из рук Гастона, она усадила его по правую руку, меня по левую, потом сказала Нанине:
— Прежде чем сесть, скажи кухарке, чтобы она не открывала, если позвонят.
Это предупреждение было сделано в час ночи.
Мы много смеялись, пили и ели. Очень скоро веселье перешло всякие границы: время от времени раздавались словечки, которые в известных кругах общества считаются веселыми и которые всегда пачкают уста, их произносящие. Они вызывали бурю восторга со стороны Нанины, Прюданс и Маргариты. Гастон от души радовался, он был добрый малый, но ум его имел странное направление. Была минута, когда я хотел забыться, не думать о том, что происходит, и принять участие в общем веселье, которое, казалось, входило в меню ужина, но мало-помалу я как-то обособился, мой стакан оставался полным, и мне было грустно видеть, как это двадцатилетнее существо пьет, говорит языком носильщиков и смеется всем тем гадостям, которые тут произносят.
Меж тем как это веселье, эта манера разговаривать и пить у других, казалось, происходили от распущенности, привычки и избытка сил, у Маргариты они производили впечатление потребности забыться, лихорадочного состояния, нервной возбудимости. При каждом бокале шампанского ее щеки покрывались нездоровым румянцем, и кашель, легкий в начале ужина, усилился в конце и заставлял ее закидывать голову на спинку стула и прижимать руки к груди всякий раз во время приступа. Мне было больно думать, как это хрупкое создание должно было страдать от постоянной невоздержанности. В конце концов произошло то, что я предвидел и чего так боялся. К концу ужина у Маргариты случился особенно сильный приступ кашля. Мне казалось, что грудь ее раздирает изнутри. Бедная девушка побагровела, закрыла от боли глаза и поднесла к губам платок, который окрасился кровью. Тогда она встала и побежала в уборную.
— Что с Маргаритой? — спросил Гастон.
— Она слишком много смеялась, и теперь у нее пошла горлом кровь, — ответила Прюданс. — Но это пустяки, это бывает каждый день. Она сейчас вернется. Не нужно ей мешать, так ей лучше.
Я не мог этого вынести и, несмотря на все протесты Прюданс и Нанины, которые хотели меня вернуть, пошел к Маргарите.
Комната, в которой она уединилась, была освещена только свечой, стоявшей на столе. Она лежала на диване в небрежной позе, прижимая одну руку к груди, другую бессильно свесив. На столе стоял серебряный тазик, наполовину наполненный водой, которая была слегка окрашена кровью.
Маргарита лежала бледная, с полуоткрытым ртом и тяжело дышала. Временами из груди у нее вырывался долгий вздох, который как бы облегчал ей дыхание и давал покой на несколько секунд.
Я приблизился к ней, но она не обратила на это никакого внимания. Я сел и взял ее руку.
— Ах, это вы! — сказала она с улыбкой. Должно быть, у меня было очень расстроенное лицо, потому что она добавила: — Вам тоже плохо?
— Нет, но как вы себя чувствуете?
— Ничего. — И она вытерла платком слезы, которые выступили у нее от кашля. — Я к этому теперь привыкла.
— Вы убиваете себя, — сказал я ей взволнованно, — мне хотелось бы быть вашим другом и помешать вам так поступать.
— Я не понимаю, почему вы волнуетесь, — с горечью возразила она. — Посмотрите, ведь никто мной не интересуется; все они отлично знают, что ничем помочь нельзя.
Она встала, взяла свечу, поставила на камин и посмотрела в зеркало.
— Какая я бледная! — сказала она, оправляя платье и растрепавшуюся прическу. — Ну, да ладно, вернемся в столовую. Идемте!
Но я сидел и не трогался с места.
Она поняла, насколько взволновала меня эта сцена, подошла ко мне, протянула руку и сказала:
— Ну, пойдемте.
Я взял ее руку, поднес к губам и невольно уронил на нее две долго сдерживаемые слезы.
— Какой вы, однако, ребенок! — сказала она, садясь рядом со мной. — Вот вы плачете! Что с вами?
— Я, верно, кажусь вам несносным, но мне так больно все это видеть.
— Вы очень добрый! Но что мне делать? Я не могу заснуть, и мне приходится развлекаться. А потом, не все ли равно, одной кокоткой больше или меньше. Врачи говорят, что кровь, которую я отхаркиваю, идет из бронхов. Я делаю вид, что верю, больше я ничего ведь не могу для них сделать.
— Послушайте, Маргарита, — сказал я, не в силах больше сдерживаться, — я не знаю, какую роль вы будете играть в моей жизни, но одно я знаю твердо; в данный момент мне никто, даже моя сестра, так не близок, как вы. И это с тех пор, как я вас увидел. Прошу вас, ради Бога, не живите так, как вы жили до сих пор.
— Если я буду заботиться о себе, я умру. Меня поддерживает та лихорадочная жизнь, которую я веду. Кроме того, заботиться о себе хорошо светским женщинам, у которых есть семья и друзья, — а нас, как только мы перестаем служить тщеславию или удовольствию наших любовников, бросают, и долгие вечера сменяют долгие дни. Я хорошо это знаю, я два месяца пролежала в постели, и уже через три недели никто не приходил меня навещать.
— Я знаю, что я ничто для вас, — возразил я, — но, если вы только захотите, я буду о вас заботиться, как брат, я не покину вас и поставлю на ноги. Когда у вас будут силы, вы вернетесь к вашему образу жизни, если захотите, но я уверен, вы предпочтете спокойное существование, которое вам даст больше счастья и сохранит красоту.
— Так вы думаете сегодня, потому что вино нагнало на вас тоску, но вашего терпения не хватит надолго.
— Позвольте вам напомнить, Маргарита, что вы были больны в продолжение двух месяцев и что в продолжение этих двух месяцев я приходил каждый день узнавать о вашем здоровье.
— Это верно, но почему вы не заходили ко мне?
— Потому, что я не знал вас тогда.
— Разве стесняются с такой женщиной, как я?
— С женщиной всегда нужно стесняться — таково мое убеждение.
— Итак, вы берете на себя заботу обо мне?
— Да.
— Вы будете проводить со мной целые дни?
— Да.
— И целые ночи?
— Все время, если я вам не надоем.
— Как вы это называете?
— Преданностью.
— И откуда берется такая преданность?
— Из непобедимой симпатии, которую я питаю к вам.
— Значит, вы влюблены в меня? Признайтесь в этом поскорее, это проще.
— Возможно, но сегодня я вам не могу этого сказать, когда-нибудь в другой раз.
— Лучше будет, если вы мне этого никогда не скажете.
— Почему?
— Потому, что в результате могут быть две вещи.
— Какие?
— Или я оттолкну вас, и тогда вы на меня рассердитесь, или я сойдусь с вами, и тогда у вас будет печальная любовница: женщина нервная, больная, грустная, а если веселая, то веселость ее хуже печали, женщина, харкающая кровью и тратящая сто тысяч франков в год. Это хорошо для богатого старика, как герцог, но очень скучно для молодого человека. Вот вам подтверждение: все молодые любовники, которые у меня были, очень скоро меня покинули.
Я ничего не отвечал: я слушал. Эта откровенность, очень похожая на исповедь, эта грустная жизнь, которую я угадывал под золотой дымкой, окутывавшей ее, и от которой бедная девушка убегала в распутство, пьянство и бессонные ночи, — все это производило на меня такое сильное впечатление, что я не находил слов.
— Однако, — продолжала Маргарита, — мы говорим глупости. Дайте мне руку, и пойдем в столовую. Никто не должен знать о причине нашей задержки.
— Идите, если вам хочется, но мне разрешите остаться.
— Почему?
— Потому что мне больно видеть ваше веселье.
— Ну, так я буду печальной.
— Послушайте, Маргарита, позвольте мне сказать то, что вам, наверное, не раз говорили, но то, что я хочу вам сказать, — это сущая правда, и никогда больше я вам этого не повторю…
— Ну!… — сказала она с улыбкой молодой матери, выслушивающей глупый лепет своего ребенка.
— С того момента, как я вас увидел, не знаю почему и зачем, но вы заняли место в моей жизни. Я изгонял ваш образ из своей памяти, но он снова и снова возвращался ко мне. Сегодня, когда я снова встретил вас после двух лет разлуки, я почувствовал к вам еще большее влечение, и, наконец, теперь, когда вы меня приняли, когда я с вами познакомился, когда я узнал вашу странную натуру, вы стали мне необходимы, и я сойду с ума не только если вы меня не полюбите, но и в том случае, если вы мне не позволите вас любить.
— Несчастный, я вам повторю то, что говорила мадам Д. Значит, вы очень богаты! Вы, должно быть, не знаете, что я трачу шесть-семь тысяч франков в месяц и иначе не могу существовать, вы не знаете, должно быть, мой бедный друг, что я вас очень скоро разорю, ваша семья возьмет вас под опеку, чтобы не дать вам жить с такой особой, как я. Любите меня как друга, но не иначе. Приходите ко мне, мы будем смеяться, болтать, но не переоценивайте меня, право же, мне грош цена. У вас доброе сердце, у вас есть потребность любить, вы слишком молоды и слишком чувствительны, чтобы жить в нашем кругу. Возьмите замужнюю женщину. Вы видите, я не злой человек и говорю с вами вполне откровенно.
— Какого черта вы здесь пропали? — закричала Прюданс, которая незаметно вошла и стояла на пороге комнаты с растрепанной прической и в расстегнутом платье, что было, наверно, делом рук Гастона.
— Мы обсуждаем важное дело, — сказала Маргарита, — оставьте нас в покое, мы скоро вернемся.
— Хорошо, хорошо, разговаривайте, милые детки, — сказала Прюданс, закрывая за собой дверь и как бы подчеркивая этим значительность того, что она сказала.
— Итак, решено, — продолжала Маргарита, когда мы остались одни, — вы меня разлюбите.
— Я уеду.
— Неужели дело зашло так далеко?
Но мне было поздно отступать, к тому же эта женщина действовала на меня так, как никто до сих пор. Смесь веселости и печали, стыдливости и распутства, болезнь, которая должна была в ней развивать восприимчивость к впечатлениям и нервную возбудимость, — все мне говорило, что если я с первого раза не одержу верх над этой переменчивой и легкомысленной натурой, она будет потеряна для меня навсегда.
— Так, значит, вы говорили серьезно? — продолжала она.
— Вполне серьезно.
— Но почему вы раньше мне этого не говорили?
— Когда я мог вам сказать?
— На следующий день после того, как вы были мне представлены в Опере.
— Вы бы меня очень плохо приняли, если бы я пришел к вам.
— Почему?
— Потому, что я глупо вел себя накануне.
— Да, это верно. Но ведь вы меня уже и тогда любили?
— Да.
— Но это вам не помешало пойти домой и проспать всю ночь после спектакля. Знаем мы такую любовь.
— Ну, так вы ошибаетесь. Знаете, что я делал в тот вечер?
— Нет.
— Я ждал вас у дверей кафе. Я следил за экипажем, в котором вы ехали с друзьями, и, когда увидел, что вы одна вышли из экипажа и поднялись к себе, был совершенно счастлив.
Маргарита начала смеяться.
— Чему вы смеетесь?
— Ничему.
— Умоляю вас, скажите, иначе я подумаю, что вы опять насмехаетесь надо мной.
— Вы не рассердитесь?
— Какое я имею право сердиться?
— Ну, так знайте, была основательная причина, почему я поднялась к себе одна.
— Какая?
— Меня ждали здесь.
Если бы она ударила меня ножом, мне не было бы больнее. Я встал и протянул руку:
— Прощайте.
— Я прекрасно знала, что вы рассердитесь, — сказала она. — Мужчины непременно хотят знать то, что им может причинить боль.
— Уверяю вас, — возразил я холодным тоном, как бы желая доказать, что я навсегда исцелился от своей страсти, — уверяю вас, что я не сержусь. Вполне естественно, что я ухожу — ведь уже три часа ночи.
— Может быть, вас тоже кто-нибудь ждет дома?
— Нет, но мне пора.
— В таком случае прощайте.
— Вы меня прогоняете?
— Нисколько!
— Зачем вы меня огорчаете?
— Чем я вас огорчила?
— Вы мне сказали, что кто-то вас ждал.
— Я не могла не засмеяться при мысли, что вы были так счастливы тем, что я вернулась одна.
— Мы часто радуемся какому-нибудь пустяку, и жестоко разрушать эту радость.