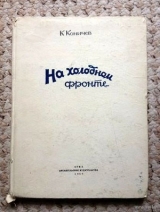
Текст книги "На холодном фронте"
Автор книги: Александр Чуманов
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 11 страниц)
21. Конец Хаулина
В числе задержанных Ибрагимом Загитдулиным оказался переброшенный немецкой разведкой изменник Хаулин. И хотя у него были фальшивые документы на имя какого-то Будкевича, разоблачить его не составило труда. Уличенный во всем, он перестал запираться и стал рассказывать. Дело было так.
…Объятый трусостью и желанием спасти свою шкуру, начфин Хаулин стал изменником. Его, добровольно перешедшего на сторону противника, привели в полевое отделение гестапо. Все, что он знал, рассказал немецкому офицеру; потом согласился подписать листовку для разбрасывания в расположении наших войск.
Фашистам это понравилось. Они ему доверили обработать одну подозреваемую в связях с подпольем студентку из Петрозаводска. На это ушло у него около месяца. Девушка, белокурая, голубоглазая карелка вроде бы полюбила его, она даже согласилась с ним вместе жить, но ничего по интересующим вопросам ему не сообщала.
Однажды офицер в гестапо его спросил:
– Вам нравится эта карелка?
– Пожалуй, да, – неопределенно ответил Хаулин.
– Дело ваше, можете ее любить, но повлияйте на нее или выследите, узнайте все подозрительные связи.
Однако, ничего определенного Хаулину узнать не удалось. Возможно, что никаких связей у девушки и не было.
– Возиться с ней нет больше смысла, – заявил однажды гестаповец, – я вам поручаю сегодня ее пристрелить. – Заметив на лице Хаулина бледность, добавил криво усмехаясь: – Не жалейте, этого добра хватит…
Они спустились в сырой, холодный подвал. Гестаповец включил синий свет. На цементированном полу, от столба посредине и дальше под стену проходила ложбина, по которой, как заметил Хаулин, могла стекать кровь замученных жертв. Два грубых солдата, два заплечных дел мастера, – привели девушку. При виде ее даже паршивое сердце изменника забилось учащенно. Она была бледна, в одной сорочке, избита, капли крови стекали по ее лицу. Привычными и быстрыми движениями солдаты перехватили жертву веревками и крепко привязали к столбу. На последние вопросы офицера девушка презрительно молчала. Тогда гестаповец повернул на стене еще один выключатель. Яркий белесый свет стосвечевой лампочки брызнул в глаза Хаулину. Он заметил на лице девушки слезы, смешавшиеся с кровью. Тяжело дыша, она вскинула голову и молча уставилась на палачей.
Офицер подал Хаулину револьвер, предусмотрительно заряженный одним патроном, и приказал ему стрелять спокойно, с выдержкой, прямо в лицо. Дрожащей рукой предатель взял из руки офицера парабеллум и, чтобы не промахнуться, подошел к девушке вплотную и выстрелил в упор. Окровавленная голова ее опустилась на грудь.
– Хорошо, – похвалил гестаповец, – только нужно учиться убивать не с такого расстояния, а вот отсюда. – И отойдя к дальней стене подвала, он из миниатюрного пистолета дважды выстрелил в труп девушки и похвастал: – Посмотрите, две пули прошли через сердце…
После этого случая Хаулин, проживавший под надзором в отдельной комнате общежития, не спал, ворочался с боку на бок всю ночь. Перед утром вошел к нему посыльный от офицера.
– Не спите?
– Нет.
– Господин офицер приказал вам спать и не смущаться тем, что вы делаете. Вот вам от него бутылка рому. Пейте. Будете спать, как бог…
Вскоре офицер вызвал Хаулина к себе в кабинет.
– Вы детей любите? – спросил он его.
– Люблю, хотя их у меня никогда не было.
По приказанию офицера в канцелярию привели четырехлетнего ребенка. Показывая на него, офицер невозмутимо сказал Хаулину:
– Мать этого ребенка отправлена заложницей в Германию. Отец его – командует у большевиков дивизией. Стоит ли жить ребенку? Я поручаю вам поступить с ним так же, как со студенткой…
– Я вас не понимаю, – возразил было Хаулин, – нельзя ли иначе?..
– Не разговаривать! Берите ребенка, и в подвал.
– Зачем это нужно? – взволнованно спросил предатель офицера, спускаясь с ним по лестнице в подвал.
– Это воспитание вашего характера, – ответил офицер и нравоучительно добавил, – для вас, пожелавшего работать с нами, это означает, что интересы Германии превыше всех и всяких условностей. Запах русской крови, из кого бы она ни истекала, пусть будет вашей потребностью.
Хаулин застрелил и ребенка.
Сутки пьянствовал: даже его подлейшая душа не выдержала. Он был мало-мальски образован, учился в средней школе, когда-то имел понятие о совести, о чести; но после того как он перешел линию фронта и поднял руки, завидев первого встречного фрица, – понятие это было навсегда для него утеряно. Шевеля отупевшими мозгами, он вспоминал когда-то прочитанное им о зверствах иезуитов, о варварских методах сыска, однако фашисты даже в его понятии не шли с ними ни в какое сравнение, они превзошли в зверствах все известное в истории.
Офицер-гестаповец отправил Хаулина на курсы диверсантов-шпионов.
– Вы будете месяц учиться подрывному делу, радиотехнике и другим вещам, а потом с фальшивыми документами и соответствующими предметами будете переброшены за линию фронта. Будете плохо работать, имейте в виду: у гестапо руки длинные. Кстати, вот полюбуйтесь на фотоснимки, они вполне заменят подписку, которую мы с вас не требовали и не нуждаемся в ней…
Офицер небрежно бросил на стол два фотоснимка. Хаулин узнал себя. Фотоаппарат, скрытый где-то за стеной подвала, безжалостно зафиксировал два момента: когда он в упор стреляет в лицо девушки и когда стоит с дымящимся пистолетом над трупом ребенка.
Месяц он пробыл на курсах и под фамилией Будкевича был заброшен к нам в тыл…
– Итак, Хаулин, вы говорите, что немцы были в вас уверены? – спросил следователь, продолжая допрашивать шпиона-диверсанта.
– Да. Они были убеждены, что я не посмею и не решусь явиться к командованию с повинной, что, в крайнем случае, я буду вынужден оказать сопротивление. Я так бы и поступил, если бы не подвох с девчатами. Этого мы не ожидали, и теперь все кончено…
– Пожалуй, – согласился следователь и продолжил допрос. – Вас пятерых немцы сбросили с самолета, а где ваши парашюты?
– Сожгли.
– Вы совершали первый прыжок с парашютом или же в школе диверсантов вас учили этому?
– Нет, не учили. А одно испытание было. Нашу группу однажды сбросили с заданием взорвать мост в тылу Красной Армии. Снабдили всем необходимым. На самом деле это оказалась хитрая проверка. В сумерки мы приземлились в неизвестном районе и направились в сторону моста, который мы, действительно, видели с самолета. Стали подводить взрывчатку, а в это время подошли к нам немецкие часовые и офицер. И мы поняли тогда, что нас проверяют…
Следственное дело на Хаулина было выделено в особое производство. Как изменника и шпиона-диверсанта его судили отдельно показательным судом. Судили вблизи переднего края обороны под открытым небом на небольшой лесной прогалине. Военный прокурор, обращаясь к суду и показывая на обвиняемого, говорил резко и требовательно. Но присутствующим бойцам и командирам его речь казалась уже лишней. Вопрос и без того был ясен, решение суда должно быть одно – расстрел. Процесс шел по всей существующей форме уголовного права и процессуальных норм. Обвиняемому дали последнее слово. Он не защищался, не опровергал ни речи прокурора, ни следственных материалов, он просил о снисхождении в мере наказания – заменить расстрел каким угодно сроком тюремного заключения.
– Не надо такого гада хлебом кормить! – послышался чей-то голос из солдатской массы.
Председатель Военного Трибунала постучал карандашом по столу. Тишина. Над лесом резкий ветерок гнал низкие, хмурые облака. Короткий перерыв. Суд удалился на совещание в землянку. Присутствующие не расходились, ждали приговора, а главное, приведения приговора в исполнение.
Хаулин сидел на скамейке и тупо, немигающими глазами смотрел себе под ноги. Когда зачитывали приговор, он не вникал в его суть. Ждал последних, заключительных слов.
… Расстрелять. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит…
Через две минуты в кустарнике треснули автоматы.
– Готово. Списан, – проговорил один из бойцов, – собаке собачья и смерть…
22. Хозяин нашелся
Летние фронтовые будни шли своим чередом. Карельское лето коротко, но зато солнце светит круглые сутки и в разгар белых ночей почти не успевает зайти за горизонт.
В один из таких дней в добром настроении я с Найденышем совершал прогулку по Ухтинскому тракту. Шел я медленно, любуясь на обширные поля, поросшие зеленой ботвой картофеля, и сердце радовалось за будущий хороший урожай. – «Все же хоть и не велико дело сделали, а поддержка есть» – думал я, проходя дальше и осматривая уходящие к окраине леса длинные полосы капусты, квадраты волнистого овса и ячменя. А умный пес, высунув язык, тихонько бежал и бежал впереди меня.
Из-за поворота шоссе выскочила запыленная легковая машина комдива. Поравнявшись со мной, она остановилась. Вышли двое: комдив и с ним подполковник в форме пограничника. Поздоровались.
Полковник улыбаясь заговорил со мной:
– Везу для вас две приятные новости: первая – командование армии от имени правительства наградило вас орденом Красной Звезды. Поздравляю.
Я ответил, как положено.
– Вторая новость – вы получаете новое назначение. Тот генерал, который был у нас, настоятельно порекомендовал вас в адъютанты к одному большому начальнику одного из отделов штаба армии.
– А вот за эту новость не знаю, стоит ли кого благодарить? – расстроенно ответил я. – Мне и здесь не плохо.
– Ничего не поделать, приказ подписан, я тоже за то, чтобы вы были здесь. Сами знаете – начальство. Против не попрешь…
– Скажу по совести, это меня не радует. Тот генерал ошибается: из меня адъютант, простите, как из коровьего хвоста безмен…
Подполковник в пограничной форме с любопытством издали наблюдал за собакой. Вдруг остановился и, дернув меня за рукав, нетерпеливо спросил:
– Это ваша собака?
– Моя.
– Собственная?
– Собственная.
– Интересно. Вот посмотрим, ваша ли? – Подполковник по-ребячьи сунул два пальца в рот и свистнул. Собака насторожилась. – Казбек! Казбек! – закричал он.
Сначала собака застыла на месте, потом припрыгнув, со всех ног понеслась на зов подполковника и бросилась ему на грудь.
– Казбек, чорт этакий, где ты столько пропадал?! – Казбек виновато подвывал, ласкаясь, лизал руки у своего старого хозяина.
Я рассказал, как собака ко мне попала.
– У меня его в Кеми украли и вот уж никак не ожидал, что найду, – сказал подполковник, обнимая собаку.
До чего мне стало жалко расставаться с Казбеком-Найденышем.
– Вот вам, товарищ капитан, от меня на память, – подполковник отстегнул от ремня изящный с разноцветной наборной ручкой финский нож. На конце рукоятки в виде набалдашника чьей-то умелой рукой была сделана и привинчена серебряная собачья голова, а на блестящем лезвии любовно и тонко выгравировано, как имя близкого друга – Казбек.
Я не мог и не пытался отказаться от подарка. Казбек, видно заметив мою грусть, вдруг, виляя хвостом, подошел ко мне, встал на задние лапы, передними уперся в грудь и лизнул мою щеку.
– Ах, ты, чорт этакий! Ну, прощай, Найденыш, прощай. Казбек, ступай к старому хозяину, – сказал я, гладя его.
Трогательно и вежливо, совсем по-дружески Казбек сунул мне левую лапу, покрутил головой.
Честное слово, в эту минуту у меня чуть-чуть слезы не выступили.
За Казбеком хлопнула автомобильная дверка. Он деловито уселся, видимо, ему было привычно ездить в машине со своим хозяином.
– Может с нами поедете обратно? – спросил комдив.
– Нет уж, лучше я здесь поброжу.
– Броди, броди, только на чужих собак не зарься, – пошутил он, и машина сорвалась с места.
Возвратись в землянку, я первым долгом поделился с Ефимычем всеми новостями.
– От души поздравляю с наградой. Пусть будет не последняя. Ужели, товарищ капитан, теперь нам придется расстаться? – тоскливо спросил связной.
– Придется, Ефимыч. По новой должности мне связной не полагается. Ты мне пиши. Быть может еще и встретимся.
– Да уж не вдруг, – невесело проговорил Ефимыч.
Из батальона уходить мне не хотелось. Это было понятно и Ефимычу. Он с сожалением сказал:
– Больше года мы с вами вместе и никак не удосужились на карточке вместе сняться.
– И так, Ефимыч, не забудем друг друга. У меня о тебе на всю жизнь сохранятся самые лучшие воспоминания.
– Спасибо, товарищ капитан.
– Чего бы, все-таки, подарить тебе, Ефимыч, на память?
– А вот чего: если можете, напишите мне рекомендацию вступить в партию.
– С удовольствием! – ответил я. – Да ты меня пристыдил, Ефимыч! Как же это я сам не догадался предложить тебе. Пора, Ефимыч, пора…
Через непродолжительное время я уезжал к армейскому начальству.
23. С одного места на другое
Я уезжал из батальона по тому же единственному Ухтинскому тракту, бегущему через бесконечный дремучий карельский лес. Лес, лес и лес… И мне, сидящему в кабине рядом с шофером, казалось, что я уже настолько привык к окружающей обстановке, что обыкновенные, ничем не привлекательные деревья становятся в моих глазах живыми представителями суровой карельской природы, с которыми даже хочется поговорить… Колченогие сосны, низкорослые раскоряки, неуклюже, но крепко цепляются своими корнями, борются за каждую пядь земли, за каждую щель в скале, где только есть хоть кусочек земли и влаги. Эти невзрачные деревья очень жизнеспособны, крепки и, несмотря на свою скромную и, кажется, хилую внешность, – корнями ворочают камни, силой упрямства, настойчивости утверждают себя в жизни.
И есть стройные деревья. Красивые великаны с обширными изящно подобранными кронами бархатно пушистых ветвей. Они, надменно возвышаясь над другими, любуясь собою и как бы посмеиваясь над «мелкотой», говорят внешним видом своим: «Ну, куда вы годитесь? Вы без нас ничто, вы мелколесье и только». Но они, хотя и великаны, живут под тем же солнцем и питаются соками той же матери земли, которая создала выносливых и безответных их собратьев. Забывая об этом, они, иногда по причине собственного высокомерия, забывают пускать вширь и вглубь свои корни, а беззаботно тянутся ввысь, лишь бы через головы других не то чтобы дальше видеть и знать, что происходит вокруг, – а показать себя.
Некоторые люди, мало знакомые с лесной природой, увидев этих гордецов, приходят в восторг: «Ах, какое дерево! Какое красивое, матерое». Но вот подходит опытный, искушенный в своем деле лесоруб. Он пристально и почему-то недоверчиво осматривает красавца, затем обухом топора два– три раза ударяет по его стволу. Дерево издает глуховатый стон и осыпает лесоруба остатками прошлогодней хвои. Тогда лесоруб разочарованно отходит прочь и говорит: «Велика Федора да дура: с дуплом, в поделку не гоже». Зазнавшееся лесное высочество, не заботясь о более тесном родстве с землей, от худосочия действительно хиреет и в его сохнущей вершине даже подслеповатая сова и та не ищет себе убежища. Разве дятел старательно будет долбить его носом и искать под корой подгнившего великана насекомых, в которых там нет недостатка. И тогда лесоруб решает:
«Ага, ты с гнильцей, так не ждать же когда ты сгниешь на корню окончательно и бесповоротно. Ты только своей внешностью обманываешь людей. Твое величие – призрак. На самом же деле твое назначение – разменяться на дрова». И лесоруб, плюнув на ладони, берет топор и с треском валит дерево на землю. Окружающее его мелколесье теперь воочию убеждается, что сердцевина великана давненько была охвачена неведомой заразой и очаг этой заразы глубоко распространился; хорошо еще, что нашелся добрый человек и избавил лес от столь опасного и кичливого гордеца, даже заслонявшего солнце, которое в здешних местах и без того светит и согревает все растущее и живое весьма скупо.
Мелколесье приветливей шелестит ветвями, еще глубже пускает корни в землю, радуется и растит крепких молодцов под сенью которых и жизнь становится приятней…
Не так ли и с людьми бывает иногда? Прет и прет какой-нибудь карьерист вверх, а сердцевина его оказывается – гнилая…
Так размышлял я, озираясь по сторонам шоссе, уходящего на сотни километров в бесконечные лесные просторы. Когда едешь далеко, быстро и молчаливо, думается много. И мысли чередуются, быстро сменяясь, как меняется, на первый взгляд серый, но вместе с тем бесконечно разнообразный карельский пейзаж…
Служба на новом месте оставляла мне много свободного времени. Я имел возможность читать военную и художественную литературу.
Но адъютантом пробыл я недолго. Мой «хозяин» вскоре получил другое назначение и уехал. Воспользовавшись этим, я стал проситься у нового начальника отпустить меня в часть. Он не стал удерживать и через несколько дней порадовал меня вестью об откомандировании на линию обороны за Онежское озеро.
– Мне там кое-что знакомо. Бывал осенью в первый год войны.
– Тем лучше, – добродушно сказал начальник, – можете готовиться к отъезду. Ехать придется через Обозерскую, Вологду, а там с Череповца пароходом до Вытегры. У вас семья, кажется, в Архангельске, заверните по пути, и для вас приятно, и для семьи сюрприз.
– Большое спасибо! – обрадовался я, – большое спасибо.
Через два дня я был в Архангельске.
После двух-трех бомбежек и незначительных пожаров от фугасок и зажигалок, город внешне мало изменился. Только еще от вокзала с левого берега Двины я заметил, что громадное здание института взрывом фугаски и пожаром выведено из строя. А когда проходил мимо разрушенного здания, то мне показалось, что и бронзовый Ломоносов стоит на пьедестале чуть-чуть покачнувшись от воздушной волны. Но выстоял и стоит, устремив глаза на север, стоит с той же присущей ему поморской «благородной упрямкой»!
В семье меня, конечно, не ждали. Пришел я в обыкновенный будничный сентябрьский день. Жена была на работе в школе. Сын сидел за столом над задачником. Обрадованный моим появлением он бросился в мои объятия:
– Папа, говори, чего привез мне с фронта?
– Ничего особенного, сынок, ровным счетом ничего. А впрочем развязывай мешок, если что есть подходящее для тебя – забирай.
И пока я говорил по телефону с женой, сын распотрошил мой походный вещевой мешок, обнаружил в нем бинокль, карманный фонарь, флягу, компас, финку, отобрал все это и сказал весело:
– Папа, это мне все пригодится играть в войну, а себе ты добудешь там еще.
– Забирай, забирай, только финку не тронь, тебе рано пользоваться холодным оружием, а у меня это память о хорошей собаке.
– Вот спасибо-то! Теперь я буду у ребятни за главного командира. Ни у кого нет столько снаряжения. Жаль, мама мелкокалиберку куда-то от меня запрятала. Папа, а ты за термос не сердишься?
Я вспомнил, что жена писала мне в одном из писем, как сын, играя с ребятами, набил мой термос порохом, провел к нему фитиль, поджег его и взорвал.
– Да что с тобой поделаешь! – сказал я. – Спасибо, что себя не угробил. Ну, если бы я в ту пору был дома, пришлось бы стегануть ремнем раз десяток…
Сын недовольно посмотрел на меня, нахмурился. Спросил:
– Из-за такого-то пустяка?
– Как из-за пустяка, да ведь тебя могло убить или изуродовать!
– Ну, убить! Фитиль был длинный и пока догорел до пороха в термосе, я убежал за сарай и еще ждал долго, когда рванет.
И сразу, чтобы не задерживаться на этом неприятном инциденте, он спросил:
– Ты надолго приехал?
– Только на два дня.
– Ух, как мало! Я от школы попрошу освобождение на два дня, Клавдия Михайловна отпустит, и похожу с тобой по городу: покажу, где падали полутонки и четвертьтонки. У меня было много, много осколков и стабилизаторов, я все в утиль сдал на переплавку. А потом куда поедешь?
– Снова на фронт. Пойдем, покажу на карте, где я был, и то место, куда теперь переезжаю.
В соседней комнате когда-то висела на стене большая карта Европы, наклеенная на серый коленкор. Теперь эта карта заменяла на окне выбитые воздушной волной стекла и служила светомаскировкой. Мы попутешествовали по этой карте, а потом, пока не пришла мать с работы, он донимал меня всевозможными вопросами, иногда детскими, иногда удивлявшими своей серьезностью:
– Папа, за что тебе дали орден? Про ваш фронт и в газетах мало пишут и по радио не говорят. Почему? А вы докажите! Так тихо будете воевать и война долго не кончится. Папа, а ведь страшно, когда людей убивают… Вы скорей, скорей всех фрицев убивайте да и делу конец, а Гитлера косоглазого запрятать бы в полутонку и бабахнуть над Берлином. Папа, а от дзота до дзота какие окопы бывают: прямые или вот так, зигзагами?
– Зигзагами чаще всего.
– И я ребятишкам доказываю, что зигзагами безопаснее. А они говорят – прямые хода сообщений ближе…
– А ты что. военным инженером хочешь быть?
– Ага, только вот поздно родился, годков бы на десять пораньше!..
Я посадил сына к себе на колени, погладил его по голове, пощупал спину, бока.
– Худенек ты у меня, мой милый, стал.
– Еще бы. Трудненько. Ничего, выживем, в Ленинграде похуже, там настоящая блокада. Ничего! На этой неделе наши три больших города освободили: Чернигов, Полтаву и Смоленск. Скоро из-под Ленинграда вышвырнут немцев…
Пришла жена. Два с лишним года войны ее заметно изменили. Она осунулась, похудела.
До поздней ночи мы просидели, переговорили о многом, но далеко не обо всем.





