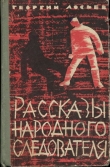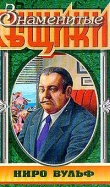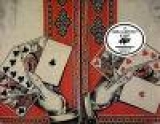
Текст книги "Что побудило к убийству? (Рассказы следователя)"
Автор книги: Александр Шкляревский
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 24 страниц)
XIV
Весть о победе, одержанной Митрофаном Александровичем Масоедовым над Пархоменком, или, лучше сказать, над своим камердинером, быстро разнеслась по Z-ской и окрестным губерниям. Все знакомые и родственники, отчаявшиеся в благополучном исходе для него дела, спешили принести ему поздравления с счастливым окончанием и извинения в своих сомнениях. Но Митрофан Александрович никого к себе не принимал. Самый дом его, почти весь плотно закрытый ставнями, смотрел мрачно, неприветливо и безлюдно. После допроса Долгополова Масоедов прямо отправился в свое имение, не проронив по дороге ни слова. На крыльце его встретили жена и дети, но он сумрачно поздоровался с ними, рассказал в коротких словах, что Долгополов сознался, и ушел в кабинет, прося дать ему покой... В последующие дни он уже вовсе не выходил из своего кабинета и не допускал к себе домашних, исключая камердинера, и то по надобности, по его зову... Митрофан Александрович страшно страдал и терзался; лицо его сделалось злобно и ужасно, как у преступника. По ночам Масоедова посещали мучительные грезы. Он вставал с кровати, испуганными глазами поводил вокруг себя и вскрикивал: «Вот, вот, вот он! А, ты пришла? И ты здесь, старуха? Отмстить за дочь? И Ксенофонт? Но ты сам убийца...» Дикие крики его ночью страшно раздавались в огромном опустелом доме. Бедные дети его дрожали и плакали, прислуга тряслась, жена страдала, не понимая, что делается с ее мужем и как пособить ему в его мучительном положении. На все просьбы ее допустить к себе, чтобы она могла его успокоить, Митрофан Александрович отвечал положительным отказом. Госпожа Масоедова также неоднократно посылала к нему то врача, то священника, но он постоянно прогонял их от себя, говоря, что чувствует себя совершенно здоровым. Целые дни Масоедов проводил в том, что сочинял какие-то бумаги, расхаживал по комнате, потом читал их, задумывался и рвал... Такое времяпрепровождение длилось около двух недель. Наконец, в одну глухую полночь, когда эти бумаги были уже Масоедовым составлены и он, задумавшись, собирался их уничтожить, он явственно услышал около двери шорох и легкий стук.
Это не была галлюцинация.
– Кто смеет? – спросил испуганно Масоедов.
– Я, – отвечал старушечий хриплый голос, – пришла поговорить о моей дочери...
Масоедов дико оглянулся, схватил лежавший на столе заряженный пистолет и в упор выстрелил себе прямо в сердце.
Громкий выстрел пистолета старого устройства разбудил находившуюся поблизости прислугу, та дала знать остальным домашним, и все бросились к барскому кабинету. Впереди всех был камердинер, но едва он дошел в темном коридоре до двери, как со страшным испуганным криком упал на что-то мягкое. Засветили огонь и с изумлением увидели, что это был холодный труп старухи Демьяновны, бывшей кормилицы барина. Как она могла быть здесь в такое позднее время и зачем – этого никто не понимал. Дверь в кабинет была заперта, и на стук не слышалось никакого отклика... Госпожа Масоедова была страшно испугана и боялась видеть труп мужа, а потому просила присутствующих, ради Бога, не ломать дверь, а лучше послать за становым и исправником. Все в доме были в величайшем паническом страхе.
К утру местные полицейские власти прибыли и разломали дверь. Масоедов лежал распростертый на полу, весь облитый кровью, с судорожно сжатым пистолетом в руке...
На столе между бумагами его было найдено: духовное завещание, в котором отписывались большие суммы на монастыри на поминовение его души, заявление местному исправнику, что в смерти его никто не виновен и он лишил себя жизни сам, мучимый совестью за совершенное им семнадцатого апреля этого года убийство в Москве, и бумага на имя московского губернатора, в которой он описывает это происшествие, прося снять всякие подозрения с лиц совершенно невинных, быть может обвиняющихся в этом преступлении. Масоедов объяснил, что он вовсе не имел намерения лишить жизни вдову аудитора двенадцатого класса Христину Кирсановну Позднякову, но ему необходимо нужно было видеть ее, чтобы узнать известные ей данные, по которым он мог бы уличить своего беглого человека Ксенофонта Долгополова, называвшегося вахмистром Пархоменком, в самозванстве, а также чтобы добыть у нее письмо его, писанное к ней накануне бегства. Взять это письмо путем официальным, чрез внезапный обыск, Масоедову казалось затруднительным, и он опасался и ее изворотливости, и ошибки сыщиков; притом цело ли это письмо и какого оно было содержания – он не знал. Следовательно, и обыск мог быть бесполезным, и письмо не содержащим в себе ничего для него важного. В привлечении к суду Поздняковой, бывшей некогда любовницей этого Ксенофонта Долгополова, и в даче ей с ним очных ставок Масоедов также видел мало гарантии на успех, узнав от ее матери о нежелании Христины выдать Долгополова. По этому-то случаю Масоедов и решился повидаться с Поздняковой лично, в надежде склонить ее просьбами и деньгами открыть ему известную ей тайну. Свидание между ними произошло в ночное время случайно, потому что Масоедов приехал в Москву очень поздно, остановился недалеко от Пречистенской заставы и, горя нетерпением, сейчас же пошел пешком отыскивать Позднякову, не найдя по дороге извозчика. Дом ее ему указал неизвестный человек. Услыша стук в ставню и как будто бы знакомый голос своего барина, Христина Кирсановна вышла взглянуть к калитке, и когда в самом деле увидела Масоедова, то не посмела отказать ему в его просьбе впустить его в дом. Надежды Масоедова не сбылись: на все его предложения и просьбы Позднякова долгое время отвечала одно, что ей не известны никакие улики против Ксенофонта и она не знает: он ли проживает в Б. или действительный Пархоменко... Когда же Митрофан Александрович погрозил ей очными ставками с матерью и с Долгополовым, то она прямо объявила ему:
– И не надейтесь – я от всего отрекусь, хотя бы и знала что. Неужели же вы думаете, что у нас нет и сердца. Разлучить нас вы могли, это ваша воля, но перестать любить вы заказать не можете. Может быть, вон в том комоде, – она указала на него, – есть записка, за которую вы бы целое имение с крестьянами дали, да я не возьму. С тем и прощайте, Митрофан Александрович!
– У, змея... – вскричал Масоедов, кидаясь к ней, доведенный до крайней ярости ее словами, и, схватив несчастную за горло, сжал его словно железными клещами, пока не почувствовал падения безжизненного трупа...
Роковое письмо Долгополова найдено было им в третьем ящике комода. Затем Масоедов отворил болт в окне и выскочил на улицу.
XV
По совокупности преступлений крестьянин Ксенофонт Петров Долгополов, согласно 2 пункту статьи 21, 2 пункту 1925 статьи Уложения о наказаниях, по лишении прав состояния, приговорен был к наказанию плетьми, через палача, ста двадцатью ударами, с наложением клейм, и к ссылке в каторжную работу на заводах, на пятнадцать лет. Но ему не суждено было перенести всего такого страшного наказания: на тридцать седьмом ударе Долгополов лишился чувств и во время отправления его в больницу по дороге скончался.
ПРИЛОЖЕНИЕ
А. А. Шкляревский
Мне было тогда семнадцать лет, и я приехал в Воронеж держать экзамен на звание учителя. Имя Ивана Саввича Никитина гремело, стихотворения его читались молодежью с жаром, переписывались и твердились наизусть. Я был одним из величайших поклонников Никитина и, приехав в Воронеж, старался во что бы то ни стало видеть Ивана Саввича, но это мне не удавалось, к тому же говорили, что он болен. Между тем экзамен был выдержан, и мне нужно было уезжать из Воронежа в город Валуйки, где отец мой служил учителем русского языка. Накануне отъезда я шел по главной улице в Воронеже, Большой Дворянской, вместе с одним семинаристом, валуйчанином, у которого я квартировал. Вдруг внимание мое было привлечено каким-то господином, рассматривавшим вывеску оптического магазина, с нарисованными на ней инструментами, в черной шинели с нахлобученным воротником и в картузе. Он показался мне незаурядною личностью, и я хотел было спросить своего спутника, не знает ли он, кто это?
Но семинарист сам остановил меня и спросил:
– Ты знаешь, кто это?
– Нет.
– Иван Саввич Никитин, которого ты хотел видеть.
– Быть не может!
– Ей-богу, правда.
Я бросил своего спутника и ринулся к поэту. (То-то молодость! Говорю же, мне было 17 лет, а Никитину лет 28.)
– Вы Иван Саввич Никитин? – спросил я у него.
– Я, – ответил он, взглянув на меня не совсем ласково, и стал продолжать свой путь далее по направлению к Щепной площади. Но я был не из тех, от которых легко можно бы было отделаться.
– Это вы написали:
Поутру вчера дождь
В стекла окон стучал;
Над землею туман
Облаками вставал...
И т. д., и т. д., я прочел все стихотворение до конца. Тогда я декламировал недурно.
– Да, – сказал Никитин.
– А это?.. – И я пошел отваливать его стихотворения одно за другим.
– Вы кто такой? – спросил наконец меня Никитин. – Семинарист?..
– Нет, – отвечал я ему, – я воспитывался в Харьковской гимназии, но я, так же как и вы, мещанин. Хотя мой отец теперь учитель и имеет чины, но я родился в то время, когда мой отец не поступал еще на службу, а он из мещан. Я даже занимался одной с вами профессией, был от 6 до 9 лет дворником у своей бабушки, содержавшей постоялый двор в городе Лубнах, Полтавской губернии, и зазывал проезжих богомольцев в Киев и на поклонение святителю Афанасию Лубенскому. Да как лихо!.. Другие дворники не могли против меня ничего поделать... Всех проезжих отобью... Мещанская косточка, à la Кольцов, шибай!..
Угрюмый и, как видно; не со всеми сообщительный, Никитин улыбнулся и проронил:
– Что же вы тут делаете, в Воронеже?
Я рассказал, для чего я приехал в Воронеж, и когда коснулся формы экзамена на учителя, то заметил, что Иван Саввич очень заинтересовался и стал входить во всякие мелочи... Я заподозрил даже тогда Ивана Саввича, что он сам хочет держать экзамен на учителя уездного училища.
Разговаривая об экзаменах, мы дошли до Московской улицы и до лучшего в то время в городе Воронеже трактира купца Колыбихина, под названием «Московский трактир».
– Зайдем, выпьем чаю, – предложил Никитин.
– С вами с удовольствием.
В трактире Иван Саввич избрал вторую, менее роскошно меблированную комнату, в которой не было ни души посетителей, и приказал половому, почтительно поклонившемуся ему, подать две пары чая. Разговор продолжался все об учительстве.
– Нелегкую обязанность вы на себя приняли, – заметил Никитин.
– Да, – отвечал я необдуманно. – Трудись, трудись, а впереди никакой карьеры... Всякий писец надеется быть столоначальником, секретарем, советником, а учитель...
– Я не о карьере говорю, – прервал меня Никитин, потирая лоб, – а о том, доступно ли на этой должности сделать столько хорошего, сколько желаешь...
Я стушевался и ничего не мог отвечать на этот вопрос.
Мы выпили по второму стакану чая. Случайно или по привычке (я не знаю), Никитин, выпив чай, повернул и поставил на блюдечко стакан вверх дном. Знакомый с мещанскими этикетами, я понял, что Никитин более чаю не хочет и собирается уходить.
– Иван Саввич! – обратился я к нему. – Дайте мне, ради Бога, хоть строчку вашей рукописи о себе на память... Я вас не выпущу без этого. (Сборника стихотворений И. С. Никитина тогда не было.)
Я был из таких взбаламученных, что готов был броситься перед Никитиным на колени, целовать ему руки или, выражаясь прямее, под видом овации, само собою разумеется без злого умысла, сделать скандал и скомпрометировать его.
– Что же я вам дам?.. Ах! У меня есть стихи черновые... хотите?
– И вы спрашиваете?.. – с укоризной произнес я.
Иван Саввич порылся в боковом кармане сюртука и между разными бумагами нашел лист бумаги, исписанный стихами. Это была «Болесть».
Я чуть не вырвал ее у него из рук. Моим благодарностям конца-краю не было... С ними я вышел с Никитиным из трактира, и, к душевному прискорбию своему, более мне не пришлось видеть Ивана Саввича, потому что, когда я был переведен в 1863 году в Воронеж учителем, его уже не существовало, и мне пришла грустная доля быть зрителем при открытии ему памятника...
А. А. Шкляревский
В тесном значении этого слова Н. А. Некрасов не состоял моим знакомым, т. е. в гостях друг у друга мы не бывали. Я посетил его всего четыре раза, а он у меня был только раз, и то по делу. Тем не менее в молодости я был великий почитатель покойного, и судьба послала мне грустную участь нести его прах в Новодевичий монастырь... На кладбище я даже не был... Это было свыше моих сил... Раза два я обращался к Н. А. Некрасову за денежной помощью, и в оба раза он мне не отказал. Покойный был в высшей степени симпатичен и привязывал к себе людей с первого шага знакомства; кроме того, он задушевно был благородный и добрый человек... Кто оскорбит память его иными мыслями, тому да будет стыдно, по выражению английского Генриха IV («Hony soit mal y pense»[28]28
Да будет стыдно тому, кто об этом плохо подумает (старофр.).
[Закрыть]). Некрасов помогал очень многим бедным и был подчас щедр. Вот маленький случай, характеризующий его душу.
Один неизвестный писатель, приехав из провинции, как водится, без гроша денег, в Петербург, но с тысячами надежд в голове, решился в критическую минуту обратиться с просьбою к Некрасову о каком-либо месте. Н. А. сейчас же послал ответ с предложением должности корректора и с вложением 50 рублей. К сожалению, письмо Н. А. попало не в руки бедному писателю, а его товарищу, в квартиру которого он просил адресовать ему письмо; этот товарищ, очень молодой человек, учащийся, получив деньги, прокутил их, не сказав писателю, и несчастный, не подозревая ничего, прождал несколько дней ответа Некрасова, кое-как успел собраться и уехал [к] себе в провинцию, однако через несколько месяцев он возвратился в Петербург и случайно узнал проделку своего товарища. Улики были ясные и налицо, так как многие из товарищей молодого человека видели у него письмо от Некрасова к писателю; последнему же необходимо было оправдаться в глазах Николая Алексеевича, и он настоял на том, чтобы уличенный выдал ему хотя бы записку к Некрасову, что письмо его к писателю было получено во время отъезда его из Петербурга и затеряно им; тогда как на конверте Некрасовым было собственноручно написано: «Со вложением пятидесяти рублей от Н. А. Некрасова». С этою запиской писатель явился к Некрасову в то самое время, когда и я был у него, а потому был невольным свидетелем сцены, крепко врезавшейся у меня в памяти. Распрощаться с Некрасовым и уйти мне было нельзя, так как разговор мой с ним не был кончен.
Писатель был среднего роста мужчина, несколько цыганского типа, но красивый, с энергическими черными глазами, с длинными волосами и бородой.
– Извините, – начал он, [обращаясь] к Николаю Алексеевичу, как бы желая, чтобы я вышел, – я пришел к вам по довольно щекотливому делу.
Некрасов пригласил его садиться и сам сел около него. Я отошел к окну.
– Несколько месяцев назад, – проговорил гость, – я обращался к вам с просьбою о деньгах... Моя фамилия такая-то...
– А! Помню, помню, что же вы ко мне не приходили? Я, помню, предложил вам место корректора и послал немного денег, да-да... пятьдесят рублей...
– Я не получал ни письма вашего, ни денег...
– Как так? – быстро спросил Некрасов и, живо привстав, подошел к двери и пригласил нашего известного русского писателя Михаила Евграфовича Салтыкова.
– Что мы сделали по письму такого-то? – спросил он у Михаила Евграфовича, когда тот вошел.
– Мы отослали ему 50 рублей и предложили место корректора.
– Я не получал письма, – возразил гость, собираясь объяснить.
– Неправда, – резко отрезал в ответ Салтыков, – письмо передано вашему товарищу, и есть его расписка в книге. Я хорошо все помню.
С этими словами Михаил Евграфович вышел из залы.
– Это верно, письмо было получено, – оправдывался посетитель, – но не было передано мне... – И он стал рассказывать до конца происшествие.
Некрасов слушал его, опустив голову и произнося только по временам свое гортанное не то «э», не то малороссийское «га!» или «ха!», да еще иногда разводил руками.
Выслушав, Некрасов молча стал прохаживаться по зале. Произошла пауза, подействовавшая на посетителя весьма раздражительно: лицо его сделалось красным, энергичнее, черные глаза блеснули.
– Вы, кажется, не доверяете истине моего рассказа? – спросил он Некрасова. – Вы думаете, что это письмо от товарища – придуманный шантаж, чтобы выпросить у вас еще денег?
– И не воображаю, – апатично отвечал Николай Алексеевич.
Я с нетерпением ждал окончания разговора. По энергическому выражению лица посетителя, по тону и искренности речи я не считал его за шантажиста, но все-таки предполагал, судя по его довольно бедному костюму, что он, не получив нечаянно от Некрасова денег, теперь, в нужде, желал бы получить их вторично, а Николаю Алексеевичу жалко дать их ему вновь или он боится быть обманутым.
– Я кое-как теперь устроился в Петербурге, – заговорил грустным голосом посетитель, – но мне совестно против вас, Николай Алексеевич, что я сейчас не могу отдать вам свой долг. Получил ли я ваши деньги или нет, по своей опрометчивости, для меня все равно. Вы выслали мне их и лишились. Я пришел с целью просить у вас отсрочки и объяснить, в чем моя пред вами вина.
– Меня стыдиться нечего, – отвечал Некрасов, почему-то взглядывая на меня. – Я сам бывал в вашем положении... Мне самому случалось некогда и просить, и занимать деньги... И если взятые деньги пойдут на дело, то... – Некрасов не договорил и махнул рукою.
– Все-таки, Николай Алексеевич, – скромно заметил посетитель, – мое самолюбие заставляет меня оправдаться фактично в ваших глазах. Вы в этом деле скомпрометированы ничем быть не можете. Вас попросил о помощи бедный труженик, и вы тотчас откликнулись на вопль. Я докажу вам, что я передал сущую правду, и или напишу об этом деле в газетах, или просто обращусь к мировому судье...
– Что вы, что вы, батенька! – чуть не с испугом вскричал Некрасов, с бледным лицом и широко раскрытыми глазами. – Да вы, никак, с ума сошли?
Сильное волнение Некрасова мне было непонятно.
– Разве можно в жизни так действовать, – продолжал он. – Ведь вот этот, какой бы то ни было, товарищ принадлежит к учащейся молодежи? Вы можете зарезать, опозорить его на всю жизнь... Еще, пожалуй, судом товарищей может быть изгнан из среды их... А за что? За то, что молодой человек увлекся... Может быть, первый раз в жизни... Вы знаете, что у него теперь на душе... Нет, – рассуждал Николай Алексеевич, – так поступать нельзя... Да черт побери эти деньги... Я еще дам сколько нужно... Но...
Как добр, хорош и благороден был в эту минуту Н. А. Некрасов! Никогда это не изгладится из моей памяти. Мало того, объяснение кончилось тем, что Некрасов чуть не просил просителя, чтобы он все предал забвению.
После этого я несколько лет не видал Некрасова. За это время многие взгляды мои на жизнь и литературу изменились. При всем обожании в молодости своей таланта Некрасова, при всем уважении к его личности и благодарности за оказанные мне благодеяния, некоторые его произведения стали мне казаться то детскими, то наивными. Я начал иронически относиться и к некрасовским рифмам. В одно время я сочинил даже виршу в подражание Некрасову.
Вот она:
Много рифм престарательных,
Большею частью причастий страдательных,
Он ввел в речь простую мужицкую
И сочинил даже песню ямщицкую...
А как сжег он на Невском нарядную?
Вот отлил-то штуку презнатную?
Et cet.[29]29
Et cetera – и так далее (лат.).
[Закрыть] глупость в этом роде.
Сколько мне помнится, Некрасов был у меня 3 февраля 1875 года по поручению Литературного фонда в качестве члена и товарища председателя, но он был в хорошем расположении духа и пробыл у меня довольно долго; провести же с Николаем Алексеевичем хотя бы полчаса все одно что с иным быть знакомым целые годы, до такой степени он был сообщителен. Простотой обращения со мною Некрасов довел меня до того, что я забыл о нашем литературном неравенстве и разболтался с ним по-бурсацки и ляпнул свою виршу.
– А что вы думаете? – проговорил Некрасов, нисколько не обидясь и улыбаясь самым добродушным образом. – Я действительно никак не могу отвязаться от этих рифм, хотя и стараюсь. Но они введены не мною; они в духе народа издавна... Какие стихи более всех из моих вам не нравятся?
Мне было очень стыдно за свой язык без костей, что я так расфамильярничался, и тут я вспомнил, что один мой знакомый, и хорошо знавший Некрасова, передавал мне, что Николай Алексеевич крайне самолюбив в деле [оценки] своих литературных произведений. Но язык мой – враг мой, да и хотелось блеснуть самостоятельностью убеждений.
– «Огородник» и «Еду ли ночью по улице темной», – брякнул я, по-видимому смело, а сердце между тем стучало. Некрасов подпер рукою щеку и дал мне понять, чтобы я объяснил ему, вследствие чего эти два его стихотворения подпали под мою опалу.
– «Огородник», – начал я тревожно, – мне никогда не нравился... Я не могу понять, каким образом молодая образованная барышня могла влюбиться в человека не одной среды с собою, с которым у нее нет ничего общего, ни одного связывающего атома. Как бы ни был хорош физически и даже в душе этот огородник, но степень цивилизации пропастью разделяет его от образованной девушки... У него свои понятия, свое миросозерцание, свое обращение... Ее чувством могла руководить одна грубая, животная чувственность... Эти волжские песни, которыми мы можем восхищаться, ей должны казаться простым воем...
– Однако, я не подозревал в вас такого эстетика, – усмехнулся Некрасов. – Видно, что вы коренной провинциал дальних губерний... Отчасти аристократ. С этой точки зрения вы правы, но вы не знаете петербуржцев... Повысьте образование огородника и понижьте барышню... Возьмите во внимание еще кое-что и время написания «Огородника»... Ну-с, а «Еду ли ночью по улице темной»?
– «Еду ли ночью», – отвечал я точно на экзамене, решившись храбро защищаться перед профессором, – было не только в юношестве и в молодости, но даже недавно, в средних летах, до приезда в Петербург, одним из любимейших стихотворений... Я его знаю наизусть и более 500 раз читал в разных слоях общества... Теперь же задушевно я его прочесть не могу... Как только дойду до этого места: «Я задремал. Ты ушла молчаливо, // Принарядившись, как будто к венцу...», так злой дух и шепчет мне в ухо: «Значит, у нее еще было другое платье, если она могла принарядиться? Зачем же она не сделала этого прежде? Может быть, и ребенок был бы жив...» Наконец, пойдет ли в голову бедной любящей женщины и матери, при виде своего умершего ребенка, мысль идти продать себя? Не фальшиво ли это? Строго психически анализируя, мы придем к такому заключению, что многие наши на первый взгляд кажущиеся моментальными решения в сущности – плоды обдумывания. Замедлились они лишь вследствие внутренней сделки с своею совестью... Читая стихотворение между строк, очевидно ясно, что барышне давно сделано предложение и она принарядилась, зная, к кому идет... Много, может быть, она боролась: идти или не идти... Но, почем знать, не мешал ли ей ребенок... Гора с плеч свалилась... А он-то какой трутень! Он же видел, что ребенок умирает, болен, что в комнате холодно... Отчего же он не принял каких-нибудь мер? Нет, по-моему, ей следовало бы пойти и заложить свое платье, кинуться и туда, и сюда, а ему не дремать и тоже порыскать где-нибудь и как-нибудь достать денег, просьбами ли, унижением, даже воровством и прошением милости... А! Вы скажете, что это стыдно, самолюбие не допускает? Ха-ха-ха! А допустить любимую женщину до положения продажи себя – не стыдно?
Некрасов сидел угрюмый и задумчивый, ударяя себя кулаком по колену перекрещенных ног.
– Но возмутительнее всего следующая картина в веселых стихах, когда она возвращалась:
Голод мучительный мы утолили,
В комнате темной зажгли огонек.
Сына одели и в гроб положили...
Словом сказать, хоть на час они до того заблагодушествовали, что кавалеру стоило только обнять свою даму и пуститься танцевать: «Тру-ля-ля, тру-ля-ля...»
Все это было представлено мною до того комично, что Николай Алексеевич расхохотался, но вскоре о чем-то задумался и проговорил:
– «Лучшая пора в моей жизни». Вы теперь смеетесь, и я тоже, а прежде?
– Я неоднократно плакал, читая это стихотворение, – отвечал я.
– То-то же и есть, – заметил Некрасов, – в нас не было еще задавлено чувство житейским опытом. Скажи нам тогда: такой-то, мол, бедствует, страдает. И мы верили и протягивали руку, а теперь так и гнездятся в голове вопросы: отчего бедствует, зачем страдает? Не по своей ли вине? Когда вы в первый раз читали это стихотворение, у вас не было седых волос, а теперь я их вижу... Я тоже тогда был с волосами, а теперь... – Некрасов указал на средину своего гладкого черепа и махнул рукой.
Меня очень интересовала известная поэма Николая Алексеевича «Кому на Руси жить хорошо?», и я решился заговорить о ней.
– А кому, вы полагаете? – спросил он меня.
– Да, полагаю, Николай Алексеевич, – сказал я вульгарно, – что лучшего житья никому нет, как лакеям всех сортов и видов, старого и нового времени.
– Иронический вы человек, как сказал Ф. М. Достоевский, – заметил, улыбаясь, Некрасов, – но лакеям жить хорошо не на одной только нашей матушке Руси, а везде и повсюду. Порою и им крепко достается. Так что, как порассудишь, то на белом свете не хорошо жить никому...
Посидев у меня еще несколько минут, Некрасов вспомнил, что он приехал не один, а с дамою, которая ждет его в санках. Даму эту он назвал своею женою. Николай Алексеевич, сколько я мог заметить из промежуточного знакомства, бывал не то рассеян, не то забывчив. Действительно, провожая его на крыльцо, я увидел у ворот сидящую в санках молодую красивую женщину, сколько я припомню, в бархатной темно-вишневого цвета ротонде. Жил я тогда в отдаленной улице Песков, в деревянном флигеле.
Посещение Некрасовым моей убогой квартиры живо рисуется в моем воображении и никогда не изгладится из моей памяти.