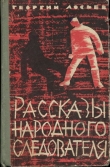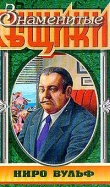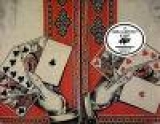
Текст книги "Что побудило к убийству? (Рассказы следователя)"
Автор книги: Александр Шкляревский
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 24 страниц)
VII
В одно воскресенье, после вкусного и сытного завтрака, с выпитой до половины бутылкой мадеры, Митрофан Александрович лениво полулежал на диване в своем кабинете, в великолепном халате, шитых золотом туфлях и ермолке с кисточкою, покуривая сигару и играя халатными кистями. На щеках его блистал яркий румянец и счастливая улыбка. Ксенофонт был в этой же комнате, убирая со стола. Митрофан Александрович находился в таком веселом настроении, что даже вступил со своим камердинером в шутливый разговор. Это он позволял себе очень редко.
– А что ты, Ксенофонт, думаешь ли когда-нибудь жениться? – спросил он с презрительной усмешкой.
– Как прикажете, сударь, – отвечал Ксенофонт, вытягиваясь в струнку и побелев весь, как салфетка, которая была у него в то время на плече.
– Я разрешаю... Если хочешь даже жениться вольной, пожалуй, дам тебе и отпускную, но только с условием, чтобы ты навсегда оставался у меня служить, пока мне это будет угодно, и служил бы по-прежнему...
– Митрофан Александрович! Барин! Голубчик! – вдруг воскликнул Ксенофонт и пал пред Масоедовым на колени, – облагодетельствуйте! Всю жизнь свою буду верно служить вам, до последней капли крови. Буду сам вечно, да и детям своим закажу молить о вас Богу.
– Верно, влюблен? А я думал, что это чувство тебе недоступно, – заметил тем же тоном Масоедов, – что же, хороша невеста?
– Не могу знать, – отвечал Ксенофонт.
– Вот болван! Кто же она такая?
– Нашей Демьяновны дочь.
– Демьяновны, кормилицы?
– Так точно.
– Да я и забыл, что она приехала из Москвы. Ну хорошо...
– Она сейчас здесь, у матери, – умоляюще и робко доложил Ксенофонт.
– И чудесно. В таком случае мы сейчас и порешим. Зови ее сюда, с матерью.
Ксенофонт побежал, не слыша ног под собою.
– Идите вы и вы, – сказал он, прибегая в комнату старухи, обращаясь к ней и к Христине, с сияющим лицом и задыхающимся голосом, – я все сказал барину! Он согласен! Дает отпускную... Велел звать вас... Идите скорее!
Женщины всполошились, заахали и начали прихорашиваться, чтобы приличнее предстать пред барином. Внутреннее волнение их само собою понятно. Ксенофонт торопил их идти скорее. Он не посмел последовать за ними в кабинет и остался дожидать результата аудиенции в зале, с трепетом посматривая на золотую в углу икону, шепча молитвы, крестясь и творя поклоны.
Митрофан Александрович продолжал полулежать с беззаботным и благодушным видом, предполагая встретить в невесте своего камердинера весьма обыкновенное, простое лицо горничной девушки или магазинной швеи, но красота Христины озадачила и отуманила его... Между тем Демьяновна обратилась к нему с приличною случаю рацеею, а Христина стояла возле, не смея поднять глаза свои на барина. Смущение девушки, алый румянец, покрывший ее щеки, и высоко дышащая грудь делали ее прелестнее обыкновенного... Митрофан Александрович жадно впился в нее глазами, не слушая вовсе старуху.
– Какая хорошенькая, – проговорил он, подходя к Христине и трепля ее атласную щечку. – Я переговорю с нею, – обратился он к Демьяновне после короткой паузы, – уйди к себе...
Демьяновна было замялась на своем месте.
– Я говорю тебе: уйди! – повторил Митрофан Александрович, возвысив голос. Старуха повиновалась и услышала, что вслед за нею дверь в кабинете щелкнула на замок.
– Что? – спросил шепотом Ксенофонт у Демьяновны в зале.
– Не-е зна-ю... – отвечала дрожащим голосом бедная мать, всхлипывая и трясясь вся, – вы-и-с-лал... ей велел оставаться.
Ксенофонт едва устоял на ногах и с отчаянием схватился за свои волосы. Христина, возвратясь в комнату к матери, припала на плечо старухи и зарыдала.
Ксенофонт был позван в кабинет звонком барина.
– О том, ты понимаешь, – сказал ему Митрофан Александрович, грозя указательным пальцем, – ты не должен не только думать, но и вспоминать. Иначе я задушу тебя. Я беру Христину к себе. Чтобы к вечеру задние комнаты были для нее очищены и обмеблированы. Вот деньги. – Масоедов отпер стол и выбросил Ксенофонту пачку ассигнаций. – А теперь, – продолжал он, – вели запречь лошадей да приготовь мне умыться, я еду.
VIII
Двадцать четвертого апреля 1836 года, при ярких лучах палящего солнца, по пыльной проселочной дороге из города Б. в село Петропавловку шли навстречу два пешехода: один – из города, другой – из села. Оба они были блондины, со смуглыми загорелыми лицами и русыми небритыми бородами, почти одинаковых средних лет, одного роста и до того похожие друг на друга, что всякий сличивший их физиономии сделал бы заключение, что они если не близнецы, то, наверное, родные братья. Даже костюмы их были одинаковы: старые солдатские шинели, сапоги с рыжими, короткими голенищами, картузы с длинными уродливыми козырьками, в руках палки, за плечами котомки и у пояса тыквенные кубышки для воды. Поравнявшись, пешеходы взглянули друг на друга, и лица их выразили удивление. Пешеход из села остановился, пожал плечами и стал всматриваться в городского пешехода пристальнее, но тот поклонился и пошел по дороге ускоренными шагами далее.
– Эй, земляк, погоди! – крикнул вслед ему оставшийся, но тот притворился неслышащим.
– Да погоди же! – продолжал пешеход из села. – Без того не пущу... – И пустился за удалявшимся вдогонку. Слыша преследование, пешеход из города остановился в оборонительной позе.
– Так и есть, Ксенофонт Петрович! Ишь где привел Бог видеться! – сказал подошедший с сияющим от радости лицом. – Здорово! Аль не узнал?
– Не знаю.
– Меня-то? Степана Максимовича Пархоменку! Да что ты? Господь с тобою!
– Вы ошиблись.
– Тебя, скажешь, не узнал? Родной мой! Да я тебя хоть где узнаю. Полно, уважь, не притворяйся. Беда, что ли, какая случилась? Может, бежал и боишься, что выдам? Небойсь. Грех тебе, вспомни, Ксенофонт Петрович, ведь мы крестами поменялись. Не выдам, хоть бы человека зарезал.
Ксенофонт Петров Долгополов – это был он – осмотрелся кругом и, подавая Пархоменке руку, проговорил:
– Ну, здорово, Степан Максимович!
– Давно бы так!
Товарищи обнялись и поцеловались.
– Здесь на дороге не ладно, – заметил Долгополов, – вот в стороне – лесочек, пойдем туда, там и покалякаем. Кстати, со мною водочка и закусочка есть.
– Пойдем! Водка и у меня тоже есть. Уж и как же я рад, что тебя встретил! – говорил дорогою Пархоменко. – Веришь, вчера такая меня взяла тоска, что руки хотел на себя наложить.
– С чего же так?
– Да как же... Жизнь ты мою всю знаешь, почитай, как свои пять пальцев. Ничего я не скрывал от тебя. Помнишь, в прошлом году, перед масленой, когда ты провожал меня из Петербурга в бессрочный отпуск, как я тогда рвался в свою Петропавловку и как я всегда скучал о ней. Ведь она вон, смотри, где, родимая Петропавловка, я сейчас из нее. Что же ты думаешь, прибрел я к ней ввечеру, – вхожу, перекрестился, ну словно не то село: ни улиц, ни хат не узнаю. «Да Петропавловка ли это?» – спрашиваю. Говорят: «Петропавловка». – «Что ж она, перестроена, что ли, что избы все новые да новые?» Отвечают: «Лет десять тому назад пожар был, и все село выгорело дотла...» Защемило мое сердце: не видать мне, значит, той избы, в которой я родился. Заплакал горько. Порасспросил об отце и матери: умерли, говорят, почти вслед за тем, как я пошел на службу. То-то они и не отвечали мне, когда я посылал к ним из полка деньги и письма. Старшая сестра, что была замужем, Оксана, бездетная, сгорела на пожаре, муж ее умер, младшая сестра умерла в девушках года три назад... Кругом безродный бобыль! Никто меня не узнаёт, всяк остерегается, – дескать, солдат, как бы чего не унес или пожара не наделал. В родном селе голову некуда приклонить. С горя пошел я прямо в кабак, к жиду. Спасибо, хоть человек-то попался разговорчивый. Покалякали мы с ним; выпил я и у него же уснул...
– Куда же ты теперь идешь? – спросил Долгополов.
Иду в Б., хочется отслужить молебен. Видишь ты, у нас в Петропавловке своей церкви нет, так мы – городского Воздвиженского прихода. Меня в караульне этой церкви и крестили. Жид сказывал, что Воздвиженский поп, отец Николай, дюже древний старик. Может быть, тот самый, что крестил меня.
– А после какое имеешь намерение?
– А посмотрю, – отвечал Пархоменко. – Думаю сначала определиться куда-нибудь сторожем, что ли, а далее огляжусь и заведу торговлю: курительным табачком, махоркою, нюхательным, чубучками, трубочками, что попадется... Пахать я уже отвык, а капиталец у меня есть. Те сто рублей, помнишь, что офицеры надавали мне в Питере, – все целы. Одну только пятерку, что ты мне ссудил, истратил.
– Где же ты был все это время, – спросил Долгополов, – как ушел из Петербурга? Неужели все шел...
– Нет, мой милый, восемь месяцев вылежал в госпитале, в Рязани, – простудился, да еще несколько недель в Воронеже. Вышел-то я в неладное время, в самую распутицу, а прошлый год и весна и осень уж какие лихие были! Отцы не запомнят, старикам не в память.
В таких разговорах приятели дошли до леса и там избрали оба местечко для беседы на берегу находившегося в средине леса озера, под большою свесившеюся ивою.
– Ну, а ты же куда? – в свою очередь спросил Долгополова Пархоменко после того, как рассказал ему подробно свое путешествие из Петербурга в Петропавловку, выпив по две крышки из манерки водки.
– И сам не знаю, – отвечал Долгополов, махнув рукою.
– Убег?
– Да! Думаю пробраться в Одессу, а оттуда в Туретчину. Пристану к некрасовцам.
– Невмоготу стало?
Долгополов утвердительно кивнул головою.
– Давно убег?
– Почти вслед за тобою, месяца через два. Беда стряслась... Вот уже год, как я брожу...
– А никого так? – спросил Пархоменко, сделав знак рукою по горлу.
Долгополов отрицательно потряс головою и перекрестился.
– Ну, слава Богу! – заметил радостно Пархоменко и протянул Долгополову руку. – А я, брат, боялся... Извини... Это, что убежал или захватил что с собою барского чего... ничего не значит. Лишь бы не убил! Давай выпьем! Где же тебя Бог носил?
– Махнул я незнакомыми местами, через Польшу... Ошибку сделал, а может, и к лучшему... Наверно, ищут. Сначала долго думалось мне пробраться за границу, а далее передумал: что я там буду делать? Лучше в Туретчину...
– С собой-то прихватил что?
– Так, малость, – отвечал неохотно Ксенофонт.
– Врешь, – заметил Пархоменко, – наверное, тысчонок с десяток сцапал... Ведь он богач... Ну, признайся?
– Кто его знает, не считал... Может, ты и угадал.
– Как же ты... как ее?., да, бишь, с Христиной Кирсановной расстался?
– И не говори! Через нее-то и вся оказия вышла.
– Изменила?
– Нет, не то... Совсем все у нас было готово, и мать благословила, осталось только у него, анафемы, разрешения спросить... Пошли... Увидел ее, дьявол, пленился, к себе взял... Тем моя свадьба и кончилась... Сейчас же приказал приготовить для нее комнаты, разодел, разубрал, барынею на час сделал.
– Что ж она-то?
– Плакала, да ничего не могла сделать, известно, – неволя... А мне-то, аспид этакий, наказывает: «Ты, говорит, гляди, чтобы о своей любви к ней не только чтоб думать, но и поминать не смел...» Да в нашей ли это власти? Чувствия ведь даются от Бога. Что я только не стал предпринимать над собою: и пить стал, и шляться повсюду... Нет, ничего не берет. Не могу я от любви излечиться: решил было либо себя, либо его убить... А она тут, перед глазами... Гляжу, и она начала сохнуть и вянуть... Долго я крепился, да в один день не выдержал. Его не было дома; было вечером. Вхожу к ней в комнату, подавать кушанья. Она сидит, пригорюнившись. Меня жалость взяла... «Прежде, – говорю, – вы, Христина Кирсановна, веселее были...» Она как зальется... «Милый мой, для чего, – говорит, – меня разлучили с тобою... Не люблю я его...» Тут мы и слюбились...
– Аль узнал он? – торопливо спросил Пархоменко.
– Если бы узнал, тут бы нам и смерть... Не узнал, а нашлась добрая душа, шепнула ему, что я как будто отчего-то повеселел... И кто же, ты думаешь, на нас наушничал? Родная ее мать Демьяновна...
– Видно, боялась, чтобы сам чего не увидел, – возразил Пархоменко.
– Нет... Такая уж душа, – а сама сначала плакала.
– Что же было, как он услышал?..
– Слова никому не сказал, только Христину тотчас же из дому переместил куда-то. Догадался, да поздно. Впрочем, кто его знает, может быть, и передал Христину какому-нибудь приятелю... У них это бывает. Меня же задумал отправить в деревню и держал до приискания другого камердинера; но в это время случилось ему на несколько дней выехать из Петербурга... Я подумал: в деревню не хотелось, взял да и махнул в его отсутствие. Домашним сказал, что он велел приехать к нему с вещами.
– Стукало небось сердечко?
– Еще бы не стукало. Много я, брат, перенес в пути... – И Долгополов принялся рассказывать приключения своей бродячей жизни.
Х-ский гусарский полк, в котором служил Пархоменко, принадлежал к лейб-гвардии и имел постоянную стоянку в Петербурге. Долгополов познакомился с ним там очень давно, назад лет восемь, когда он еще был простым лакеем у Масоедова. Они встретились где-то случайно, и Ксенофонт первый обратил внимание на сходство их физиономий, что и послужило поводом к знакомству. Но в прежнее время это сходство не было так поразительно, как в настоящее. Лицо Долгополова было гораздо нежнее, и на щеках играл румянец; усы и бороду он сбривал, волосы носил по моде; Пархоменко же был острижен как солдат; лицо было загорелое и смуглое; усы и форменные бакенбарды нафабрены; сверх того, каждого из них изменял много костюм. Теперь же, когда они одеты были одинаково и Долгополов оброс, голову обрил по-солдатски и так же загорел за свое путешествие, приятели сделались неразличимыми. В характерах их также было много сходства, с тою разницею, что Пархоменко был бойчее, словоохотливее и откровеннее Долгополова; зато последний был гораздо его умнее, сосредоточеннее и талантливее. Пархоменко, кроме фронтовой службы и берейторства, не научился ничему, тогда как Долгополов знал много ремесел: еще в деревне он выучился плесть корзины, гнуть дуги и колеса, делать телеги, а в Петербурге – плесть коробки, шить башмаки и играть на гармонии и гитаре. Как малороссы, хотя и разных губерний, Пархоменко и Долгополов быстро сдружились между собою и имели частые случаи видеться, но так как компания солдата казалась оскорбительною для товарищей Долгополова – камердинеров и лакеев разных господ, то свидания их большею частью происходили или в манеже, или в квартире Пархоменка, а иногда в каком-либо дешевом трактире. Близкие отношения их не бросались в глаза и были известны очень немногим из окружающих Долгополова. Страдая особенно свойственною малороссиянам болезнью, тоскою по родине, Пархоменко рассказал до мельчайших подробностей Долгополову о своем детстве, отце, матери, родных, о Петропавловке, о всяких детских шалостях и своем поступлении на службу. Будучи хорошим служакою, Пархоменко так же охотно и весело рассказывал про военную службу, про понесенные им походы и сражения, перечислял имена всех своих командиров, определяя их характеры и передавая о их личных к нему отношениях. Хвалясь службою, Пархоменко сожалел о том только, что он поступил в нее неграмотным. Читать он кое-как с трудом выучился, но писать вовсе не умел, а это было необходимо при его дальнейшей службе – вахмистром. Горю его взялся помочь Долгополов, и месяца через четыре после их знакомства Пархоменко уже писал не хуже своего учителя, владея точно таким же, перенятым от него, почерком; зато и он не остался в долгу пред Долгополовым и, со своей стороны, обучил его фрунтовой службе, фехтованью. Молчаливый Долгополов всегда слушал Пархоменка с величайшим вниманием, вспоминая и сравнивая свое грустное детство и подгнетную жизнь с судьбою своего приятеля; наконец, начал завидовать ему и стал высказывать свои сожаления, что не поступил в молодости в солдаты. Военная служба так заинтересовала его, что он бредил ею и не пропускал ни одного смотра и учения на Царицыном лугу, чрез что военные его познания еще более увеличились.
– Так ты и не знаешь, – продолжал расспрашивать Пархоменко Долгополова, – как поживает Христина Кирсановна?
– Нет, откуда же?
Дочь Демьяновны не будет более фигурировать в моем рассказе до самого окончания, а потому, пользуясь вопросом Пархоменка, передаю ее биографию до того времени, когда она поселилась в Москве, около Пречистенской заставы, где была задушена.
IX
Митрофан Александрович Масоедов – уверенный в своих достоинствах, могуществе и даже красоте, при взглядах, что между простонародьем сильной любви быть не может и что своим поведением к Христине он не только не губит девушку, но некоторым образом даже осчастливливает ее, так как карьера ее чрез это ничуть не ухудшается, а, напротив, улучшается, если он, впоследствии, даст за нею приданое, – не допускал мысли, чтобы Христина могла изменить ему для его камердинера, а еще более, что этот последний, после отданного ему приказания, осмелился бы питать свои прежние чувства и поднять глаза с дерзкою мыслию на женщину, которая принадлежит ему. Этими взглядами объясняется, почему Масоедов, зная любовь Долгополова к Христине, допустил их жить совместно, в одном доме. Намек, сделанный Демьяновною с целью удалить Долгополова для безопасности дочери, произвел большое действие на Масоедова. Христина как женщина, в тесном значении этого слова, ему нравилась; но когда он услышал неприятную весть, то его взволновало вовсе не чувство ревности, а самолюбие... Основательны или неосновательны подозрения старухи, для Митрофана Александровича было все равно... Ему достаточно было, что они явились в ее голове, а потому могли явиться и у остальной прислуги.
«Надо мной могли исподтишка смеяться, как над рогоносцем от лакея...» Вся кровь бросилась ему в лицо от этой мысли... «Чтобы ее сейчас же не было в моем доме... А с ним я после разделаюсь», – решил он.
– Вели своей дочери, – сказал Масоедов старухе, – собираться. Она переезжает на квартиру.
– Барин, кормилец, – завопила испуганная Демьяновна, – я ничего за ними дурного не видела. Лопни мои глаза. Я, значит, так сказала, вас жалеючи, чтобы от греха долой. А она вас любит, ей-Богу, любит. Не губите девку...
– Вовсе не думаю... Она будет жить в меблированных комнатах на Большой Мещанской, где прежде у меня жила другая...
– Лучше, Митрофан Александрович, сгоните Ксенофонта долой с глаз...
– Гм! Я не могу остаться без него... После... Подумаю. Ты скажи Христине, чтобы она только оделась, взяла извозчика и поехала вот по этому адресу. А за остальными вещами может прислать вечером. Мебель там есть.
Демьяновна сделала еще несколько попыток уговорить барина, но он остался непреклонен. На новой квартире Христины Митрофан Александрович посетил ее не более двух раз с значительными промежутками. Мысль, что девушка, может быть, была ему неверна, отнимала у него охоту к продолжению с нею прежних отношений и поселила отвращение к себе... В третий раз Масоедов приехал к Христине под хмельком, в сопровождении пожилого армейского полковника... Чрез неделю после первого визита Христина уехала с этим полковником по месту его служения в Москву. Это был отвратительной наружности старикашка, но человек добрый. Расставшись с Христиной, по прошествии двух или трех лет, вследствие вступления своего в законный брак, он выхлопотал ей отпускную от Масоедова и выдал ее, по обычаю, в замужество за своего полкового аудитора Гервасия Протасовича Позднякова, который не замедлил обзавестись знакомым домиком у Пречистенской заставы на имя своей благоверной супруги. Поздняков, Гервасий Протасович, в некотором смысле был такая замечательная личность, что о нем нельзя не сказать нескольких слов. В нашем простонародье, преимущественно в среде солдат, лакеев и писарей, попадаются изумительно терпеливые любовники. Люди, не знающие этой среды, даже могут сомневаться в действительности их существования. Например, какой-нибудь сорока– пятидесятилетний писарь или лакей, Псой Иванович, влюбляется в молоденькую и хорошенькую семнадцатилетнюю горничную девушку Надю; Надя выказывает ему крайнее отвращение и говорит об этом прямо в глаза, смеется над ним, устраивает разные неприятные проделки над его персоною, но Псою Ивановичу все это нипочем, и он преследует ее своею любовью... Надя делается девушкою легкого поведения, переходит из одних рук в другие и в то же время отталкивает все заискательства Псоя Ивановича, но он и здесь не теряет надежды, что рано или поздно она будет его... Наконец, Надя поступает в дом терпимости; Псой Иванович и там бомбардирует ее своими письмами и записочками, с предложением руки... Он не бросит Надю даже в таком случае, если она вышла бы замуж, раз и два, ожидая, что, может быть, она овдовеет еще раз, и нашептывая ей при свидании: «Зачем, дескать, за меня не вышла»...
И бывают нередко случаи, что по прошествии каких-нибудь десяти – пятнадцати лет Псой Ивановичи достигают своей цели: женятся на своих Надях и, к чести их, не упрекают своих жен за прошлое. К подобным Псоям Ивановичам принадлежал и Гервасий Протасович Поздняков. Он любил Христину, когда она жила в Москве модисткою, а он был простым полковым писарем. Невзрачный и немолодой уже в то время, Гервасий Протасович не мог понравиться девушке, хорошенькое личико которой, когда она выходила гулять на бульвар, привлекало внимание многих. Христина была безукоризненного поведения, но любила пококетничать, принимала подарки и обнадеживала всех поклонников в своей любви, но Поздняков не удостоился и этого, как человек скупой, не делавший подарков; несмотря на это, Гервасий Протасович, провожая Христину в Петербург по требованию матери, сумел выспросить ее адрес и дозволение писать ей. Страстные письма, остававшиеся без ответа, он посылал всегда на розовой бумаге. Письма эти в свое время возбуждали подозрения Ксенофонта, а последнее он и не передавал, в нем Гервасий Протасович извещал о производстве своем в аудиторы и просил руки девушки, с тем что. он готов внести Масоедову деньги за отпускную. Являясь часто по должности в дом полковника, Поздняков несколько раз видел предмет своего обожания, которому он отвешивал всегда глубочайший поклон, но вступать в разговор не осмеливался. Когда же он услыхал, что полковник женится и расстается с Христиной, то тотчас же возобновил свои прежние заискивания, чрез свах, с заднего крыльца. Христина, живя у полковника в Москве, значительно изменилась, как по наружности, так и по характеру, она сильно подурнела и как-то постарела на несколько лет; беспрестанно делаемые ей подарки развили в ней алчность к ним: она стала скупа и корыстолюбива. Любовь к Ксенофонту еще не совсем изгладилась из ее сердца, но, зная о его бегстве и сделанной им краже, она не питала надежды когда-нибудь сойтись с ним, а между тем тот образ жизни, который она вела, был ей тягостен; от прежних своих занятий она отвыкла, а потому, обсудив все, она решилась принять предложение Позднякова, чему покровитель ее был очень рад, считая своего аудитора за человека скромного и трезвого поведения. С Поздняковым Христина прожила тоже недолго, успев еще более перенять от мужа скупость и развив в себе страсть к любостяжательности, несмотря на природную доброту сердца. Овдовев, Христина Кирсановна Позднякова сочла за самое лучшее сделаться ростовщицей.