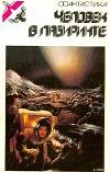Текст книги "Румбы фантастики. 1988 год. Том I"
Автор книги: Александр Бушков
Соавторы: Иван Ефремов,Леонид Кудрявцев,Александр Бачило,Андрей Дмитрук,Елена Грушко,Юрий Медведев,Феликс Дымов,Владимир Клименко,Ольга Новикевич
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 17 страниц)
Так-то. И едва подумалэто, как… вспомнил дорогу назад. Вот знаю почему-то, что сопочку обогнуть надо, а там налево, через кедрач – и стойбище наше. Вот те на! Будто бы тайга испугалась моей решимости, – усмехнулся Игорь. – Насторожилась вся. Ветер стих. Тропка сама под ноги стелется. Но ломанул я назло в чащу. Бурелом – через бурелом. Овраг – через овраг. Еле оттуда вылез, надо сказать, и мелькнула-таки мысль вернуться, да вдруг слышу – тихий стон. Вгляделся – уже смеркалось – кто-то лежит. Уж я струхнул… Однако подошел осторожно. Смотрю – да ведь это наша бабуля-сказочница! Чуть живая. Волосы в какой-то белой паутине, вся горит и бормочет: «Омиа-мони… Омиа-мони…»
Сердце Лебедева дрогнуло.
– Бабуля, говорю, зачем же ты сюда потащилась? – продолжал Игорь. – А она опять: «Омиа-мони…» Я посмотрел – что такое? Солнце уже село, луна еще не взошла, а за деревьями голубое сияние разгорается. Я пошел туда и увидел…
Голос Игоря пресекся. Николай с изумлением смотрел на его побледневшее лицо, нервничающие руки.
– Его вершины не разглядишь. Высота – обалдение! А цвет… Он и правда голубой. И в то же время он – всякий, – сбивчиво говорил Игорь. – Птицы какие-то по нему порхают. Множество их. А зверья! Словно со всей тайги. Тигры – и рядом кабаны, как дрессированные. На меня ноль внимания. Я подошел ближе – и увидел еще одно дерево. Сначала показалось, что это цветущая яблоня, таким оно было белым. Но потом разглядел, что оно сплошь покрыто паутиной. Я смотрел, смотрел… И вдруг за моей спиной вскрикнула старуха. Ужасно вскрикнула! Я повернулся. Она стояла на коленях и грозила мне. Потом упала – и вытянулась.
Игорь опять замолчал.
– Ну! – нетерпеливо подтолкнул его Лебедев.
– Ну… я вынес ее из тайги. Мертвую. Почему-то мне кажется, что если бы я шел один, то уже не нашел бы пути назад. Не знаю, почему. Однако стойбище оказалось совсем рядом. Будто бы его кто-то на время переместил поближе к той поляне… Когда я передавал тело старухи, выбежавшей навстречу родне, что-то зацепилось за пуговицу моей куртки. В темноте не заметил, а потом увидел вот что. – Игорь вынул из кармана квадрат серого шелка и расстелил на столе, придвинув свечу.
Сначала Николаю показалось, что перед ним – причудливый узор. Но, присмотревшись, он понял, что это карта, искусно нарисованная не то тушью, не то черной краской. Он узнал извивы Амура, его притоки. Тонкими штрихами обозначались леса, легкими волнистыми линиями – сопки. На некотором расстоянии друг от друга – два треугольника. Между ними голубая линия.
– Что это значит? – спросил Лебедев.
– Я сверялся с очень подробной картой этого района, – рассказал Игорь. – Первый треугольник – то самое стойбище, где мы снимали. Другой – деревня, где мы сейчас с тобой. Впрочем, лоскут этот очень старый, возможно, еще и не деревня тут обозначена, а какое-нибудь иное древнее селение.
«Тут недалеко еще стойбище стояло. Тайга большая, всем места много…» – словно наяву услышал Николай протяжный голос дзе комо.
– И видишь, как раз между ними – голубой кедр, – пояснил Игорь. – История, которую я тебе рассказал, случилась два года назад. Нечего и говорить, что, едва разобравшись в этой карте, сверив ее с топографической, я снова приехал в стойбище и отправился к голубому кедру. Клянусь, всю тайгу обшарил, а поляны с кедром не нашел. А ведь видел ее своими глазами – уж своим-то глазам я верю! Тогда я решил пойти другим путем – от второй отметки, от этой деревушки. Уже в прошлом году вышел отсюда – и опять ничего. Кстати, тогда меня тут пытались поморочить домовушка и его супружница, кикимора. Да уж, ночка была!.. Словом, опять я не нашел кедра, хотя в карте уверен на все сто. Вернулся домой ни с чем. И вот как-то пришла мысль: а почему старуха так неожиданно отправилась в тайгу? Ведь сколько мы там, в стойбище, до этого были, не меньше десяти дней, и она все время себя худо чувствовала, а ничего, сидела себе. И вдруг – сорвалась. Не в том ли дело, что голубой кедр можно увидеть только в определенное время? Скажем, в один из дней конца сентября, как сейчас? Логика в этом есть – сейчас как раз время созревания кедровых шишек. Я прикинул числа… сегодня, Коля, ровно два года, как я был на той поляне. Еле удалось вырваться на эти дни с работы. Как всегда, план горит. Да пускай и сгорит! Хуже, что вчерашний день пропал. Так что придется нам с тобой сегодня идти, идти и идти. Еще один год потерять – это не по мне!
– Да что тебе этот кедр? – спросил Лебедев, – Посмотреть?
– Э, Коля! Думаешь, я только консервы да ружье несу? У меня полрюкзака кассет японской цветной пленки, да кинокамера, да «Кодак». Это же кедр уникальный, кедр-пра-пра-прадед. Тут можно снять кадры, которых никто не снимал и уже не снимет. Такой шанс не всякому выпадает. Единственный шанс! Ведь никто, кроме меня, этого кедра не видел и дороги к нему не найдет.
– Ну, а я увижу? Тебе не жалко?
– Раз уж ты свалился мне на голову, не могу же я допустить, чтоб ты так вот задарма страдал. А увидишь этот кедр – ни о чем другом больше и думать не сможешь, понял? И все твои статеечки о моральном и аморальном облике покажутся тебе жуткой жвачкой. Да мы с тобой вместе такую киношку сделаем!.. Говорят, я с камерой родился, а на бумаге двух слов не свяжу, хотя язык подвешен вроде бы. А как ты пишешь, мне нравится.
Комплимент был приятен, как и то, что вела Игоря в тайгу такая мечта. Одно оставалось неясным.
– Но почему же так волнуются эти… – Лебедев замялся, – …местные привидения?
Игорь начал перематывать портянки – ровно, ловко, Лебедев даже позавидовал.
– Наверное, они вроде хранителей заповедника! – усмехнулся он.
И Лебедев рассмеялся, тоже начиная собираться в путь. Возникло на миг какое-то невнятное ощущение: раскаяния, потери, несостоявшегося прощания ли… да и ушло, как пришло. Он только спросил:
– Что значит Омиа-мони?
– В нанайских сказках так называется дерево душ, – после некоторой заминки ответил Игорь и приказал – Все, разговоры окончены. Пошли в темпе!
* * *
По руслу идти оказалось труднее, чем по сопкам: камни выскальзывали из-под ног, то и дело приходилось взбираться на кручи, к которым вплотную прижималась речка: она незаметно слилась с другой, широкой и скорой, так что перескакивать и тем более переходить ее вброд в поисках удобной дороги сделалось вовсе невозможно.
Миновали сплошь желтый лиственничник, и Николай, несмотря на напряжение пути, надолго замер, оглядывая мягко шелестящие заросли. Кое-где иголочки уже осыпались, покрывая склон мягкой, прозрачной желтоватой кисеей. Похоже, будто выпал ранний снег неведомого, фантастического оттенка. Небо было серое, непогодное, но желтизна хвои смягчила его суровость, веселила глаз. Серая до черноты студеная река оставляла в извивах сугробы ноздреватой бело-желтой пены. Течение здесь было очень быстрое, глубокая стремнина рябила, отливала, как сталь, радужной, неожиданной синевой, чешуйчатая, гибкая, словно спина неведомого водяного зверя.
Лебедев смотрел, и сердце его щемило. Он и вообразить не мог, что неяркая желтизна лиственниц, нахмуренный серый денек бывают так притягательно прекрасны. Если бы мог, он бы обнял сейчас и этот желто-рябой от хвои курумник, и тонкие черные стволы, и дрожащую от наступающих холодов речку, уткнулся бы в них, чтобы всем сердцем, всем телом принять запахи и краски.
Озноб восторга заставил его счастливо рассмеяться. Что может быть прекраснее? Странно, неужели Игоря не привлекает все это? Гонится за своим кедром…
Тем временем Игорь уже взбирался на сопку, обходя завал на повороте реки. Видно, многие годы здесь застревали подмытые и унесенные течением стволы, и теперь все это напоминало кучу гигантского хвороста, небрежно брошенную каким-то великаном.
Лебедев смерил взглядом завал и сопку, по которой надо было его обойти. Игорь не оборачивался и ушел далеко вперед.
– Эй! Подожди! – крикнул Лебедев, но голос его был унесен ветром.
Игорь не обернулся, и Николай заспешил. Он полез прямо на завал, рассчитывая так выиграть во времени и расстоянии; полез сперва робко, потом быстрее. Бревна, казалось, лежали крепко, сцепившись сучьями и корнями.
На вершине завала Лебедев распрямился, но тотчас потерял равновесие, ноги скользнули по еще не просохшей после инея коре, провалились в пустоту, он какое-то время висел на вывернутых веревками «рюкзака» руках, ему показалось, он чувствует, как натянулись мышцы, а потом руки с болью выскользнули из лямок, и Николай цепляясь о корявые выступы, ударяясь о стволы, соскользнул в узкий причудливый колодец, случайно образованный природой, и упал на каменистое сырое дно, онемев от боли и неожиданности.
* * *
Казалось, его заключили в сырую клетку. Высоко-высоко висели клочья мутного неба. Сквозь «стены» брезжил свет. Из-под мелкой гальки сочилась вода.
Мгновение Лебедев смотрел вокруг растерянным взглядом. Вдруг показалось, что это корявое сплетение стволов, обглоданных течением, камнями, временем, валится прямо на него!
Он закричал, попытался вскарабкаться по стволу, скользя и ломая ногти. Сорвался, перемазавшись квелой, разложившейся корой.
Вскочив, вцепился в ветки, как в прутья решетки, тряхнул, что было силы, и тут же отпрянул, испугавшись, что это жуткое сооружение рухнет и придавит его.
Съежился, пытаясь успокоиться. Вскинулся и закричал, приникая всем лицом к щели меж стволами:
– Игорь! И-иго-орь!..
Но голос глох, оставался в «клетке», давил со всех сторон, казалось, вытеснял воздух. Надо привлечь внимание Игоря по-другому…
Лебедев осторожно вытащил из «стены» толстый корявый сук и, сначала нерешительно, а потом все сильнее, заколотил по стволу. «Клетка» загудела: стук оглушал Лебедева, но он, зажмурясь, бил снова и снова, пока не уловил:
– Э-ге-гей!.. Ни-ко-ла-ай!..
– Я здесь!!! – заорал Лебедев что было мочи.
– Да куда ты запропастился?
– Сам не знаю! – уже радостно засмеялся Лебедев.
– Он еще смеется! Ты что, намерен там поселиться? Вылезай быстро!
– Ждал бы я твоего приказа. Да никак не могу выбраться. – Лебедев вглядывался в переплетение стволов. – Скользко, гладко, не за что уцепиться.
– Кой леший нес тебя на эту гору? – орал Игорь.
– Не знаю, – честно ответил Николай.
– Скажи спасибо твоим дружкам! – Игорь выругался, – Наверное, опять они подгадили.
– Да какая им от меня беда? – искренне удивился Николай.
– Балда. При чем тут ты? Им меня надо остановить.
– Тебя? Да что им до твоего фильма? Они что – и правда конкурирующая фирма?
– Может, подискутируем? – зло перебил Игорь, и с Лебедева сошло, все его истеричное веселье:
– Ладно, не злись. Спусти мне веревку.
– Веревку тебе? – крикнул Игорь, – Ремня тебе, а не веревку. Вот загремлю сам туда – кто вытягивать будет? Домовой? Или бабушку кикимору позовем?
Лебедев еще раз внимательно оглядел западню:
– А если попробовать сделать лаз?
– Чем?! – надсаживался Игорь. – Зубами? Ногтями? А ты навстречу будешь пробиваться?
– Не в земле лаз! Среди стволов!
– Что?! А вот как начну я топором колотить, да как завалит тебя совсем? А времени сколько уйдет, ты представляешь? – разъярился Игорь.
– Что же, ты век предлагаешь мне тут сидеть? – устало спросил Лебедев.
– Век не век… – ответил Игорь после паузы, – а сутки придется.
Лебедеву показалось, что он ослышался.
– Николай, ты пойми, – умоляюще проговорил Игорь. – Уже полдень скоро, а до кедра идти да идти… Понимаешь, а вдруг я угадал и его можно увидеть лишь сегодня? Если я провожусь с тобой, значит, опять год пропал. А мне сегодня надо светлое время застать. Вон и погода расходится… Ну сил моих нет, ты пойми, я этого дня два года ждал! Подожди, ради бога, ну умоляю тебя. Потерпи. Может, я еще до вечера управлюсь. Хотя вряд ли… Но, клянусь, ночью буду идти, а завтра вернусь. Вот, поесть я тебе пропихну, – суетливо говорил Игорь, и чуть ли не на голову Николаю свалилось полбулки хлеба, надетого на тонкий шест, просунутый меж «стен» завала.
– Черт, консервы не получается… Хотя у тебя и ножа-то нет. Коля, ты прости, пойми, сил моих нет! Слышишь?
– Слышу, – отозвался Николай, все еще не веря.
– Ты не сердись, брат, а? Сутки, только сутки!.. А потом набьешь мне морду, если захочешь. Договорились? Ну, держись. Не робей – я вернусь! Скоро вернусь!
– Игорь! – крикнул Лебедев. – Игорь!..
Он еще долго звал, пока не понял, что это бесполезно: Игорь ушел.
* * *
Комель одного ствола выступал из-под нагромождения остальных, и на это более чем неудобное сиденье устало опустился Лебедев. Прикрыл глаза, чувствуя, что больше всего на свете хочет сейчас лечь и уснуть – чтобы проснуться дома.
Интересно, что теперь в городе? Здесь он уже трое суток, если не больше. Сбился со счету. Конечно, его хватились. Но на помощь рассчитывать не приходится. Разве что в бреду может прийти кому-то озарение искать его здесь, в тайге, на этой забытой богом речушке, под завалом…
А вдруг вернется Игорь? Спохватится – и вернется? И Лебедев со страхом подумал, что поведение Игоря он предсказать не может и решительно не знает, чего от него ожидать. А ведь знакомы уже несколько лет. Близкими друзьями никогда не были, но пуд соли точно съели в одних компаниях, поговорить любили, поспорить, в шахматы перекинуться. С Игорем было всегда интересно. В кругу приятелей его называли фонтаном, фейерверком. Был он удивительно начитан, скор на слово, до невероятности общителен – душа, что называется, любого общества. Называли его ласково и небрежно: Игорешка. Вот уж сколько лет… Николай считал его очень талантливым оператором, да и не он один так полагал. Пожалуй, это была самая талантливая камера на всем Дальнем Востоке. Особенно удавались Игорю крупные планы. Вместе с ним зритель словно бы заглядывал в душу человека на экране. Лебедев отчетливо помнил, как сжалось его сердце, когда в небольшом сюжете, отснятом Игорем для дежурной телепередачи о строителях ЛЭП, он увидел бульдозериста, машину которого тянула в себя марь…
Камера медленно поднималась по рычагам управления, и темные пальцы, стиснувшие их, казались продолжением металла, такое напряжение читалось в окаменевших суставах, надувшихся венах. Парень медленно проталкивал вперед рукоять, одновременно поднимаясь на сиденье, и казалось, за искусственно подобранными шумами слышен не только рык измученного мотора, но и треск клетчатой рубашки на напрягшемся плече, и сдавленная ругань, и даже першило в горле от синей гари, окутавшей машину, и вот уже разрослось на весь экран почерневшее лицо, и не то капля пота, не то слеза бессилия поползла по лицу, парень досадливо дернул щекой…
План сменился широкой панорамой просеки, утыканной вышками ЛЭП, и Лебедев спросил потом Игоря: «А тот парень – он выволок свой бульдозер?» Игорь поднял брови: «Да я откуда знаю? Я дальше поехал, на другой объект».
Иногда Лебедев завидовал Игорю. Казалось, тот всегда твердо знает, о чем хочет поведать зрителю, и знает даже больше, и всегда верит в высокий смысл своих фильмов и даже небольших сюжетов. А Лебедева как раз мучило то, что за всеми его «заметками» – этим презрительным словом он последнее время называл все, что писал, – нет ничего, кроме сообщения о факте. Ну, живут люди в далеком от Москвы краю… Ну и что? Гордиться экстремальными условиями? Нанизывать эпитеты? А чью душу это всколыхнет?
Иногда Лебедев заставлял себя писать с таким трудом, что ему казалось, будто он идет по некоему запретному пути. И там, в конце, что-то брезжило. Какая-то цель. Но какая? И какая цель была у Игоря Малахова? Да, он безумно влюблен в свою работу – сегодня это еще раз подтвердилось…
А ведь Игорешку недолюбливают, подумал Лебедев. Его считают недобрым. И не столько за меткое и порою неприятное словцо, которое он умел, да уж, умел отпустить, сколько за то, что, заботясь о сиюминутном эффекте, мог сказать о человеке что угодно. И потом, сияя улыбкой, вскользь извиниться, словно речь шла о пустом, неважном. И тут же перевести разговор так, что вот уже и собеседник, только что сердечно обиженный на Игоря, смеется, слушая его с интересом, увлечен им, и самому оскорбление кажется пустяком… Но, несмотря на это, а может быть, как раз именно поэтому, Игоря не принимали всерьез очень многие. Лебедев знал: и сам Игорь это знает – все-таки умен мужик, что тут скажешь. «Вот были Москвин, Урусевский, Тимофей Лебешев – есть Павел Лебешев, Гантман, еще полно всяких – операторы. А Малахова упомянут где, сразу – „дальневосточный оператор“. Будто в границы замыкают, а дальше не моги или не по плечу. А мне по плечу. А я не хуже!» Лебедев понимал недовольство Игоря, считал, что тот окружен завистниками-провинциалами, смакующими его недостатки, и когда Игорь заводил разговоры об этом, советовал ему поехать в Москву. Игорь затихал. Говорил, что без Дальнего Востока пропадет, что здесь истоки его творчества… Но однажды зло бросил: «Тут я все-таки Малахов, а там буду – „и многие другие“». Понятно, что он так схватился за возможность сделать нечто поразительное, сенсационное, так рвался к этому кедру… Возможно, для него в этом спасение от какого-то творческого кризиса, как для Лебедева – конечно, масштабы не сравнить! – история с теми редкими книгами в научной библиотеке. Да ведь и правда, именно в тот момент, когда Лебедеву журналистика стала казаться скучной обязаловкой, работой-однодневкой, нашлась тема, которая поможет выйти на главное – связь времен. Предположим, что без этого все общество не может развиваться. А человек – как небольшая, но главная часть общества – разве может развиваться, не ощущая своей глубинной связи с прошлым? Не чувствуя своих корней? Николай усмехнулся: вот в какие глубины завели его подвалы «научки». А что, разве не так? Сиюминутное, важное именно сегодня – оно ведь тоже когда-нибудь станет прошлым, делами «давно минувших дней». Дни эти зачеркиваются, как нечто маловажное, но не значит ли это, что мы привыкаем зачеркивать, привыкаем легко забывать, и то, за что сегодня отдаем нервы, здоровье, жизнь, как за самое главное, основное, завтра будет сдано в архив с насмешливой небрежностью? И все это происходит от привычки жить важностью лишь сегодняшнего дня – с его лозунгами и проблемами – в лучшем случае, с робкой заглядкой в будущее, которого, как известно, не может знать никто…
«О чем я? – вскинулся Лебедев. – Нашел время и место для обдумывания таких проблем. Лучше поищи, нельзя ли выбраться отсюда самому! А то представь – собьется Игорь с пути. Тогда что? Сгинешь от голода или с ума сойдешь – и никто ничего не узнает. И не увидишь больше никого – разве что какой-нибудь призрак, нежить явится – голову поморочить».
Что бишь хотели от него домовой и дзе комо? Что-то говорили про Омиа-мони… Увидев Игоря и его машину, он забыл об их просьбе: увидеть, понять, спасти. Что? Что это значит? Почему к нему приходила Омсон? Не зря же, черт возьми, его уволокли из дому! А он сидит здесь. И вообще, очевидно, не оправдал возложенных на него надежд. Обидно.
Лебедев встал. В нем зарождалось нетерпение, заставляло двигаться, искать какого-то дела, выхода искать – любой ценой. Он готов был голыми руками расшвырять этот проклятый завал. Только бы выбраться! Эх, веревку бы! Но веревки нет. Однако…
Лебедев снял энцефалитку. Был бы нож! Он внимательно рассмотрел куртку и наконец увидел дырку, наверное, прожженную у костра. Рванул зубами… грубая ткань затрещала…
Не прошло и часу, как перед Лебедевым вместо энцефалитки лежал ворох ровных полосок, и он начал связывать их. Потом обернул в капюшон камень, вырытый из-под гальки. Надежно обвязал своей «веревкой». Тщательно прицелившись, бросил тяжелый ком вверх, стараясь если и не попасть в верхний проем, то максимально добросить до него и зацепить груз меж стволов. Камень сорвался и раз, и другой, и третий. Лебедев едва успевал отстраниться, чтобы не попасть под удар. И вот наконец-то!.. Не веря удаче, Николай потянул за «веревку», дернул сильнее – камень держался. Он даже растерялся на миг. Окинул взглядом свою недолгую тюрьму – и, упираясь ногами в деревья, стараясь контролировать натяжение «веревки», полез, вернее, пополз вверх.
«Колодец» был не так глубок, как казалось снизу, однако выбраться было труднее, чем он думал. То и дело ударялся головой. Скользили ноги. Особенно ужасно было то мгновение, когда, почти у самого верха, Лебедев увидел, что камень под его тяжестью вот-вот перевалится через сук, за который зацепился. Николай дернулся, пытаясь перехватить руки, но тут «веревка» снова натянулась, как будто кто-то прижал камень наверху. «Игорь вернулся!» – подумал Лебедев, сразу забывая обиду и страх. Он с наслаждением высунулся из щели – и чуть не сорвался опять: крепко упершись в черные стволы, ему протягивал руку не Игорь, а домовой.
* * *
Костерок тихо приплясывал на берегу. На рогульках висел небольшой котелок, в который, отгоняя летучие искры, озабоченно поглядывал домовой. На тряпице, раскинутой на камнях, лежали серые ноздреватые лепешки и крупно нарезанные куски кеты. Лепешки, по словам домового, который истово потчевал Лебедева, замешены на черемуховой муке, поэтому они и были так ароматны и сладки. Потом домовой достал из холщевой торбочки две берестяные чеплашки и осторожно налил в них из котелка чаю – черного, горьковатого от щедро брошенных туда лиан лимонника, его красных ягод да кисточки элеутерококка, колючие стебли которого торчали неподалеку. После каждого глотка у Лебедева прибавлялось сил.
– Спасибо, дедушка! – сказал он. – Теперь я хоть до завтрашнего вечера могу идти без отдыха.
Домовой увязывал свою торбочку:
– Вот-вот! Омсон-мама точнехонько так и говорила: мол, только подкрепить надо силы Мэргена, а там…
– Омсон? – перебил Лебедев. – Так вы ее видели?
– А чего бы мне ее не видеть? Частенько дорожки нас с ней, с простоволосой, сводят. Я ей другой раз так и скажу: «Не молоденькая, чай! Нет чтобы платком покрыться, ходишь, волосом светишься!» Мы, домовые, этого страсть как не любим, а у них, у таежных людей, обычай иной, вот и ходит, косами трясет, будто девица.
– Она и есть девица! – засмеялся Лебедев. – Ей и двадцати нет, мне кажется.
– Коли кому что кажется, так тот пущай крестится, – сурово ответил домовой. – Вот как на твой глаз – сколь мне годков?
Лебедев пригляделся.
– Ну, шестьдесят, ну, семьдесят… – сказал он не очень уверенно, но тут же вспомнил, с кем говорит. – Или больше? Неужто за сто?
– То-то и оно-то, что за сто! – важно сказал домовой. – Нашенский род исстари ведется. Домовушка должен быть по рождению тот же шишига, то есть дьявол. По крайности, прежде был шишигой, а теперь, видится, обрусел. Мне нынче никак не меньше, чем пять сотен, а то и поболе. Со счету давно сбился, многое позабывать стал. Но сколь помню себя, таким был, как сейчас. Разве что одежа попридержалась. Вот и Омсон такая – что хошь с ней делай, время не берет.
– Она колдунья? Шаманка? – пытался угадать Николай.
– Шаманка, скажет тоже. Подымай, брат, выше! Она – владычица Омиа-мони, только про это пускай себе мой дружечка разлюбезный дзе комо сказывает. У него складнее выходит. Ежели бы там про банника, про овинника, про дворового аль про русалок, девок зеленовласых, что по чащобам у нас на Расеюшке турятся, на прохожего-проезжего морок наводят, – про это дело я тебе такого набаю, что волоса дыбарем станут. А про таежное пущай таежные жители и сказывают. Ты мне лучше про себя поведай. Какого роду-племени? Как окрестили? Почто холостым живешь – я приметил… Чем на хлеб зарабатываешь? Не по купецкому делу?
– Нет, не по купецкому, – от души развеселился Лебедев. – Я пишу…
– Писарем, стал-быть? – почему-то обрадовался домовой. – Грамоте, счету обучен? Великое дело – наука! Вот кабы мне на роду не написано домовым быть, я бы непременно обучение прошел и в грамотки всю мудрость народную записывал. Таскался бы по селам-поселочкам: там сказку подслушаю, там – песню, там – поговорочку. Поговорка, знаешь ли, цветочек, а пословица – ягодка. Ох, брат ты мой, а крепко же иной русский мужик молвит! В пословице ходячий ум народный. Пословицы не обойти – не объехать. Живым словом победить можно. Одно слово, знаешь ли, меч обоюдоострый заменить может. Да где бы нам найти такое словцо, чтобы лиходея нашего насквозь пронзить? Уж и дружок-приятель у тебя, батюшко Мэрген! – попенял он. – Я спервоначалу думал, что на цвету он прибит, глуповат, стал-быть, однако умище есть, и страшный… А зверюгу белую, что чадом чадит, он где раздобыл? Это ж чисто Змей Горыныч: огонь жрет, жаром орет, а из ушей аж дым идет. Эх, а было времечко золотое: что богатырь, что супротивник его садились на добрых коней – да по раздольцу, чисту полюшку… А коняшки сытые, обихоженные! Мы, домовые, коней любим пуще всего на свете! Хынь-хынь, – вдруг завел он жалобно, – мне бы хоть махонькую, да пегонькую лошадушку! Разве же наше, домовушек, дело по чащобе шастать, злодея гонять? Домовой – он исстари не злой, не погубит, как русалка зеленовласая, не утопит, как дед водяной, узелком дорогу не завяжет, как злодей леший. Ну, ущипнуть там, синяков насажать; бабе простоволосой ночью косиц наплести – это наше дело. А тут…
Лебедев ласково слушал причитания домового. Так бы и погладил его по сивенькой головушке!
– Вот видишь ли, батюшко Мэрген… – продолжал тот, но Лебедев решил наконец прояснить дело:
– Ну какой я Мэрген? Меня зовут Николаем. А вас как?
– Власием отродясь прозывает домовушку народ. Волосом еще, Велесом. Как хошь, так и зови. Дедкой зови, суседкой. А ты – Никола, стал-быть. Славное имечко. Угодник тебе хороший достался. Добрый. Ты вон тоже добрый. Да вот беда: слабосильная твоя доброта, нету в ней ярости праведной. Тебе бы тоже домовым на свет народиться, а тебя вон в грамотеи, в Мэргены вынесло.
– Ну, предположим, вы меня туда сами записали, – возразил Лебедев.
– Не я, а дружечка мой – дзе комо. А видать, ошибся… Чего ему на тебя боги евонные указали? Я так понимаю, что на том месте, где нынче твоя изба, прежде стойбище было. Глядишь, там и жил-поживал какой Мэрген. Однако к старости что люди, что нежить забывчивы становятся. Вот и напутал дзе комо.
Николай даже обиду почувствовал, но решил продолжать разговор:
– А вы сами откуда? Как попали на Дальний Восток? – Уж сколько раз приходилось задавать такой вопрос! Мог ли он представить, что будет брать интервью у домового… Он попал в мир причудливых и странных существ, которые теперь мерещились за каждым кустом, подсматривали с каждой ветки, смеялись из ручья. Да, это было чудесно, невозможно! И в то же время в явлениях домового, дзе комо, прекрасной Омсон была непонимаемая, но глубоко чувствуемая им бесхитростная правда природы. Она требовала ответной правдивости.
– Мы сами с Орловщины, – рассказывал тем временем домовой. – Не считал, сколь годков прошло, как собрали Макар да Агриппина Ермоленки барахлишко, наскребли из-под печи, на лапоть насыпали, меня, доможила своего, кликнули: «Дедушка домовой, не оставайся тут, а иди с нашей семьей!» Понимаешь, – доверительно объяснил он Николаю, – если хозяин при переезде суседку своего не позовет, то и скотина водиться не будет, и не будет ни в чем ладу. Я серой кошкой… – он покосился лукаво на Лебедева, – обернулся – и скок в корзинку! Старуха моя, кикимора, коклюшки, клубки, плетенье свое прихватила – из голбца за мной шмыгнула. Тряслись наши хозяева из России на Амур и год, и более. Из корзинки, бывало, нос высунешь – и все тебе леса, леса, леса… Уставать стали мы с домахой моей. А пришли-таки! Места – куда тебе с добром! Лес, рыба, зверь богатый. Сперва людишки землянки рыли, потом избы ставили. Лес валили нетронутый. Мы уж со старухой серчать стали, что долго нас из корзинки не выпускают, ан зря: скоро нас в дом новый зазвали. В тот самый, где ты был. И-эх… – Он всхлипнул было, но тут же встряхнулся: – Да что!.. Не вернешь. А вон и дзе комо поджидает, вон он, батюшка мой!
* * *
За разговором Лебедев не заметил пути. Почему-то не цеплялись сучья за одежду, ветки не рвали волосы, замшелые трухлявые бревна – умершие деревья – не лезли под ноги, тайга не мучила бесконечным чередованием сопок. Нет, шли – будто кто стежку под ноги стелил. А солнце все брезжило в полудне.
– А что? – усмехнулся домовой, словно подслушав мысли Николая. – Ведь на правое дело!
Круглое лицо дзе комо было настороженным. Он прижал палец к губам и осторожно поманил домового и Николая за собой. Они сделали несколько шагов и увидели дерево среди поляны.
…Кедр и правда казался голубым. Пушистые пучки его длинных игл отливали то живой синевой, то чистотой изумрудной зелени, то окутывались лиловым туманом. Кора состояла из множества многоцветных чешуек, они мягко пересверкивали, и свет, словно оживший ветер, плыл по стволу и ветвям. Ветви мерно подрагивали, словно переговаривались с ветром, а по ним, распушив хвосты, перелетали серые и рыжие веселые белки, сновали серьезные бурундучки, отмеченные по спинкам следами пяти медвежьих когтей. Узкая хитроватая мордочка белогрудого гималайского медвежонка высунулась из-за толстого сука. Оглядевшись, он начал ловко карабкаться вверх, будто по ступенькам поднимался, шаловливо тянулся короткими лапами к белкам. И еще множество зверюшек, названия которым и не знал Лебедев, сновало по ветвям. И птицы сидели то там, то здесь, будто притянутые негаснущим, не боящимся близкой зимы теплом.
Вершины кедра было не разглядеть, и то одно, то другое облачко цеплялось за ветку и, рассеянное в дымку, растворялось на фоне серого неба. Пробившийся сквозь пелену неверный одинокий луч лениво дремал в развилке, но свет ярче солнечного шел от золотистых, крепких, истекающих ароматом шишек; волны голубого сияния исходили от игл, ветвей, ствола… Да нет же, разглядел Лебедев, шишки были вовсе не шишками, а… диковинными птицами. Казалось, они растут на ветках дерева.
У подножия голубого кедра мирно подремывали, свернувшись клубком или безмятежно раскинувшись, тигры и медведи, рыси и кабаны. Бродили косули, изюбры, волки… Мирно было, спокойно, будто старое мудрое дерево хранило мир и покой всей тайги. Лебедеву вдруг тоже захотелось прилечь там, на траве, приткнувшись к мягкому и теплому звериному боку, но в это время он заметил неподалеку, на той же поляне, другое дерево – и вспомнил слова Игоря: «Будто яблоня в цвету». Нет, это дерево меньше всего походило на яблоню: оно было сплошь белым из-за облака паутины. Торчали кое-где черными углами высохшие ветки, а те ветви голубого кедра, которые были ближе к нему, тоже засохли. Здесь не порхали птицы, не прыгали белки. Белое дерево спало непробудным сном.