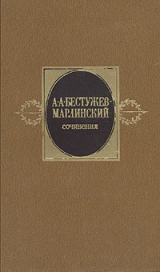
Текст книги "Сочинения. Том 1"
Автор книги: Александр Бестужев-Марлинский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 33 страниц)
Вечер на бивуаке *
…Едва проглянет день,
Каждый по полю порхает,
Кивер зверски набекрень,
Ментик с вихрями играет.
Конь кипит под седоком,
Сабля свищет – враг валится,
Бой умолк – и вечерком
Снова ковшик шевелится.
Давыдов
Вдали изредка слышались выстрелы артиллерии, преследовавшей на левом фланге опрокинутого неприятеля, и вечернее небо вспыхивало от них зарницей. Необозримые огни, как звезды, зажглись по полю, и клики солдат, фуражиров, скрып колес, ржание коней одушевляли дымную картину военного стана. ***го гусарского полка эскадрону имени подполковника Мечина досталось на аванпосты. Вытянув цепь и приказав кормить лошадей через одну, офицеры расположились вкруг огонька пить чай. После авангардного дела, за круговою чашею, радостно потолковать нераненому о том о сем, похвалить отважных, посмеяться учтивости некоторых перед ядрами. Уже разговор наших аванпостных офицеров приметно редел, когда кирасирский поручик князь Ольский спрыгнул перед ними с коня.
– Здравствуйте, други.
– Добро пожаловать, князь! Насилу мы тебя к себе валучили; где пропадал?
– Спрашиваются ли такие вопросы? Обыкновенно, перед своим взводом, рубил, колол, побеждал, – однако и вы, гусары, сегодня доказали, что не на правом плече ментик носите; объявляю вам мою благодарность. Между прочим, вахмистр! прикажи выводить и покормить моего Донца: он сегодня ничего не кушал кроме порохового дыма.
– Послушайте-ка, ваше сиятельство…
– Мое сиятельство ничего не слышит и не слушает, покуда не выпьет глинтвейну, без которого ему ни светло, ни тепло; давайте скорее стакан!
– Изволь! – сказал ротмистр Струйский. – Но знай, что эта чара заветная: за нее ты должен приплатиться анекдотом.
– Хоть сотней! За ними дело не станет; я весь слеплен из анекдотов и расскажу вам один из самых свежих, со мной случившихся. За здоровье храбрых, товарищи!
Как-то недавно у нас не было дни в три ни крошки провианту. Кругом, по милости вашей и казацкой, стало чисто, как в моем кармане, а, на беду, тяжелую конницу фуражировать не пускают. Что делать? Голод тем более умножался, что во французской линии слышалось гармоническое мычанье быков, которое плачевным эхом раздавалось в пустом моем желудке. Рассуждая о суете мирской, лежал я, завернувшись буркою, и грыз сухарь, так заплесневелый, что над ним можно бы было учиться ботанике, так черствый, что его надо было провожать в горло шомполом. Вдруг блеснула во мне пресчастливая мысль. Сейчас же ногу в стремя – и марш.
«Куда, – спросили меня, – едешь ты на своей бешеной Бьютти?»
«Куда глаза глядят».
«Зачем?»
«Умереть или пообедать!» – отвечал я трагическим голосом, дал шпоры и, показывая вид, будто меня занесла лошадь, пустился птицею и скрылся из глаз изумленных моих товарищей. Они считали меня погибшим. Проскакав русскую цепь, я навязал на палаш платок, который в молодости своей бывал белым, и поехал рысью.
«Qui vive?» – раздалось с неприятельского пикета.
«Parlementaire russe!» – отвечал я.
«Haltela!» [52]52
«Кто идет?» – «Русский парламентер». – «Остановитесь!» (Фр.)
[Закрыть]
Ко мне подъехал унтер-офицер с взведенным пистолетом.
«Зачем вы приехали?»
«Поговорить с начальником отряда».
«Для чего же без трубача?»
«Его убили».
Мне завязали глаза, повели пешего, и через три минуты я уже по обонянию угадал, что нахожусь подле офицерского шалаша. «Добрый знак! – думал я. – Счастливый как тут к обеду». Снимают повязку – и я очутился в компании полковника и человек осьми конно-егерских французских офицеров; малый я не застенчивый.
«Messieurs! [53]53
Господа! (фр.)
[Закрыть]– сказал я им, поклонясь весьма развязно, – я не ел почти три дня и, зная, что у вас всего много, решился, по рыцарскому обычаю, положиться на великодушие неприятелей и ехать к вам на обед в гости. Твердо уверен, что французы не воспользуются этим и не захотят, чтобы я за шутку заплатил вольностью. Да и много ли выиграет Франция, если завладеет конным поручиком, которого все знания и действия очерчиваются концом палаша?»
Я не обманулся: французам моя выходка понравилась как нельзя больше. Они пропировали со мной до вечера, нагрузили съестным мой чемодан, и мы расстались друзьями, обещая при первой встрече раскроить друг другу голову от чистого сердца.
– Не из печатного ли это? – спросил, усмехаясь, штабс-ротмистр Ничтович, который слыл в полку за великого критика.
– Да хотя бы из печатного, – для тебя оно все-таки должно быть новостью! – отвечал Ольский.
– А после какого дела это случилось?
– После того самого, где ты ранен был в сапог. Штабс-ротмистр запил пилюлю и напрасно теребил усы, ища ответа на ответ: на этот раз остроумие его осеклось.
– Не расскажет ли нам чего-нибудь Лидин? – сказал подполковник, обращаясь к молодому офицеру, который в рассеянности курил давно погасшую трубку.
– Нет, подполковник! Мне нечего рассказывать. Мой роман занимателен для меня одного, потому что обилен только чувствами, а не приключениями. И признаюсь вам: теперь вы разрушили самый великолепный воздушный мой замок. Мне мечталось, что я за отличие уже произведен в штаб-офицеры, что я сорвал «Георгия» с неприятельской пушки, что я возвращаюсь в Москву, украшен ранами и славою; что троюродный мой дядя, который старее Дендерского Зодиака, умирает от радости, и я, богач, бросаюсь к ногам милой, несравненной Александрины!
– Мечтатель, мечтатель! – сказал Мечин. – Но кто не был им? кто больше меня веровал в верность и в любовь женскую? Я расскажу теперь случай моей жизни, который тебе, милый Лидин, может послужить уроком, если влюбленные могут учиться чужою опытностью, – для вас же примолвлю, друзья мои, что это будет история медальона, о котором я давно обещал вам рассказать. Послушайте!
Года за два до кампании княжна София S. привлекала к себе все сердца и лорнеты Петербурга: Невский бульвар кипел вздыхателями, когда она прогуливалась; бенефисы были удачны, если она приезжала в театр, и на балах надобно было тесниться, чтобы на нее взглянуть, не говорю уже танцевать с нею. Любопытство заставило меня узнать ее покороче; самолюбие подстрекнуло обратить на себя внимание Софии, а ее любезность, образованный ум и доброта сердца очаровали меня навсегда. Впрочем, говорят, и я верю, что любовь прилетает не иначе, как на крыльях надежды, – я недаром в княжну влюбился. Вы знаете, друзья, что природа влила в меня знойные страсти, которыми увлекаюсь в радости – до восторга, в досадах – до исступленья или отчаяния. Судите ж, каково было мое блаженство при замеченной взаимности! Я забредил идиллиями; мне вообразилось, что одинокая жизнь несносна, тем более что родители Софии смотрели на меня благосклонным взором. Со мною жил тогда первый мой друг, отставной майор Владов, человек с благородными правилами, с пылким характером, по с холодною головою. «Ты дурачишься, – не раз говорил он мне в ответ на мои восторги, – избирая невесту из блестящего круга. У отца княжны более долгов и прихотей, чем денег, а твоего именья ненадолго станет для женщины, привычной к роскоши. Ты скажешь: ее можно перевоспитать на свой образец, ей только семнадцать лет от роду; но зато сколько в ней предрассудков от воспитания! Все возможно с любовью! – твердишь ты, но кто ж уверит тебя, что княжна вздыхает от любви, а не от узкого корсета, что опа глядит в глаза твои для тебя, а не для того, чтоб глядеться в них самой? Поверь мне, что в ту минуту, когда она так нежно рассуждает об умеренности, о счастии домашней жизни, мысли ее стремятся уже к дамскому току или к карете с белыми колесами, в которой блеснет она в Екатерингофе, или к новой шали, для показа которой тебя затаскают по скучным визитам. Друг! я знаю твое раздражительное от самых безделок сердце и в княжне вижу прелестную, прелюбезную женщину, но женщину, которая любит жить в свете и для света и едва ли пожертвует тебе котильоном, не только столичного жизнию, когда расчеты или долг службы позовут тебя в армию. За упреками настанет убийственное равнодушие, и тогда – прости, счастье!» Я смеялся его словам, однако ж изведывал наклонности Софии и каждый день находил в ней новые достоинства, и с каждым часом, страсть моя возрастала. Между тем я пе спешил объяснением: мне хотелось, чтобы княжна любила во мне не мундир, не мазурку, не острые слова, но меня самого без всяких видов. Наконец я в том уверился и решился. Накануне предполагаемого сватовства я танцевал с княжною у графа Т. и был радостен как дитя, упоен надеждою и любовью. Один капитан, слывший тогда за образец моды, досадуя, что София не пошла с ним танцевать, позволил себе весьма нескромные на ее счет выражения, стоя за мною, и довольно громко. Кто осмеливается обидеть даму, тот возлагает на ее кавалера обязанность мстить за нее, хотя бы она вовсе не была ему знакома. Я вспыхнул и едва мог удержать себя до конца кадриля, услышав его остроты на счет княжны. Объяснение не замедлило. Г. капитан думал отыграться шутками, говорил, что он не помнит слов своих. «Но я, м. г… по несчастию, имею очень счастливую память. Вы должны просить на коленях прощения у моей дамы, или завтра в десять часов волею и неволею увидитесь со мною на Охте». Вам известно, что я не охотник до пробочных дуэлей: мы стрелялись на пяти шагах, и первый его выстрел, по жеребью, положил меня замертво. Какой-то испанский поэт, имени и отчества не упомню, сказал, что первый удар аптекарской иготи есть уже звон погребального колокола: пуля вылетела насквозь в соседстве легких; антонов огонь грозил сжечь сердце, но, вопреки Лесажу и Мольеру, я выздоровел, с помощию лекарей и пластырей, в полтора месяца.
Бледность лица очень мила, но чтобы не показаться княжне мертвецом, я умерил на несколько дней свое нетерпенье и, уже оправясь, полетел верхом к князю на дачу. Сердце мое билось новою жизнию: я мечтал о радостной встрече моей с Софиею, о ее смущенье, об объяснении, о супружестве, о первом дне его… Полный восторгов надежды, взбегаю на лестницу, в переднюю залу, – громкий смех княжны в гостиной поражает слух мой. Признаюсь, это меня огорчило. Как! та София, которая грустила, если не видала меня два дни, веселится теперь, когда я за нее слег в смертную постелю! Я приостановился у зеркала: послышалось, будто упоминают мое имя, говорят о Дон-Кишоте; вхожу – молодой офицер, склонясь на спинку стула Софии, рассказывал ей что-то вполголоса и, как кажется, весьма дружески. Княжна нисколько не смутилась: спросила меня с холодной заботливостью о здоровье, обошлась со мной как с старым знакомцем, но, видимо, отдавала преимущество своему соседу: не хотела понимать ни взглядов, ни намеков моих о прежнем. Я не мог придумать, что это значит, не мог вообразить вины такой обыкновенной холодности – и напрасно искал в ее взорах столь милой досады, делающей сладостным примирение: в них не было уже ни искры, ни тени любви. Иногда она украдкою бросала на меня взгляды, но в них прочитал я одно любопытство. Гордость зажгла во мне кровь, ревность разорвала сердце. Я кипел, грыз себе губы и, боясь, чтобы чувства мои не вырвались речью, решился уехать. Не помню, где скакал я по полям и болотам, под проливным дождем; в полночь воротился я домой без шляпы, без памяти. «Жалею тебя! – сказал Владов, меня встречая. – И, прости укор дружбы, не предсказал ли я, что дом князя будет для тебя ящиком Пандоры? Однако ж на сильные болезни надобны сильные лекарства: читай». Он отдал мне свадебный билет – о помолвке княжны за моего соперника!.. Бешенство и месть, как молния, запалили: кровь мою. Я поклялся застрелить его по праву дуэли (за ним остался еще мой выстрел), чтобы коварная пе могла торжествовать с ним. Я решился высказать ей все, укорить ее… одним словом, я неистовствовал. Знаете ли вы, друзья мои, что такое жажда крови и мести? Я испытал ее в эту ужаснейшую ночь! В тиши слышно было кипение крови в моих жилах, – она то душила сердце приливом, то остывала как лед. Мне беспрестанно мечтались: гром пистолета, огонь, кровь и трупы. Едва перед утром забылся я тяжким сном. Ординарец военного министра разбудил меня: «Ваше благородие, пожалуйте к генералу!» Я вскочил с мыслию, что, верно, зовут меня насчет дуэли. Являюсь. «Государь император, – сказал министр, – приказал выбрать надежного офицера, чтобы отвезти к генералу Кутузову, главнокомандующему южною армиею, важные депеши; я назначил вас, – спешите! Вот пакеты и прогоны. Секретарь запишет на подорожной час отъезда. Счастливого пути, г. курьер!» Тележка стояла у крыльца, и я очнулся уже на третьей станции; великодушный Владов ехал со мною. Тут-то изведал я, что дружество утешает, но не наполняет сердца, и дорога дальная, вопреки общему мнению, только разбила, но не рассеяла меня. Главнокомандующий принял меня отменно ласково и, наконец, уговорил остаться в действующей армии. Презрение к жизни довело меня до мысли о самоубийстве, но Владов своими советами и нежным участием тронул меня. Кто жить советует, всегда красноречив, и он спас мою совесть от двух убийств, мое имя – от насмешек. «Я знал все, – говорил он мне, – но не смел объявить тебе во время болезни. Видя, что открылась тайна, и зная твой бешеный нрав, я бросился к секретарю военного министра, моему приятелю, просил, умолял: тебя послали курьером. Время – лучший советник, и теперь признайся сам: стоит ли пороху твой противник? стоит ли шуму твоя любезная, избравшая в женихи человека без чести и правил, потому только, что он в тоне, что матушка ее заметила лишний против твоего нуль в звончатых титулах человека, который решился проиграть мне брильянтовый портрет своей невесты, ее подарок?» Он отдал тогда мне этот медальон.
Подполковник снял его с груди и показал офицерам.
– Пусть мне тупым кремнем отпилят голову, если я вижу тут что-нибудь! – вскричал Ольский. – Вся эмаль разбита вдребезги.
– Провидение, – продолжал подполковник, – сохранило меня от смерти на берегах Дуная, чтоб долее послужить отечеству: пуля сплюснулась на портрете Софии, но не пощадила его. Прошел год, и армия, по заключении мира с турками, двинулась наперерез Наполеону. Тоска и климат расстроили мое здоровье: я на месяц отпросился на Кавказ – искать целительных вод для здоровья, живой воды – для моего духа.
На другой день по приезде я пошел с тамошним доктором отправить визиты. «Вы увидите, – сказал доктор, когда мы приближались к одному домику, – молодую прекрасную особу, которая чахнет, быв жертвою брака по расчету. Родители напели ей о счастии пышности, а обиженное самолюбие завлекло ее в сети блестящего негодяя, и, обманутая минутною прихотью сердца, она кинулась в его объятия. Что ж вышло? Тетушки и матушка, искавшие в женихе богатства, нашли одно хвастовство, необъятные долги и разврат; он искал приданого и, обманутый обещаниями, в свою очередь оказался во всей черноте: измучил жену язвительными упреками, поведением вогнал ее в чахотку и наконец, проигравши и промотавши все, бросил ее, ославив в свете. Теперь она приехала сюда с отцом, умереть под теплым кавказским небом». Я боялся обеспокоить ее посещением. «О нет! – говорил доктор, – ведь чахоточные умирают на ногах, и я имею правилом: коротать рассеянностью время больных, когда лекарствами нельзя продлить их жизнь». Говоря таким образом, вошли мы в комнату. Это была София!..
Есть невыразимые чувства и сцены. Я думал, что ненавижу Софию; уверял себя, что, если судьба приведет мне с нею встретиться, я заплачу за измену холодным презрением; но я узнал, как много любил ее, когда, вместо гордой красавицы, увидел несчастную жертву света, с потухшими очами, с смертною бледностью лица. На краю гроба исчезают все приличия, и когда София пришла в чувство, рука ее была омочена моими слезами и поцелуями. «Вы не клянете меня? Виктор, ты меня прощаешь?.. – сказала она раздирающим сердце голосом. – Благородная душа… ты сожалеешь, видя меня, так жестоко наказанную за легкомыслие. Теперь я умру покойно». Жизнь, как тлеющая лампада, от дуновения вспыхнула в ней на несколько дней чем-то бывалым. Но каково было мне видеть. разрушение Софии, слышать, как постепенно сокращалось ее дыхание, чувствовать ее муки, переносимые с ангельским терпением!.. Она гасла – без ропота, обвиняя во всем себя одну. Друзья! друзья! я перенес много страданий, но ни одно мученье в мире не сравнится с мукою – видеть умирающую любезную; ужасно и вспомнить… София умерла на руках моих!
Подполковник не мог продолжать. Тронутые офицеры молчали, и даже с ресницы ротмистра скатилась слеза на ус и с него канула в серебряный стакан с глинтвейном. Вдруг послышался выстрел, другой, третий. Казаки с ведетов неслись мимо эскадрона.
– Что, много ли неприятелей? – спросил торопливо ротмистр, вспрыгнув на своего Черкеса.
– Видимо-невидимо, ваше высокоблагородие! – отвечал урядник.
– Мундштучь, садись! – скомандовал подполковник. – Фланкеры! осмотреть пистолеты. Сабли вон! По три налево заезжай! Рысью! Марш!
Второй вечер на бивуаке *
Орудий заряженных строй
Стоял с готовыми громами;
Стрелки, припав к ним головами,
Дремали, и под их рукой
Фитиль курился роковой.
Жуковский
Эскадрон подполковника Мечина прикрывал две пушки главного пикета, расположенного на высотах ***. Сырой туман стлался по окрестности, резкий ветер проницал насквозь. Офицеры лежали вкруг дымного огня. Конно-артиллерийский поручик сидел на колесе орудия; подполковник, опершись на длинную саблю свою, стоял в задумчивости. Все молчали.
– Какое вещественное созданье человек! – начал штабс-ротмистр Ничтович. – Каждая игрушка его тешит, каждая безделица огорчает. Малейшая боль расстраивает нравственные способности, и перемена погоды действует на расположение его духа. Давно ли мы были веселы, пели, резвились; подул холодный ветер – и вместе с небом нахмурились наши брови, и говоруны сидят будто в Пифагоровой школе молчания.
– Не ручаюсь за других, – возразил Лидин, – но покуда старость и подагра не сделали из меня барометра, погода не имеет на меня никакого влияния. Когда я доволен, то, по мне, хоть трава не расти: снег, град, дождь, вьюга – все праздник. Но ежели грустно на сердце, то и светлый день досаден. Тогда кажется, будто все веселы назло мне, и я становлюсь прихотлив, как невеста.
– Следовательно, – сказал штабс-ротмистр, – погода действует на тебя в обратном порядке, но тем не менее влияние оной существует.
– Не думаю, – отвечал Лидин, – это чувство есть следствие внутренних, а не внешних ощущений, и до тех пор будет иметь место, покуда перевес останется на его стороне. Например, я люблю смотреть на играющую молнию, люблю слушать вой грозы и шум проливного дождя… но почему люблю я это?
– Потому что ты чудак, – перебил штабс-ротмистр. – Впрочем, как сам изъясняешься, ты любишь не испытывать, но только смотреть, только слушать бурю, как Вернетову картину или Моцартову ораторию.
– Прошу извинить, господин штабс-ротмистр, я люблю наслаждаться ею на чистом воздухе, в лесу, на горах. Но возвращаюсь к причине. Я люблю это по приятным воспоминаниям, которые родятся во мне от бури. Однажды, например… ах! для чего это было только однажды!..
– Для того, – перебил Ничтович, – что в Кургановой арифметике весьма замысловато сказано: единожды един – един, а не два.
Все засмеялись; но Лидин с улыбкою продолжал:
– Надеюсь, господин штабс-ротмистр простит мне это восклицание: оно вырвалось из сердца, а сердце плохой арифметик.
– Не знаю, каково твое, – отвечал, смеючись, Ничтович, – но мое даже под ядрами так верно отсчитывает шестьдесят секунд в минуту, как патентовые часы.
– Во время сражения мне некогда бывало заниматься поверкою своего пульса, – хладнокровно заметил Лидин.
Это замечание задело за живое штабс-ротмистра; он уже с приметною досадою спросил:
– Конечно, ты за эскадроном в замке строил воздушные замки?
– Дурная игра слов, Ничтович! – сказал подполковник дружески, желая замять ссору, которая бы наверное кончилась саблями. – Пустая игра слов, да и предмет ее не слишком хороший. Вы подсмеиваетесь друг над другом насчет отваги; но я желаю знать, кто бы из всей армии осмелился подумать, не только сказать, что в нашем эскадроне есть кто-нибудь двусмысленной храбрости.
– Пусть мне французский флейтщик пред разводом выбреет усы, если это неправда! – вскричал ротмистр
Струйский, который, лежа на попоне, казалось, слушал только, как растет трава. – Вам грешно, господа, в нашей беззаветной беседе говорить колкости или обращать шутки в дело… Ну, други! мировую!.. А если ж вы не поцелуетесь, то ты, Лидин, не зови меня никогда в секунданты, а ты, Ничтович, вперед не узнаешь, длинны или коротки стремена на моем Черкесе, когда нужно будет понаездничать.
– Помилуй, Струйский, с чего ты взял, будто мы ссоримся! – сказал Ничтович, подавая Лидину руку.
– Ну полно, полно! – продолжал ротмистр. – Кто старое помянет, тому глаз вон.
– Я это всегда говорю своим заимодавцам, – сказал Лидин, но, уважая ротмистра, он сжал руку Ничтовича.
– Надеюсь, однако ж, что анекдот, который начался таким романтическим восклицанием, им не кончился и Лидин доскажет его друзьям своим? – сказал Мечин.
– О, без сомнения, подполковник! Я так люблю говорить о милой Александрине, что очень рад случаю.
– Воля твоя, Лидин, – возразил подполковник, – ты сбиваешься в происшествиях. Сохраняя все уважение к даме твоего сердца, кажется, дело шло не об ней, а об ненастной погоде.
– Имейте немного терпения, господин подполковник, и оно приведет пас к тому же… Надобно вам знать, друзья мои, что, живучи в златоверхой Москве, влюбился я…
– Знаем, знаем в кого и у кого, как по формулярному списку, – подхватил Ничтович, – благодаря твоей нежности я могу описать ее рост, лета и приметы, до последнего родимого пятнышка, как в зеркале. Ты нам об ней наговорил столько…
– Об ней можно говорить, может быть, слишком много, но довольно наговориться об ней нельзя. Ты не знаешь этого ангела, Ничтович, и потому скучаешь рассказом; но спроси у ротмистра, как она прелестна собою, как мила со всеми, как любит просвещение, словесность…
– Бьюсь об заклад, – вскричал Ничтович, – что она хвалила стишки, которые написал ты ей в альбом!
– Как умна, как чувствительна!..
– К теплу и холоду, – прибавил ротмистр, одувая фитиль, которым сбирался закурить свою трубку.
– Вы вечно шутите, Струйский; но что она любезна в самом деле, это больше всего доказывается верностию такого ветреника, каков я.
– Признаться, мудрено на бивуаках сыскать и случай для измены, – промолвил ротмистр, – тем более что из женского пола здесь никого и ничего нет, кроме этой пушки.
– Это единорог, – заметил артиллерийский офицер.
– Тем еще безопаснее! – отвечал ротмистр.
– Но тем хуже, что вы не даете мне досказать моей повести.
Подполковник, шутя, возгласил: «Смирно!», и, по долгом смехе, Лидин продолжал:
– Я уже познакомился со всею роднёю Александрины: ласкался к матушке, ухаживал за отцом, хвалил собак и пристяжных братца, слушал роговую музыку дядей и, что всего несноснее, пересуды тетушек. Гостеприимство есть всегдашняя добродетель моих земляков, и, наконец, меня пригласили приехать к ним в подмосковную. Нужно ли сказывать, что я провел там день как в раю, что мне удалось говорить с нею наедине, что я был неловок и смешон в то время, будто юнкер, который не в форме попался своему генералу, что у меня, наконец, вырвались кой-какие намеки и что меня слушали благосклонно. Ввечеру надобно было ехать тем ранее, что они сами сбирались в город. Я раскланялся, со вздохом взлез на дрожки, и чрез минуту облако пыли скрыло от меня замок Армиды.
На дороге я завернул в деревню к приятелю. Через час выезжаю, и вообразите мое счастье: встречаю дормез, везомый шестью заслуженными конями, и в этом степенно колыхающемся дормезе – Александрину со всем причтом. Между тем небо оболоклось тучами, начал накрапывать дождик, и молния заиграла во всех углах горизонта. «В такую погоду ехать в карете выгоднее, чем на дрожках», – было первою моего мыслью; но быть вместе с нею, так близко подле нее, – вот что очаровало мое воображение до такой степени, что я бы отдал треть моей жизни за прокат в этом полинявшем дормезе. Но как залететь в него? Мы еще не так коротко знакомы, чтобы они могли меня пригласить, а приговориться к этому совестно. Однако ж попытаемся. Проезжая мимо, я заговорил о грозе, о бешеных лошадях моих; но это не помогло; отец спросил только, с какого они завода, а мать пожелала мне счастливого пути. Препятствия поджигают желанья, и я решился на отважную выходку.
«Пошел по всем!»
«Я и то насилу держу коней, – отвечал мой кучер, – если их пустить, они растреплют нас».
«Пошел, – говорю я, – не рассуждать, а делать!» И с этим словом вся тройка подхватила бить, понеслась, – дрожки, звеня, запрыгали по кочкам и выбоям, вправо, влево, под гору и на повороте прямо на камень – крак! – ось пополам, колесо вдребезги, а я вместе с кучером отлетел сажени на три в ров.
К счастию, кучер вывихнул себе только нос, а я лишь крылышко помял, но лежал недвижим из притворства, чтоб сделать занимательнее сцену. Через две минуты открываю глаза – и вижу Александрину в обмороке от испугу; мать оттирает ее спиртом, а отец окуривает меня серными спичками. Одно меня тронуло, другое рассмешило. Скоро все пришло в порядок, и вот, после многих расспросов, приглашений и отговорок, я влезаю, охая, в карету, рассыпаюсь в благодарениях и внутренне радуюсь своей хитрости. И вот, наконец, я подле милой Александрины!.. У меня занялся дух. Темнело, дождь лил ливмя; карета, вследствие моего трактата об электричестве и опасности в грозу скоро ездить, двигалась шагом; отец и мать дремали и только при сильных ударах грома пробуждались – один, чтобы зевнуть, другая, чтоб испугаться. Александрина молчала, а я не смел говорить, потому что голос мой дрожал, как ненатянутая квинта; зато я не сводил глаз с прелестного лица своей соседки, ловил каждую черту, каждое выражение, каждый абрис его, исчезающий в темноте, каждый взор, когда молния облескивала внутренность кареты. Я вдыхал какую-то томную свежесть с щек ее, я слышал биение ее сердца, я чувствовал, как мое неровное дыхание колебало ее локоны. Друзья мои! я молод, но я жил, я чувствовал, я наслаждался; но никогда не испытывал высшего наслаждения, как в этот раз! Одним словом, когда есть счастие в жизни, – я был счастлив, потому что не имел никакого желания! Неужели, Ничтович, ты будешь спорить, что буря не может доставить удовольствия по воспоминаниям?
– Сушиться от дождика воспоминаниями или, что еще хуже, для них мокнуть – для меня столько же смешно, как уверение, будто скучать весело! Что касается до меня, не согретого пылким воображением, я бы променял теперь две дюжины золотых своих поминок на рюмку бургонского.
– Я вас беру на слове, штабс-ротмистр! – сказал артиллерийский офицер. – За вином дело не станет. Эй, фейерверкер! принеси сюда из зарядного ящика две бутылки, те, которые лежат в крышке на левой стороне.
– Да здравствует артиллерия! – воскликнул Струйский, отбивая саблею бутылочное горлышко. – Ну кто бы иной умудрился соединить в одно место и смертные снаряды и жизненные припасы? Теперь предлагаю тост за твою Александрину!
Лидин положил руку на сердце, высоко поднял стакан, по-рыцарски выпил его и разбил вдребезги о шпору.
– Прошу извинить, господа, что я разбил последний хрустальный стакан; теперь уже здоровье чужой красавицы не затускнит его, как в моем сердце не изгладится образ моей невесты!
Бургонское оживило зябнущих офицеров, донышко серебряного стакана сверкало вновь и вновь, и похвала вину не переставала.
– Какая тонкость! – говорил ротмистр, высасывая последнюю каплю.
– Какой букет! – сказал Ничтович, нюхая опорожненную бутылку.
– Вот, Лидин, такое благовонное воспоминание – приятно!
– Это вино, – сказал артиллерист, – доставляет мне еще приятнейшее воспоминание, которое делает честь великодушию женского пола, – воспоминание, за которое едва не заплатил я жизнию. Если господам угодно будет послушать хоть краем уха, я расскажу, как это случилось.
Три дни тому назад я был послан фуражировать в окрестности Сен-Дизье. Неприятеля близко не чаяли, и потому мне дали только пять человек ездовых. Я отправился прямо в деревню Во-сюр-Блез, где уже два раза проходила и стояла наша рота и где жители принимали нас очень ласково. Братская привязанность привлекала меня к Генриете, дочери мэра; она премиленькое, преневинное созданье. Меня утешали ее детская откровенность, ее неизменно веселый нрав. Бывало, когда я задумаюсь, она резвилась вокруг меня и шутя разглаживала морщины на лбу моем.
«Развеселись, добрый русский!» – говорила опа, и я невольно улыбался ее приветливости и в ее светлых глазах искал – и находил – забвенье всего неприятного. Генриета выбежала и тогда меня встретить, играла с моею лошадью, пела, прыгала, как ребенок, и, наконец, унесла у меня саблю. Мэра, отца ее, не было дома. Послав за ним канонера, я велел остальным кормить коней и присматривать фуража, а сам пошел наверх, в обыкновенную свою комнату. Мне принесли вина, но я едва выпил стакан его, едва успел сесть на канапе, как глаза мои сомкнулись, голова упала, – я погрузился в глубокий сон. Не помню, долго ли спал я, утомленный переходами и двухдневною бессонницею; знаю только, что я пробудился от голоса, который называл меня по имени. Открываю глаза: Генриета, бледная, трепещущая, стояла надо мною.
«Беги, русский! – сказала она замирающим голосом. – Спасайся, или тебя убьют! Уже все готово… они собрались… твои солдаты заперты… Но я погибла, если узнают. Беги, умоляю тебя, беги!..»
И Генриета исчезла, как привидение. Русскому офицеру бежать! Нет, этого не будет! Я вскочил, кипя гневом, заткнул за портупею пистолеты и потихоньку сошел вниз. В зале слышались многие голоса… Прикладываю ухо: одни хотели убить нас, другие советовали отдать в плен своему отряду, который, по их словам, должен быть недалеко.
«Чего вы боитесь, – говорил мэр, – отомстить смертью за гибель отцов ваших и братьев, погубленных русскими? И почему эти будут счастливее других, впадавших к нам в руки? Если вы не отделаетесь от этих, – эти проложат дорогу тысячам грабителей и ваши запасы, ваши драгоценности ненадолго скроются под кровлею церкви от их поисков. Впрочем, умертвить их необходимо для собственной безопасности, потому что одна смерть может ручаться за тайну; иначе они из самого плена накличут на нас мщение своих!»
Судите, каково мне было слушать этого оратора, но я, обрадованный открытием запасного их магазина, решился на все, только бы доставить роте фуража, тем скорее, что у нас такой был в нем недостаток, что солдаты кормили лошадей хлебом, которого и сами они не ели досыта. Вхожу… и если бы Копгревова ракета упала тогда между заговорщиками, то, верно бы, она перепугала их менее моего появления.








