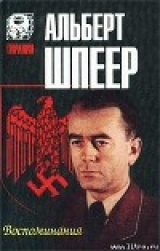
Текст книги "Воспоминания"
Автор книги: Альберт Шпеер
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 42 страниц)
Когда гостевали его старые партийные соратники, Еве Браун позволялось также присутствовать. Но она немедленно изгонялась, если к столу приезжали другие вельможные лица Рейха, например, имперские министры. Даже если появлялся Геринг с супругой, Ева Браун должна была оставаться в своей комнате. Очевидно, Гитлер был довольно невысокого мнения о светскости ее манер. В такие часы ее затворничества я нередко составлял ей в ее комнате рядом со спальней Гитлера компанию. Она была так зажата, что не осмеливалась в подобной ситуации даже просто выйти из дома на прогулку: «На выходе я могу столкнуться с Герингами».
Вообще Гитлер совершенно не считался с ее присутствием. Без всякого смущения он мог при ней разглагольствовать о своем отношении к женщинам: «По-настоящему интеллектуальные мужчины должны жить с очень примитивной и глуповатой женщиной. Подумайте, что было бы, если бы около меня была женщина, которая совала бы нос в мою работу! В мои свободные часы мне нужен покой… Жениться я бы никогда не смог. А если бы еще и дети – какие проблемы! В конце они еще и попробовали бы сделать моего сына моим преемником. Да к тому же у такого, каков я есть, не может родиться порядочный сын. В таких случаях это уж как правило. Вы же знаете, сын Гете был совсем никудышный человек!.. Ко мне, холостяку, липнут многие женщины. Это имело особое значение в годы моей борьбы. Это как у киноактера: стоит ему только жениться, он что-то теряет в глазах обожающих его женщин и перестает быть их кумиром».
Он был убежден, что обладает в глазах женщин особым, очень сильным эротическим магнетизмом. Но и в этом пункте он был сама подозрительность: я никогда не уверен, часто повторял он, – оказывает ли мне женщина внимание как рейхсканцлеру или как Адольфу Гитлеру, а женщин с живым умом он, как это весьма негалантно им снова и снова повторялось, он ни за что бы около себя не потерпел. Развивая свои мысли в этом направлении, он, очевидно, не отдавал себе отчета, насколько это должно было оскорбительно звучать для присутствующих дам. Однако, Гитлер умел показать себя и как заботливый семьянин. Однажды, когда Ева Браун сильно запаздывала с лыжной прогулки к чаю, он изображал беспокойство, нервозно посматривал на часы, встревоженно вопрошал, не приключилось ли с ней чего.
Ева Браун происходила из простой семьи, отец ее был школьным учителем. Я имел случай познакомиться с ее родителями, жили они уединенно и до самого конца – самым скромным образом. Да и сама Ева Браун оставалась непритязательной, неброско одетой и носила самые что ни на есть дешевые украшения (3), полученные в подарок от Гитлера к Рождеству или дню рождения. Обычно это были полудрагоценные камни, в лучшем случае ценой в сотню марок и прямо-таки оскорбительной заурядности. Борман приносил ассортимент, а Гитлер выбирал, обнаруживая при этом, как мне казалось, мещанский вкус, отдавая предпочтение совершенно ничтожным побрякушкам.
Ева Браун была вне политики и едва ли когда-нибудь пыталась влиять на Гитлера. Но своим острым взглядом на реальности повседневного быта она иногда критически высказывалась по поводу разного рода неполадок мюнхенской жизни. Борману это было не по душе, потому что после каждого такого случая его тут же вызывали на ковер. Она была спортивна, хорошая неутомимая лыжница, с которой мы вместе устраивали прогулки и за пределами огороженной зоны. А однажды Гитлер дал ей отпуск на целую неделю – конечно, на время своего отсутствия на Горе. Вместе с нами она поехала на несколько дней в Цюрс, где, неузнанная, с величайшим увлечением, чуть ли не до утра, танцевала с молодыми офицерами. Она была бесконечно далека от намерения сыграть этакую современную мадам Помпадур. Для историка Ева Браун может представлять интерес только как фон, на котором раскрывались характерологические особенности Гитлера.
Из определенного сочувствия к ее положению я вскоре проникся симпатией к этой несчастной женщине, очень привязанной к Гитлеру. К тому же нас объединяла нелюбовь к Борману, тогда еще только из-за того, как высокомерно и тупо он совершал насилие над природой и как он изменял жене. Когда на Нюрнбергском процессе я услышал, что Гитлер женился на Еве Браун на остававшиеся им полтора суток, я порадовался за нее – хотя, впрочем, и в этом сквозил цинизм, с которым Гитлер обращался с ней, да и вообще со всеми женщинами.
Я много раз себя спрашивал, испытал ли Гитлер что-то похожее на любовь к детям. Во всяком случае, было заметно, что он как-то напрягался, вступая в контакт с чужими или даже ему знакомыми детьми. Он даже старался по-прятельски, по-отечески чем-то заняться вместе с ними – и хоть бы раз получилось! Ему никак не удавалось найти верный, непринужденный тон общения: после нескольких поощрительных слов он тут же поворачивался спиной и заговаривал с другим. Он смотрел на детей как на подрастающее поголовье, как на представителей следующего поколения, и его могли радовать скорее их внешность (белокурый, голубоглазый), рост (сильный, здоровый) или интеллект (молодой, цепкий), чем собственно детская сущность. На моих детей его личность не оказала ровно никакого воздействия.
От светской жизни на Оберзальцберге в памяти осталось только воспоминание о поразительной ее пустоте. К счастью, еще в первые годы моего заключения, еще по свежей памяти, я записал обрывки каких-то разговоров, которые я могу до известной степени считать аутентичными.
В разговорах за чаем – а их прошла не одна сотня – обсуждались мода, вопросы собаководства, театра и кино, говорилось об оперетте и ее звездах, а кроме того – о всяких мелочах из семейной жизни отсутствовавших в данный момент. Гитлер почти совсем не высказывался о евреях, о своих внутриполитических противниках и уж ни словом не упоминал о необходимости строительства концлагерей. Вероятно, это объяснялось не столько определенным его намерением, сколько банальностью самих тем. Зато на удивление часто Гитлер высмеивал своих ближайших сотрудников. Нет ничего удивительного, что именно это сильнее врезалось в память: ведь, в конце концов, речь шла о лицах, стоявших абсолютно вне всякой публичной критики. Узкий круг не был связан обетом молчания, а от женщин Гитлер и вообще считал бессмысленным требовать каких-либо заверений в конфиденциальности. Рассчитывал ли он пробудить к себе особые симпатии, говоря о всех и вся столь пренебрежительно? Или это было выражением его абсолютного презрения ко всем людям и любым событиям?
Гитлер часто уничижительно отзывался о создаваемом Гиммлером мифе вокруг СС: «Что за чушь! Только-только наступило время, отбросившее всякую мистику, и пожалуйста – он начинает все с начала! Так уж тогда лучше и остаться в лоне церкви. У нее, по крайней мере, есть традиции. Чего стоит одна мысль сделать из меня когда-нибудь „святого СС“! Подумать только! Да я в гробу перевернусь!»
«Недавно Гиммлер опять выступил с речью, в которой обозвал Карла Великого „убийцей саксов“. Гибель многих саксов не может рассматриваться как историческое преступление, как полагает Гиммлер. Карл Великий сделал большое дело, подчинив себе Видукинда и быстренько перебив саксов. Это сделало возможным распространение империи франков и западной культуры на Германию». (Нужен комментарий – В.И.)
Гиммлер организовал с помощью ученых раскопки из времен доисторических. «И зачем только мы перед всем миром твердим, что у нас нет прошлого? Мало того, что римляне возводили уже огромные сооружения, когда наши предки еще жили в глинобитных жилищах, так Гиммлер принялся теперь за раскопки этих поселений и впадает в экстаз от всякого, что попадется, глиняного черепка и каменного топора. Мы этим только доказываем, что мы все еще охотились с каменными топорами и сбивались в груду у открытого костра, когда Греция и Рим уже находились на высочайшей ступени культуры. У нас более чем достаточно оснований помалкивать о своем прошлом. А Гиммлер вместо этого трезвонит об этом повсюду. Можно себе представить, с каким презрением сегодняшние римляне смеются над этими откровениями».
Тогда как в берлинском кругу своих политических сотрудников он крайне резко высказывался против церкви, то здесь, в присутствии женщин, он придерживался более примирительного тона – один из примеров тому, как приспосабливал он свои суждения к данной аудитории.
«Церковь, конечно, для народа нужна. Это сильный и стабильный элемент», – мог он разъяснять в своем приватном кружке. Правда, в данном случае он имел в виду инструмент, который был бы на его стороне: «Если бы Райби (так он именовал рейхсепископа Людвига Мюллера) был действительно личностью! Но зачем же возводить в сан какого-то ничтожного полкового священника? Да я бы с охотой оказал ему поддержку. Но на что она ему? Евангелическая церковь могла бы у нас с моей помощью стать государственной церковью, как в Англии».
Даже еще и в 1942 г. Гитлер в одном из разговоров на Оберзальцберге подчеркнул, что он считает существование церкви в жизни государства совершенно необходимым. Он был бы просто счастлив, объявись какой-нибудь выдающийся церковник, который смог бы возглавить одну – а лучше еще, объединив их, – обе церкви. Он по-прежнему сожалеет, что рейхсепископ Мюллер не тот человек, который был бы способен осуществить его далеко простирающиеся планы. При этом он весьма резко осудил борьбу против церкви как преступление перед будущим народа, потому как невозможно заменить церковь «партидеологией». Не может быть сомнений в том, что с течением времени церковь сумеет приспособиться к политическим целям национал-социализма: на протяжении своей истории она, видит Бог, только этим и занималась. Создание какой-то партрелигии означало бы просто впадение в средневековый мистицизм. Все это мифотворчество вокруг СС и нечитабельный труд Розенберга «Миф двадцатого столетия» вполне это доказали.
Если бы в таком, обращенном к самому себе монологу, прозвучали более резкие суждения о церкви, Борман тут же бы вытащил из кармана всегда при нем находившиеся белые карточки: он записывал все, казавшиеся ему важными, суждения Гитлера. С особой жедностью он заносил на них пренебрежительные высказывания о церкви. Я предполагал, что он собирает материал для будущей биографии Гитлера.
Когда в 1937 г. он узнал о том, что на предприятиях, принадлежавших партии, а также в СС многие его сторонники заявили о выходе из церкви, поскольку-де она упорствует в своем противодействии намерениям Гитлера, то он, по соображениям оппортунистическим, приказал своим ведущим политическим сотрудникам, но прежде всего – Герингу и Геббельсу – и впредь числиться прихожанами. И он сам останется в католической церкви, хотя у него нет к ней внутренней привязанности. Он и остался в ней до самого самоубийства.
Каким образом Гитлер представлял себе свою государственную церковь, видно из неоднократно им повторявшегося рассказа о посещении его делегацией каких-то высокопоставленных арабов. Когда мусульмане, так излагали свою историческую версию гости, собрались в VIII в. вторгнуться через Францию в центральную Европу, они, к несчастью, потерпели поражение при Пуатье. Если бы тогда победили арабы, то сегодняшний мир был бы мусульманским. Они навязали бы германским народностям религию, главный постулат которой – распространять истинную веру мечом и подчинять ей все другие народы – прямо-таки в крови у германцев. Но в силу своей расовой неполноценности завоеватели не смогли бы долго продержаться в противостоянии выросшим в более суровых климатических условиях и более физически сильным местным жителям. Так что в конечном счете во главе этой части исламской мировой империи оказались бы не арабы, а омусульманенные германцы. Свой рассказ Гитлер обыкновенно заключал следующим рассуждением: «Вообще наша беда в том, что не та у нас религия. Почему у нас не религия японцев, которая превыше всего ставит жертву во имя отечества? Да и мусульманская вера была бы для нас более подходящей, чем, как назло, это христианство с его дряблым страстотерпием». Поразительно, но еще до войны он нередко утверждал: «Сегодня сибиряки, белорусы и степные люди живут очень здоровой жизнью. Это делает их способными к развитию и в долгосрочной перспективе они биологически будут превосходить немцев». Мысль, которую в последние месяцы войны он, вероятно, частенько вспоминал.
Розанберг распродавал свою 700-страничную книгу «Миф двадцатого века» сотнями тысяч экземпляров. В общественном мнении она воспринималась как основополагающий труд партийной идеологии, но Гитлер во время таких чаепитий отзывался о ней как «штука, которую никто не поймет», написанную «неким узколобым прибалтом со страшно усложненным способом мышления». Он все удивлялся, что такого рода книга смогла заполучить такие тиражи: «Это же шаг назад, в средневековые представления!» Не ясно, дошли ли до Розенберга эти частные высказывания.
Культура древних греков была для Гитлера совершенством во всех ее проявлениях. Их мироощущение, как оно, к примеру, преломилось в архитектуре, – «свежее и здоровое». Однажды он был в большом мечтательном возбуждении от фотографии какой-то пловчихи: «Что за великолепное тело Вы сегодня можете увидеть! Только в наш век молодежь начинает, благодаря спорту, приближаться к эллинистическим идеалам. А ведь как столетиями тело находилось в забросе! В этом наше время сильно отличается от всех культурных эпох со времен античности». Но для себя лично занятия спортом он отвергал. Не слышал я от него и упоминаний о занятиях каким-либо видом спорта в молодые годы.
Под греками он прежде всего подразумевал дорийцев. Тут сказывалось, конечно, выдвинутое некоторыми учеными предположение, что пришедшая с севера народность дорийцев была германского происхождения и не принадлежала к кругу средиземноморской культуры.
Одной из самых излюбленных его тем была охотничья страсть Геринга: «И как только может человек этим увлекаться. Убийство животных, если уж оно неизбежно, должно быть занятием мясника. Да еще и платить за это немало… Я понимаю, что профессионалы-егеря должны отстреливать больных зверей. Ну было бы это, по крайней мере, как-то связано с риском, как в древности, когда охотились с копьем. Но сегодня, когда всякий с большим пузом может издалека подстрелить зверя… Охота и верховая езда – последние пережитки отмеревшего феодального мира».
Одним из видов удовольствия было для него выслушивание пересказов, с массой подробностей, послом Хевелем, представителем Риббентропа при Гитлере, разговоров по телефону с министром иностранных дел. Гитлер давал ему советы, каким образом он может смутить или привести в смятение своего шефа. Бывало, что Гитлер вплотную подходил к Хевелю, беседовавшему с Риббентропом, и тот, прикрыв микрофон рукой, повторял слова министра, а Гитлер нашептывал ответы. Чаще всего это были саркастические реплики, которые не могли не усиливать озабоченность и без того подозрительного министра, что во внешнеполитических вопросах Гитлер может оказаться под влиянием не тех кругов и тем самым поставить под вопрос его компетентность как министра.
Даже после весьма драматических переговоров Гитлер мог посмеяться над своими партнерами. Как-то раз он искусно разыгранным темпераментным взрывом дал Шушнигу во время переговоров в Оберзальцбурге 12 февраля 1938 г. ясно осознать всю серьезность положения и тем самым принудил того к капитуляции. (Нужен комментарий – В.И.) Многие из его истерических выходок, о которых часто пишут, были скорее всего как раз таким лицедейством. А вообще же именно владение собой было одной из самых примечательных черт Гитлера. В моем присутствии в те годы он лишь в единичных случаях выходил из себя.
Примерно в 1936 г. Шахт появился в Бергхофе, где он должен был сделать Гитлеру доклад. Мы, гости, в это время находились на примыкающей к жилой комнате хозяина дома террасе, куда было распахнуто огромное окно. Насколько можно было судить, Гитлер в высшей степени возбужденно атаковал министра экономики. Диалог с обеих сторон становился все резче и вдруг оборвался. Гитлер в ярости появился на террасе и еще долго распространялся о своем упрямом и закосневшем министре, затрудняющем ему политику вооружения. Другой случай крайнего возбуждения связан с пастором Нимеллером (нужен комментарий – В.И.) в 1937 г., который в берлинском округе Далем снова выступил с бунтарской проповедью. Одновременно с этой информацией Гитлеру передали и записи телефонных разговоров Нимеллера. Каким-то лающим голосом Гитлер приказал отправить пастора в концлагерь, и поскольку он неисправим, никогда его оттуда не выпускать.
А еще один случай ведет к его ранней молодости. На пути из Будвейса в Кремс в 1942 г. стоял у дороги указатель в сторону села Шпиталь под Вейтрей, близ чешской границы, где – как утверждала табличка указателя, «в своей молодости жил фюрер». Солидный дом в зажиточном селе. Я рассказал об этом Гитлеру. Он моментально вышел из себя, заорал, чтобы немедленно появился Борман. Тот возник с недоуменным лицом. Гитлер резко на него обрушился: он же не раз указывал, что это местечко ни в коем случае не должно упоминаться. Так этот осел-гауляйтер еще и указатель поставил. Убрать немедленно! Я тогда не мог объяснить себе причину его волнения, потому что в других случаях он радовался, когда Борман сообщал ему о поддержании в порядке иных мемориальных мест, связанных с его молодостью, вокруг Линца и Брандау. Очевидно, были особые на то причины, чтобы стереть воспоминание о каком-то отрезке времени. Сегодня известно о непроясненных семейных обстоятельствах, теряющих свой след в этом уголке австрийских лесов.
Из под его карандаша частенько возникал эскизный рисунок одной из башен исторических крепостных укреплений Линца: «Здесь было мое любимое место для игр. Учеником я был плохим, но во всех проказах – всегда впереди. А эту башню я хочу со временем в память о тех моих годах перестроить в большую молодежную базу». Он часто рассказывал о первых своих политических впечатлениях молодости. Почти у всех его соучеников в Линце было обостренное чувство протеста против притока чехов в Австро-Германию, это было, рассказывал он, моим первым подступом к пониманию национальных проблем вообще. А позднее, в Вене, по какому-то мгновенному наитию у него открылись глаза на еврейскую угрозу, многие рабочие из его среды были настроены резко антисемитски. Но в одном он не соглашался с рабочими-строителями: «Я отвергал их социал-демократические взгляды, никогда не был я и членом профсоюза. Это и доставило мне первые неприятности политического характера». Возможно, поэтому он без удовольствия вспоминал Вену и, совсем наоборот, мечтательно вздыхал о довоенном Мюнхене, до удивления часто и охотно – о мясных лавках с колбасами.
Безграничным уважением пользовался у него епископ Линца времен его молодости, который своей энергией сумел преодолеть все препятствия, возникшие вокруг строительства линцского собора грандиозных масштабов; он хотел непременно превзойти собор св. Стефана в Вене, из-за чего и возникли осложнения с австрийским правительством, не желавшим уступать пальму первенства Вены. (4) За этим обычно следовали рассуждения о нетерпимости центрального австрийского правительства ко всем самостоятельным культурным инициативам в таких городах, как Грац, Линц или Инсбрук, просто подавлявшим их. Оно, видать, не осознавало, что оно тем самым насильно навязывало уравниловку целым землям. А вот теперь, когда он сам может все решать, он поможет своему родному городу восстановить свои законные права. Его программа превращения Линца в «мировой город» предусматривала возведение большого числа парадных построек по обоим берегам Дуная, а его берега должны были соединиться висячим мостом. Кульминационной точкой всего замысла должно было стать огромное здание аппарата гау НСДАП, с обширнейшим залом для собраний и башней с колоколами. В этой башне он предусмотрел для себя крипту, подземное погребение. Другими центральными строениями на берегу Дуная должны были стать ратуша, фешенебельный отель, большое здание театра, здание верховного командования, стадион, картинная галерея, библиотека, музей истории оружия, выставочный павильон, а также два памятника – Освобождения 1938 г. и в честь Антона Брукнера (5). Мне поручался проект картинной галереи и стадиона, который должен был раскинуться на откосе горы с видом на город. А неподалеку, также на возвышенности, предстояло построить резиденцию для Гитлера после его отхода в старости от политики.
Гитлер был навсегда зачарован перспективой столетиями складывавшегося ансамбля набережных Будапешта, как она открывается с дунайских мостов. Его честолюбивый замысел заключался в том, чтобы превратить Линц в немецкий Будапешт. Вена, как он отмечал в этой связи, вообще неверно спланирована – обращена к Дунаю спиной. Проектировщики упустили шанс включить речной поток в архитектурный облик города. Уже по одному тому, что ему удастся сделать в Линце, его отчий город сможет смело вступить в конкуренцию с Веной. Конечно, такого рода замечания были не вполне серьезны: его подводила нелюбовь к Вене, которая время от времени неожиданно в нем прорывалась. По другим поводам он также часто отмечал, что Вене привалила поразительная градостроительная удача, когда приступили к застройке валов бывших крепостных сооружений.
Еще до начала войны Гитлер иногда говаривал, что по достижению своих политических целей он отойдет от власти и мечтает закончить свои дни в Линце. В старости он полностью будет воздерживаться от политической активности, потому что только в этом случае его преемник сможет завоевать свой политический авторитет. Он не будет лезть к нему со своими советами. Люди быстренько повернутся к его преемнику, как только почувствуют, что в его руках реальная власть. А его все равно скоро забудут, все его оставят. Не без сочувствия к самому себе он продолжал: «Может, иногда и навестит меня кто-нибудь из моих старых сотрудников, но я не очень на это рассчитываю. Кроме фройляйн Браун я никого не возьму с собой туда. Фройляйн Браун и моего пса. Я буду очень одинок. Да и как я бы мог кого-то удерживать при себе силой? Да на меня просто не будут обращать внимания. Все побегут за моим преемником! Ну, может, раз в год, в день рождения они ко мне и придут». Естественно, все сидящие за столом начинали заверять его в своей преданности и в том, что они всегда будут вместе с ним. Могу только догадываться о мотивах частых его разговоров о раннем отходе от политики – во всяком случае, создавалось впечатление, что он исходил из того, что не магнетизм его личности, а обладание властью является источником и основой его авторитета. Ореол вокруг его чела казался его сотрудникам, не причастным к самому узкому кругу, несравненно больше и ярче. Среди же своих не произносили с почтительным придыханием «фюрер», а говорили просто «шеф» и приветствовали друг друга не предписанным «Хайль Гитлер», а просто по-человечески желали друг другу доброго дня. Можно было, не вызывая у Гитлера неудовольствия, слегка и поиронизировать над ним. Его излюбленную формулу: «На это есть две возможности» часто в его присутствии и по вполне банальным поводам использовала одна из его секретарш фройляйн Шредер. Например: «На то есть две возможности – либо дождь пойдет, либо нет». Ева Браун без смущения в присутствии всех за столом могла заметить, что его голстук не подходит к костюму, а то и шаловливо именовала себя «матушкой этой страны».
Как-то раз за большим круглым столом в чайном домике Гитлер вперил в меня, не мигая, свой взгляд. Вместо того, чтобы отвести глаза, я воспринял это как своего рода вызов. Кто знает, какие атавистические инстинкты толкают к такому поединку, когда два противника смотрят в упор в глаза друг другу, пока один не сдастся. Обычно я всегда выигрывал такие перегляды. Но на этот раз мне пришлось призвать всю, почти сверхчеловеческую, энергию – время, казалось, остановилось – чтобы не поддаться все нараставшему давлению, искусу закрыть веки; наконец, Гитлер опустил веки и сразу же заговорил о чем -то со своей соседкой.
Я часто задавал себе вопрос: что мешает мне считать Гитлера своим другом? Я был постоянно в его окружении, в его частном обиходе чувствовал себя почти как дома и был, кроме того, его первейшим сотрудником в столь им любимой области, в архитектуре.
Мешало все. В жизни своей я не встречал человека, так тщательно скрывавшего свои чувства, и если они и приоткрывались, то всего на какое-то мгновение. Во время заключения в Шпандау я обсуждал с Гессом эту особенность Гитлера. По общему нашему заключению, бывали такие минуты, когда казалось, что ты к нему как-то приблизился. Но это всегда оказывалось заблуждением. Если очень осторожно ты начинал переходить на предложенный им дружеский тон, он тут же воздвигал непреодолимую защитную стену.
Впрочем, Гесс полагал, что все же одно исключение было – Дитрих Эккардт. Но основательнее обсудив этот казус, мы пришли к заключению, что здесь все же скорее имело место почтительное отношение к старшему по возрасту и в антисемитских кругах весьма уважаемому писателю, чем дружба. После кончины Эккардта в 1923 г. только четыре человека обращались к Гитлеру по-дружески на «ты»: Эссер, Кристиан Вебер, Штрайхер и Рем (6). По отношению к первому из названных он воспользовался после 1933 г. первым удобным поводом, чтобы вернуться к «Вы», второго он просто избегал, с третьим обращался совершенно безличностно, а четвертого приказал убить (Нужен комментарий – В.И.). Даже по отношению к Еве Браун он никогда не был абсолютно раскован и человечен: дистанция между фюрером нации и простой девушкой постоянно поддерживалась. Иногда он не очень к месту обращался к ней «чапперль». Это баварское простонародное словцо, означающее примерно «малышка», и передавало его отношение к ней.
Авантюризм своего предназначения, масштаб ставки в игре были им по-настоящему осознаны после продолжительной беседы в ноябре 1936 г. на Оберзальцберге с кардиналом Фаульхабером. После ее окончания мы сидели с ним вдвоем в эркере столовой, в наплывающих сумерках. После долгого молчания, когда он смотрел куда-то за окно, он произнес задумчиво: «На то у меня две возможности: либо полностью претворить мои планы, либо потерпеть крушение. Осуществлю я их – и я войду в историю как один из величайших ее творцов, потреплю крах – и я буду осужден, ненавидим и проклят».








