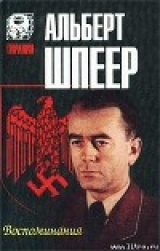
Текст книги "Воспоминания"
Автор книги: Альберт Шпеер
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 42 страниц)
Глава 26
Операция «Валькирия»
Пролетая как-то над одним из разбомбленных заводов синтетического горючего, я обратил внимание на точность попаданий, с какой авиация противника осуществляла ковровые бомбардировки. И меня пронзила мысль, что при такой точности бомбометания западным заюзникам ничего не стоит за один день уничтожить все мосты через Рейн. Специалисты, которым я дал задание нанести в точных масштабах рейнские мосты на сделанные с воздуха фотографии местностей, подвергшихся особенно методичным бомбардировкам, подтвердили мои опасения. Я немедленно распорядился доставить к мостам соответствующие стальные конструкции на случай срочных ремонтных работ. Кроме того, я передал на заводы заказы на десять паромов и один понтонный мост (1).
29 мая 1944 г., спустя десять дней, я написал Йодлю обеспокоенное письмо: «Меня не покидает мучительная мысль, что все мосты через Рейн могут быть уничтожены в течение одного дня. По моим наблюдениям плотность сбрасывания бомб в последнее время такова, что это противнику вполне может удасться. Каким будет наше положение, если противник, сумеет разрушить транспортные пути, отрежет наши армейские соединения, находящиеся на занятых нами западных территориях и осуществит свою десантную операцию не по ту сторону Атлантического вала, а непосредственно на северо-немецком побережье? Такая высадка могла бы ему удасться, поскольку одна из ее предпосылок уже сегодня налицо – абсолютное превосходство в воздухе. Во всяком случае его потери были бы при таком варианте меньше, чем при лобовой атаке на Атлантический вал».
Собственно на немецкой земле у нас было ничтожно мало войск. Если бы в результате воздушно-десантной операции неприятелю удалось захватить аэропорты Гамбурга и Бремена, а затем сравнительно небольшими силами овладеть и портами этих городов, то, – продолжал развивать я свои тревожные мысли, – высаженные тогда уже с военных судов войска противника, не встречая серьезного сопротивления, могли бы в течение нескольких дней захватить Берлин и всю Германию, тогда как стоящие на Западе три армейские группировки были бы отрезаны Рейном, а фронтовые соединения на Востоке были бы скованы тяжелыми оборонительными боями, да и вообще оказались бы на слишком большом удалении, чтобы иметь возможность своевременно придти на помощь.
Мои опасения по своей авантюристичности были сродни иным идеям Гитлера. Если при следующей же встрече на Оберзальцберге Йодль иронически заметил, что я видимо, решил преумножить и без того безбрежную армию стратегов-любителей, то Гитлер отнесся к моей мысли со вниманием. В дневнике Йодля 5 июня 1944 г. сделана запись: "Внутри Германии предстоит создать костяк дивизионных структур, в которые при чрезвычайной ситуации можно было бы влить отпускников и выздоравливающих. Шпеер обещает ударным образом поставить вооружение. В отпусках обычно одновременно находятся 300 тысяч, т.е. 10-12 дивизий (2).
Ни Йодль, ни я не знали тогда, что подобная идея уже давно организационно подготовлена. С мая 1942 г. существовал разработанный до мельчайших деталей план под кодовым наименованием «Валькирия», предусматривающий в случае внутренних беспорядков или чрезвычайных ситуациях быструю концентрацию всех находящихся на территории Германии частей (3). Теперь интерес Гитлера к этому вопросу снова пробудился, и уже 7 июня 1944 г. на Оберзальцберге состоялось совещание, в котором наряду с Кейтелем и Фроммом принимал участие и полковник фон Штауфенберг.
Граф Штауфенберг был подобран генералом Шмундтом, шеф-адъютантом Гитлера, чтобы в качестве начальника штаба активизировать работу подуставшего Фромма. Как мне объяснил Шмундт, Штауфенберг пользовался репутацией одного из самых дельных и способных офицеров (4). Гитлер не раз советовал мне установить со Штауфенбергом тесное и доверительное сотрудничество. Штауфенберг, несмотря на свои тяжелые ранения сохранял какое-то особое обаяние юности; своеобразная поэтичность сочеталась в нем с отточенной четкостью. В этом виделось взаимодействие двух на первый взгляд взаимоисключающих начал в формировании его личности – поэтический круг вокруг Стефана Георга и Генеральный штаб. Мы бы с ним отлично сошлись и без поощрения к этому со стороны Шмундта. Уже после того события, которое неразрывно связано с его именем, я очень много и часто размышлял о нем и не находил более точных, чем у Гельдерлина, слов: «В высшей мере противоестественный, своенравный характер, если не понять тех обстоятельств, которые насильственно зачеканили его кроткий дух в столь строгую форму».
Совещание по мобилизационным в чрезвычайной ситуации вопросам были продолжены 6-го и 8-го июля. Вместе с Гитлером вокруг большого круглого стола в гостиной Бергхофа сидели Кейтель, Фромм и другие офицеры. Около меня занял мсето Штауфенберг со своим необыкновенно раздутым портфелем. Он давал пояснения по плану «Валькирия» Гитлер внимательно слушал его и в состоявшемся затем обмене мнениями согласился с ним по большинству пунктов. В конце совещания он принял решение, что в случае боевых действий на территории Рейха вся полнота исполнительной власти переходит к военачальникам, а за политическими инстанциями, т.е. прежде всего за гауляйтерами, в их функции рейхскомиссаров по обороне, сохранялись только консультативные функции. Командующие военными частями получали право, – как это и было записано в решении, – давать прямые, обязательные к исполнению указания государственным органам, коммунальной администрации, даже не запрашивая мнения гауляйтеров (5).
Было ли это дело случая или следование определенному плану, но только как раз в эти дни в Берхтесгадене собралось основное военное ядро заговорщиков. Теперь мне известно, что несколькими днями раньше они во главе со Штауфенбергом приняли, больше уже не откладывая, решение о покушении на Гитлера при помощи бомбы, хранившейся у генерал-майора Штифа. 8 июля у меня была встреча с генералом Фридрихом Ольбрихтом по вопросу о призыве в вермахт рабочих, имеющих бронь, сразу после разговора с Кейтелем, в котором наши мнения разошлись. Как это чаще всего и бывало, он начал с жалоб на то, какие проблемы возникают из-за разделенности вермахта на четыре структурные части. Он указал на некоторые несуразицы, устранение которых могло бы обеспечить приток в сухопутные силы не одну сотню тысяч молодых солдат из ВВС.
А еще на следующий день в ресторане «Берхтесгаденер хоф» я встретился с генерал-квартирмейстером Эдвардом Вагнером, генералом войск связи Эрихом Фельгибелем, генералом при начальнике Генерального штаба Фрицем Линдеманом, а также с начальником Организационного управления при верховном командовании сухопутных войск генерал-майором Штифом. Все они были участниками заговора, и ни одному из них не суждено было прожить еще несколько месяцев. Может быть, именно потому, что столь долго откладывавшееся решение о государственном перевороте было окончательно принято, они все производили беззаботное впечатление, как это нередко бывает, после сожжения за собой всех мостов. Хроника моего министерства зафиксировала безмерное мое удивление от их беззаботно лихих оценок отчаянного положения на фронтах: «По словам генерал-квартирмейстера трудности незначительны… Генералы оценивают неудачи на Восточном фронте всего лишь как досадный пустяк» (6).
Еще не далее, как недели за две до этого генерал Вагнер описывал положение в самых мрачных тонах и выдвигал дополнительные требования по вооружению, если дальнейшее отступление окажется неизбежным, которые были заведомо невыполнимыми и которые, как я сегодня думаю, могли иметь только один смысл – доказать Гитлеру, что поддержание необходимого уровня поставок вооружения вермахту вообще уже невозможно и что, поэтому, мы идем навстречу полной катастрофе. Я при этом не присутствовал, а мой сотрудник Заур отчитал, при поддержке Гитлера, генерал-квартирмейстера, который был по возрасту значительно старше его, как мальчишку. Я его разыскал здесь специально, чтобы засвидетельствовать мою неизменную симпатию к нему, но заметил, что тот неприятный эпизод его теперь уже ничуть не волновал.
Мы, не торопясь, порассуждали о неполадках в управлении войсками, вытекавших из недостатков в верховном командовании. Генерал Фельдгибель рассказал о бессмысленном расточительстве живой силы и материальных ценностей, возникавшем уже только вследствие одного того, что в каждом роде войск вермахта существует своя автономная система связи: ВВС и армия протянули свои кабели чуть ли не до Афин и Лапландии. Их объединение, если даже оставить в стороне вопросы экономии, обеспечило бы бесперебойную связь даже при самых чрезвычайных обстоятельствах. Гитлер же резко отвергал все предложения, шедшие в этом направлении. Я со своей стороны, также привел примеры того, какие преимущества принесло бы каждому из родов войск единое руководство всей политикой вооружения.
Хотя я с заговорщиками и прежде нередко вел весьма откровенные разговоры, я никогда ничего не подозревал об их планах. Лишь один-единственный раз я почувствовал, что что-то затевается – и то не из бесед с ними, а из одного высказывания Гиммлера. Как-то поздней осенью 1943 г. они о чем-то разговаривали с Гитлером на открытом воздухе возле ставки. Я задержался в непосредственной от них близости и стал, таким образом, невольным свидетелем следующего разговора: «Так, значит, мой фюрер, Вы согласны на мой разговор с „серым кардиналом“ и с тем, чтобы при этом я прикинулся бы, что я с ними заодно?» Гитлер утвердительно кивнул: «Существуют какие-то темные планы и, может быть, мне удастся таким образом разузнать о них поподробнее, если я, конечно, сумею войти к нему в доверие. И если до Вас, мой фюрер, что-то дойдет со стороны, то Вы знаете истинные мотивы моих действий». Гитлер жестом выразил свое согласие: «Разумеется, у меня к Вам полное доверие». У одного из адъютантов я потом поинтересовался, кому принадлежит кличка «серый кардинал» и услышал в ответ: «Это прусский министр финансов Попитц!»
Роли распределяет случай. Какое-то время он, казалось, колебался, куда меня направить 20-го июля – в оплот зоговорщиков на Бендлерштрассе или же в центр сопротивления ему, в личные апартаменты Геббельса.
17 июля Фромм через своего начальника штаба Штауфенберга пригласил меня на 20-е число на обед в служебное здание на Бендлерштрассе, с последующим совещанием. Но на первую половину дня у меня должно было состояться уже давно обещанное выступление перед членами Имперского правительства и представителями промышленных кругов о положении с производством вооружений, и я отклонил приглашение. Несмотря на отказ, Фромм поручил своему начальнику штаба в настоятельной форме повторить свое пиглашение: крайне необходимо, чтобы я пришел. Нетрудно было предвидеть, что утреннее мероприятие будет достаточно напряженным, чтобы после него обсуждать те же проблемы еще и с Фроммом, и я снова отказался.
Мой доклад начался примерно в 11 часов в парадном зале, построенном и расписанном еще Шинкелем, здания министерства пропаганды. Это была любезность со стороны Геббельса. Собралось человек двести – все находящиеся в Берлине министры, их статс-секретари и высокопоставленные чиновники, короче говоря – весь политический Берлин. Аудитория выслушала сначала мои призывы к напряжению всех сил родины и народа, которые я повторял из речи в речь и научился произносить их почти что автоматически, затем я, с графиками и таблицами, обрисовал положение дел в производстве вооружений.
Как раз в то самое время, когда я приблизился к концу своего доклада, а Геббельс на правах хозяина дома произнес несколько слов в заключение, в Растенбурге взорвалась бомба Штауфенберга. Будь путчисты половчее, они могли бы одновременно с покушением арестовать в этом зале практически все Имперское правительство вместе со всеми ведущими сотрудниками. И для этого, как гласит присказка, достаточно было бы одного лейтенанта и дюжины солдат. Ничего не подозревавший Геббельс пригласил Функа и меня в свой министерский рабочий кабинет. Мы, что в последнее время случалось часто, обсуждали все ту же проблему упущенных или еще имеющихся шансов мобилизации всех сил отечества, как вдруг заговорил небольшой динамик: «Господина министра срочно требует ставка. У телефона д-р Дитрих». Геббельс включился нажатием кнопки: «Соедините». И только после этого он подошел к письменному столу и взял трубку: «Д-р Дитрих? Да? Вас слушает Геббельс… Что? Покушение на фюрера? Только что?.. Вы говорите, фюрер жив? В шпееровском бараке? Известны ли подробности?.. Фюрер полагает, что это дело рук рабочих и „Организации Тодта“?» Дитрих был краток, разговор закончился. Операция «Валькирия», которую заговорщики как план мобилизации внутренних резервов не один месяц обсуждали совершенно открыто и в том числе с Гитлером, началась.
"Только этого еще не хватало – мелькнуло в моей голове, пока Геббельс передал нам услышанное, и повторил, что подозрение падает на рабочих из «Организации Тодт». Если это подозрение подтвердится – сверлила меня мысль – то это прямо должно будет ударить по мне, потому что Борман не упустит повод для новых интриг и нашептываний. Геббельс сразу же пришел в крайнее раздражение, когда я не смог сразу же дать ему справку о мерах проверки рабочих «Организации Тодт», отбираемых на работы в Растенбург. По его требованию я доложил, что каждый день несколько сотен рабочих пропускаются в зону N 1, где они заняты на работах по укреплению бункера Гитлера, что в настоящее время Гитлер в основном работает в павильоне, построенном для меня, поскольку только в нем хаватает места для многолюдных совещаний, и к тому же он просто пустует в мое отсутствие. При таких порядках, сокрушался он, неодобрительно качая головой по поводу всеобщего недомыслия, не составляло большого труда проникнуть на этот обнесенный лучшими заграждениями и лучше всего охраняемый участок в мире: «И какой тогда смысл имеют все меры охраны?» – бросал он свои вопросы, обращясь к некоему незримому провинившемуся.
Затем Геббельс быстро распрощался с нами – министерская рутина даже и при таких исключительных обстоятельствах требовала от нас обоих своего. К припозднившемуся в этот день обеду я застал уже поджидавшего меня полковника Энгеля, бывшего адъютанта Гитлера от армии, а нынче командира войсковой части. Меня интересовало его отношение к мысли, положенной в основу подготовленной мной памятной записки; я потребовал назначения «субдиктатора», т.е. лица, облеченного чрезвычайными полномочиями, который должен был бы, невзирая на чей бы то ни было престиж, устранить тройную и четверную, едва обозримую организационную структуру вермахта и который, наконец, заменил бы их четкими и эффективными структурами. Если этот, уже несколькими днями раньше законченный документ, по чистой случайности был датирован 20 июля, то в нем были использованы многие идеи, которые мы не раз обсуждали с военными участниками путча (7).
Мне как-то не пришла в голову самая естественная мысль позвонить по телефону в ставку, чтобы разузнать подробности. видимому, я исходил из того, что в обстановке переполоха, которого не могло не вызвать такое событие, мой звонок будет просто не к месту. Кроме того, меня угнетало подозрение, что террорист имеет какое-то отношение к моей строительной организации. После обеда, как это и было предусмотрено расписанием на этот день, я принял посланника Клодиуса из Министерства иностранных дел, который проинформировал меня об «обеспечении поставок румынской нефти». Мы еще не успели закончить нашу беседу, как позвонил Геббельс (8).
Его голос звучал совсем иначе, чем утром – возбуженно и резко: «Можете ли Вы немедленно прервать Вашу работу? Приезжайте ко мне! Срочно! Нет, по телефону я ничего Вам сказать не могу». Беседа была прервана, и около 17 часов я отправился к Геббельсу. Он принял меня в кабинете бельэтажа своей личной резиденции, расположенной к югу от Бранденбургских ворот. Он торопливо заговорил: «Только что получил сообщение из ставки, что военный путч пошел по всей стране. В такой ситуации я хател бы, чтобы Вы были со мной. Я всегда немного тороплюсь при принятии решений. Ваше спокойствие будет хорошим противовесом. Мы должны действовать осмотрительно».
Это известие взбудоражило меня ничуть не меньше, чем Геббельса. Мгновенно в моем сознании ожили все те разговоры, которые были у меня с Фроммом, Цейтцлером и Гудерианом, с Вагнером, Штифом, Фельгибелем, Ольбрихтом или Линдеманом. Оценки безнадежного положения на фронтах, успешной высадки американцев и англичан, превосходства Красной Армии и не в последнюю очередь надвигающегося банкротства с горючим моя память связала с нашей подчас горькой критикой дилетантизма Гитлера, с его нелепо-строптивыми решениями, постоянными оскорблениями старших офицеров, с беспрестанными понижениями в должностях и унижениями. Правда, мне не приходило в голову, что Штауфенберг, Ольбрихт, Штиф и люди вокруг них замышляют путч. Я скорее поверил бы, что на такое способен Гудериан с его холерическим темпераментом. Геббельс к моему появлению, как я позднее выяснил, уже был осведомлен о том, что подозрение падает на Штауфенберга. Однако, мне он этого не сказал. Умолчал он и том, что уже имел телефонный разговор с самим Гитлером (9).
Не зная всей этой подоплеки, я для себя пришел к определенным выводам: путч в нашем положении я считал поистине катастрофой. Увы, и тогда еще я не осознал его моральную основу. Геббельс мог вполне рассчитывать на мое содействие.
Окна кабинета Геббельса выходили на улицу. Уже через несколько минут после прибытия я увидел, как по направлению к Бранденбургским воротам направляются небольшими штурмовыми группами солдаты в шлемах, с полным вооружением, с автоматами, с гранами на поясе. Они начали устанавливать пулеметы, перекрыли всякое движение транспорта, а двое тяжеловооруженных подошли к стене парка дворца Геббельса и заняли пост у входной двери в стене. Я позвал Геббельса, он моментально все понял, бросился в спальню, взял из маленькой коробочки несколько таблеток и сунул их в карман пиджака: «Так, на всякий случай!» – бормотнул он. БЫло видно, что он взвинчен.
Мы послали адъютанта узнать, по чьим приказам действуют занявшие пост у ворот. Солдаты, не вступая в разговор, лишь коротко отрезали: «Никто отсюда не выйдет и никто не войдет».
Из телефонных переговоров, которые по всем возможным адресам вел Геббельс, вырисовывалась картина всеобщего смятения. Части потсдамского гарнизона были уже на пути в Берлин, стягивались войска из провинции. ПОчти рефлекторно отвергнув восстание, я испытывал странное чувство безучастного простого при сем присутствия стороннего наблюдателя, как если бы все это и лихорадочная нервозно-решительная суета Геббельса меня не касались. Временами положение казалось безнадежным, и Геббельс был в высшей степени встревожен. Только сам факт, что телефонная связь еще функционировала, а по радио еще не были переданы какие-либо прокламации повстанцев, Геббельс сделал вывод, что они еще медлят. На самом деле непостижимо, что заговорщики упустили момент отключить систему связи и использовать ее в своих целях, хотя еще за несколько недель до выступления все подробнейшим образом расписали в своем плане действий: арест Геббельса, захват центрального междугороднего узла связи, главного телеграфа, головной службы связи СС, центрального почтамта, всех основных передатчиков в окрестностях Берлина и Радиодома (10). Достаточно было всего нескольких солдат, чтобы без всякого сопротивления ворваться в резиденцию Геббельса и арестовать его. Кроме нескольких пистолетов, у нас ничего не было. Геббельс скорее всего при попытке ареста проглотил бы приготовленную таблетку цианистого калия. Тем самым был бы устранен наиболее способный противник восставших.
Можно только удивляться, что в эти критические часы Гиммлер, единственный, кто имел в своем распоряжении надежные формирования для разгрома путча, был вне досягаемости Геббельса. Было ясно, что он где-то укрылся, и Геббельса, чем больше он ломал голову, пытаясь понять причину такого поведения, охватывала нарастающая тревога. Он открыто выразил свое сомнение относительно рейхсфюрера СС и министра внутренних дел; то, что Геббельс, не таясь, заговорил о ненадежности такой фигуры, как Гиммлер, осталось в памяти как ярчайшее свидетельство всей неразберихи и неуверенности в те часы.
Питал ли Геббельс какие-то сомнения и относительно меня, коль скоро при одном из телефонных разговоров он попросил меня пройти в соседнюю комнату? Он довольно неприкрыто дал мне почувствовать свои подозрения. Впоследствии я пришел к предположению, что он, вероятно, полагал, что, вызвав меня к себе, наилучшим образом обезопасил себя от меня. Тес более, что первое же подозрение пало на Штауфенберга, а стало быть, почти автоматически и на Фромма. Мои дружеские отношения с Фроммом, конечно, не были тайной для Геббельса, который уже с давних пор в открытую именовал его «врагом партии».
И мои мысли крутились вокруг Фромма. Отправленный Геббельсом в соседнюю комнату, я тотчас же связался с коммутатором на Бендлерштрассе и потребовал соединить меня с Фроммом, потому что от него можно было скорее всего ожидать подробной информации. «С генерал-полковником Фроммом связи нет», – услышал я ответ. Я еще не знал, что в это время он уже был заперт в одной из комнат своего ведомства. «Тогда свяжите меня с его адъютантом». На это последовал ответ, что по этому номеру никто не отвечает. «Тогда попрошу генерала Ольбрихта». Он тотчас же оказался на связи. «Что за дела, господин генерал?» – задал я вопрос в принятом между нами шутливом тоне, чтобы смягчить тяжесть положения. – «Мне нужно работать, а меня у Геббельса блокировали солдаты». Ольбрихт извинился: «Прошу прощения, относительно Вас произошла ошибка. Немедленно все улажу». Он положил трубку, прежде чем я успел задать другие вопросы. Я поостерегся передавать Геббельсу свой разговор полностью: тон и содержание разговора с Ольбрихтом несли оттенок взаимопонимания, которое могло только укрепить Геббельса в его подозрениях.
В комнату, в которой я находился, вошел Шах, заместитель гауляйтера Берлина: некто Хаген, его знакомый, только что поручился за национал-социалистскую преданность майора Ремера, батальон которого взял в кольцо правительственный квартал. По получении этого известия Геббельс немедленно вызвал к себе Ремера. Тот обещал прибыть. Сразу же после этого Геббельс пригласил меня снова в свой кабинет. Теперь он преисполнился уверенности, что сумеет привлечь Ремера на свою сторону и попросил меня присутствовать при разговоре. Он сообщил также, что Гитлер поставлен в известность о предстоящей беседе. Он ожидает в ставке результатов и готов в любой момент лично переговорить с майором.
Появился майор Ремер. Геббельс, хотя и нервничал, был собран. Казалось, он уже был уверен, что судьба путча и его собственная судьба теперь уже решены. Через несколько минут, лишенных всякого внешнего драматизма, все осталось позади и мятеж проигран.
Прежде всего Геббельс напомнил майору о его присяге на верность фюреру. Ремер ответил заверением в своей верности Гитлеру и партии, но, добавил он, ведь Гитлер-то погиб. Поэтому теперь он должен исполнять приказы своего командира генерал-лейтенанта фон Хаазе. Тут Геббельс выложил на стол решающий, всесокрушительный аргумент: «Фюрер жив!» Заметив удивление, а затем и растерянность Ремера, он на одном дыхании продолжал: «Фюрер жив! Я разговаривал с ним несколько минут тому назад! Ничтожная кучка генералов-честолюбцев подняла военный мятеж! Какая низость! Величайшая подлость во всей истории!» Известие, что Гитлер жив, произвело на находившегося в затруднительном положении, сбитого с толку майора, исполнявшего приказ о блокировании правительственного квартала, просветляющее впечатление. Еще боясь поверить в такое счастье, Ремер с недоверием уставился на всех нас. Теперь, в самый кульминационный момент, Геббельс нашел нужные для Ремера слова об историческом часе, о невероятной исторической ответственности, легшей на его молодые плечи; судьба редко дает человеку столь великий шанс. От него теперь всецело зависит, использует или упустит он его. Кто в это мгновение видел Ремера, кто мог видеть, как на него подействовали эти слова, мог быть уверен – Геббельс уже победил. И, наконец, была брошена козырная карта: «Я буду сейчас разговаривать с фюрером и Вы тоже сможете сказать несколько слов. Ведь фбрер имеет право отдавать Вам приказы, которые отменяют приказы Вашего генерала, не так ли?» – заключил он с едва легкой иронией и тут же связался с Растенбургом.
Геббельс мог связываться со ставкой через особый канал коммутатора своего министерства. Через несколько секунд Гитлер был на проводе. После кратких замечаний по ситуации в целом Геббельс передал трубку майору. Гемер узнал голос уже похороненного им Гитлера И, с трубкой в руке, невольно вытянулся по стойке смирно. Слышно было только повторяющиеся с различной окраской слова «Конечно, мой фюрер… Конечно! Будет исполнено, мой фюрер!»
Затем трубку снова взял Геббельс, чтобы услышать от Гитлера содержание приказов: майору приказывалось вместо генерала Хаазе приступить к проведению всех необходимых военных акций и исполнять все указания Геббельса. Единственная остававшаяся в действии телефонная линия окончательно похоронила путч. Геббельс перешел в контрнаступление и приказал стянуть в сад перед своим домом всех солдат берлинского караульного батальона.
Восстание хотя уже и потерпело неудачу, но не было еще полностью подавлено, когда около семи часов вечера Геббельс распорядился передать по радио чрезвычайное сообщение о покушении на Гитлера, совершенное при помощи взрывного устройства, о том, что фюрер жив и уже пиступил к работе. Он снова успешно воспользовался одним из современных технических средств, которыми повстанцы пренебрегли со столь трагическими для них последствиями.
Но уверенность в победе оказалась преждевременной. Благополучный исход был вновь поставлен под сомнение, когда Геббельсу доложили, что к Фербеллинео-плац подошла танковая бригада, отказывающаяся подчиняться приказам Ремера. Она признает только приказы генерал-полковника Гудериана: «Кто ослушается, будет расстрелян», – было сказано по-военному кратко. Боевая мощь бригады была столь подавляюща, что от ее позиции зависели не только события ближайших часов.
Насколько в тот момент неясна была вся ситуация, видно из того, что поначалу никто не мог сказать наверняка, сохраняет ли эта танковая часть, которой Геббельсу просто нечего было противопоставить, верность правительству или перешла на сторону повстанцев. Геббельс и Ремер вполне допускали мысль, что Гудериан также причастен к путчу (11). Бригада подошла под командованием полковника Больбринкера. Поскольку я с ним был знаком, я тут же попробовал установить с ним контакт по телефону. Его ответ был успокаивающий: танки прибыли для подавления мятежников.
Тем временем примерно полторы сотни солдат берлинского караульного батальона, в большинстве своем немолодые мужчины, собрались в саду геббельсовского дома. Направляясь к ним, он сказал: «Если мне удастся и этих убедить, тогда игра за нами. Советую посмотреть, как я их сейчас возьму в оборот». Тем временем уже совсем стемнело, лишь скупое освещение через распахнутую дверь в окружавшей сад стене позволяло наблюдать за всей сценой. Уже с самых первых слов Геббельса солдаты слушали с напряженным вниманием его долгую, но в сущности, ничего не говорящую речь. Геббельс, и впрямь, выглядел очень уверенным в себе – ни дать, ни взять – герой дня. Именно потому, что его речь превращала затрепанные общие слова во что-то очень личное, ее воздействие было оглупляюще-завораживающим и возбуждающим одновременно. Я мог буквально по менявшемуся выражению лиц проследить ее эффект. Она покоряла стоявшие перед ним в полутьме шеренги не приказом и угрозой, но убежденностью.
Около одиннадцати в комнату, которую отвел мне Геббельс, пришел полковник Больбринкер: Фромм собирается прямо в здании на Бендлерштрассе провести суд чести над уже арестованными заговорщиками. Я сразу же понял, что такая процедура послужит для Фромма отягчающим обстоятельством. Кроме того, я действительно полагал, что судьбу мятежников должен решать сам Гитлер. Вскоре после полуночи я выехал туда, чтобы не допустить казни. Больбринкер и Ремер заняли места в моей машине. Посреди наглухо затемненного Берлина Бендлерштрассе была залита светом прожекторов – зрелище нереальное, призрачное. Она напоминала ярко освещенную софитами съемочную площадку в кинопавильоне. Благодаря длинным и четким теням на фасаде, здание выглядело необычно и выразительно.
На повороте на Бендлерштрассе офицер СС сделал мне знак остановиться у бортика тротуара Тиргартенштрассе. В густой тени деревьев стояли почти неразличимые шеф гестапо Кальтенбруннер и Скорцени, освободитель Муссолини, в окуржении своих подчиненных. Не только их облик, но и их поведение было каким-то схематичным. Никто не щелкал каблуками при приветствии, исчезда показная молодцеватость, все было приглушенным, и даже разговоры велись на пониженным тонах, как на траурной церемонии. Я объяснил Кальтенбруннеру, что прибыл с намерением воспрепятствовать организации Фроммом суда чести. Но Кальтенбруннер и Скорцени, от которых я готов был услышать слова ненависти и одновременно триумфа по поводу морального поражения их конкурента, сухопутных войск, чуть ли не в один голос заявили мне, что происшедшее – дело прежде всего самой армии: "Мы не хотим вмешиваться и тем более грубо влезать в это. Впрочем, суд чести, вероятно, уже свершился. Кальтенбруннер стал разъяснять мне наставительно: на подавление мятежа и к исполнению приговоров никакие части СС не привлекались. Он запретил своим людям вообще входить в здание на Бендлерштрассе. Любоек вмешательство СС неизбежно породило бы новые осложнения с армией и обострило бы уже существующую напряженность (12). Этим тактического характера соображениям, продиктованным сюиминутной ситуацией, простояла недолгая жизнь. Уже через несколько часов преследование причастных к заговору армейских офицеров было запущено органами СС на полную катушку.
Едва Кальтенбруннер закончил, как на фоне пронзительно ярко освещенной Бендлерштрассе возник величественный, отбрасывающий длинную тень, силуэт. Тяжелым шагом, в парадной форме к нам направлялся Фромм. Я поклонился Кальтенбруннеру и его свите и вышел из тени деревьев навстречу Фромму. «С путчем покончено, – начал он, с трудом сдерживая себя. – Мной направлены соответствующие приказы во все районные военные управления. На какое-то время меня лишили возможности осуществлять командование войсками резерва. Меня на самом деле заперли в одной из комнат. Мой начальник штаба! Мои ближайшие сотрудники!» Возмущение и смятение звучали в его становящимися все более громким голосе, когда он стал оправдывать расстрел своего штаба: «Как председатель суда, я считал своим долгом немедленно подвергнуть всех пичастных к путчу суду чести». С мукой в голосе он тихо добавил: «Генерала Ольбрихта, начальника моего штаба, и полковника фон Штауфенберга уже нет более в живых».








