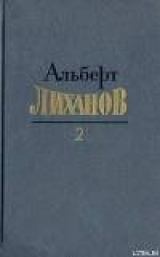
Текст книги "Собрание сочинений в 4-х томах. Том 2"
Автор книги: Альберт Лиханов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 45 страниц)
23
Бабушка Ивановна провела рукой по лицу, будто сняла паутинку. Мама вздохнула.
Михаська попробовал представить, как Юлия Николаевна говорит сейчас Сашкиной матери о Коле, но не мог. Он просто вспомнил Колю. Сашка показывал его фотокарточку: молодой такой парень, На погонах по одной звездочке.
Мама задумчиво смотрела куда-то в сторону. Отец отложил ложку. Ветер лохматил его волосы, как тогда, когда они приходили на участок первый раз. Он хмурился, и морщины рассекали его лоб.
Михаська подумал, что ни разу еще не видел отца таким серьезным и задумчивым.
Отец вытащил папироску, закурил, окутался сизым дымом.
– Долго еще про погибших узнавать будем, – сказал он. – Это вроде как эхо… Война кончилась, а эхо еще долго катиться будет. Бывало, лежишь в окопе, кругом – ад, все рвется, того и гляди, укокошат. Лежишь и думаешь: «Какой дурак был, жить не умел. Дни бежали, за днями – месяцы, а ты их не замечал… Эх, победим, мол, тогда буду знать, почем жизнь! Как ее уважать надо!»
Отец встал. Михаська подумал, что говорит он сегодня как-то необыкновенно, удивительно. Никогда так не говорил.
– Вот рассказала ты, Ивановна, – сказал он, – и снова будто жаром пахнуло. Ну ее к черту, войну! Давайте-ка жить!
Он схватил лопату, сжал ее в руках. Глаза у отца заблестели.
– Хочу забыть… Понимаете, все забыть! Смерть забыть, кровь, раны… Сыт по горло, понимаете? Живым жить надо! Жить хочу!
Отец воткнул лопату в землю, с силой нажал на нее, вывернул огромный ком земли с картошкой. Вдруг обернулся. Все уже встали, чтобы снова выбирать клубни.
– Чтобы каждый день, понимаете, каждый день радоваться, что ты живой! – крикнул он.
Он стал выворачивать комья земли с картошкой. Все помогали ему. Только Ивановна стояла там, где сидела, и смотрела на отца. Голова у нее вздрагивала.
– Забудешь?… – словно удивляясь, сказала она. – Как же тут забыть-то все это? Кому это под силу?
Отец как будто не расслышал, что она сказала. А может, и слушать не хотел.
Он работал со злостью, с силой переворачивая землю. Будто хотел на всем поле выкопать всю картошку.
«Тошку-тошку-тошку-тошку…»
24
На другой день Сашка Свиридов в школу не пришел.
После уроков Михаська отправился к нему домой и на крыльце столкнулся с Юлией Николаевной.
– Пока не ходи туда, – сказала она. – Завтра он придет в школу. Им теперь надо одним побыть.
А когда Сашка пришел назавтра, весь класс уже знал, что у него убит брат, и никто к нему не лез, потому что Михаська предупредил.
В первую же перемену Михаська подсел к Сашке. Так они просидели до звонка, не сказав друг другу ни слова, потому что Сашка просто не замечал Михаську.
Не заметил он Михаську и на другой день; и Михаська подумал, что Сашке, наверное, неприятно, что к нему лезут. Когда у человека горе, ему лучше одному побыть, отойти, остыть…
Теперь по вечерам, приготовив уроки, он пропадал у Лизы и Катьки.
Правда, иногда ему казалось, что девчонки и Ивановна относятся к нему как-то по-другому. Они улыбаются ему, болтают с ним как ни в чем не бывало. Но когда садятся есть свой суп из брюквы, Михаську за стол уже не зовут. А раньше звали.
Михаське было горько от этого, стыдно за самого себя. Ведь он знает: его не зовут, потому что думают, он откажется – его же теперь дома вкусно кормят. Колбаса у них не переводится, масло, и все по твердой цене, потому что мать в магазин устроилась. А у них колбасы нет и неизвестно, когда будет.
Михаське кажется, что теперь Ивановна с матерью даже как-то по-особому и здоровается-то. Как с генералом.
Не зря же этот Зальцер тогда говорил. И Седов тоже.
Он не винит Ивановну – она тут ни при чем, это мать виновата. И отец. Из-за них теперь Ивановна не зовет его есть с ними. Вроде барином он стал.
Михаська старается загладить свою вину. Он приносит девчонкам куски колбасы, и ему стыдно: может быть, они подумают, что вот теперь он разбогател и хвастается своей колбасой, их кормит. Правда, ничего такого ни Катька, ни Лиза не говорили, но, наверное, думали.
Когда Михаська размышлял обо всем этом, какая-то тяжесть словно навалилась на него. Он думал о том, что очень все-таки несправедливая жизнь на земле. Вот для одних – для них, например, – война уже кончилась. Приехал отец: они теперь и завариху-то редко едят, все больше кашу – гречневую или там пшенную. В общем, нет войны, прошла она для них. Недаром отец тогда кричал: «Живым жить надо!» Вот и стараются, живут.
А для Ивановны когда она еще кончится!.. Скоро ли?
Когда? Да никогда, может. Как вспомнят Лиза и Катька своего отца, маму свою, так снова для них война. Вырастут уже, может, постареют, своих детей народят, а вот вспомнят отца и мать – и снова война загрохочет. Снова вспомнят брюкву, и куски хлеба с хлебозавода, и булочки-посыпушки, облизанные Лизкой, и гроб на хлебных тележках…
А вот жизнь простая, обыкновенная: чтоб еды было вдосталь, колбасы, масла… Когда это будет?
Михаська иногда мечтает: просыпается он утром, а Левитан торжественно объявляет, что с сегодняшнего дня все, кто еще недоедает, недопивает, все, кто плохо живет, потому что война была, получают особые карточки и по этим карточкам в коммерческом магазине – чего хочешь, и бесплатно, по норме, конечно, в одни руки.
Он вспомнил, как тогда, когда магазин открыли, все люди пришли еду покупать, а Катька с Лизой руки продавали. Четыре очереди – четыре рубля.
Михаське – конфеты с фруктовой начинкой, а им…
А тут бы, по таким новым карточкам, им в первую очередь.
Михаська понимает, что это, конечно, ерунда. Карточек таких не будет. Может, будут, но не сейчас.
Сейчас государство еще слабое после войны. Как человек, которого ранили, а он много крови потерял.
Но как же тогда быть? Почему для одних война кончилась, а для других нет, хотя ведь салют в День Победы для всех был и победа для всех?
Правда, для некоторых никакой войны вообще не было. Для Зальцера, например. Торговал всю войну туфлями, а за деньги даже в войну на рынке что угодно купить можно.
Вот взять бы и всех этих спекулянтов раскулачить. Отнять все добро – раздать бедным.
Нет, ничего тут не придумаешь. Один только выход. Скорей бы построили разрушенные города, хлеб бы поскорей вырос на Украине. Им Юлия Николаевна с первого класса говорила, что Украина – наша житница, ну вроде амбара с зерном, значит.
А будет амбар, сразу полегчает, станет лучше жить и Ивановна с девочками.
Не оставляют Михаську в покое эти мысли. Ему кажется, что тут что-то не так…
Ведь фашисты разрушили много. Когда все построят? Опять несколько лет. И что же, эти несколько лет Ивановна должна просто сидеть и ждать?
Нет, что-то не сходилось в этих размышлениях. Как в задачнике. И ответ в конце книжки есть, а задачу никак не решишь. И все вроде правильно, а не получается…
Иногда он думал, что надо просто ждать, просто жить, просто зарабатывать на хлеб. Но ведь просто жить и просто зарабатывать – так ведь и Зальцер поступает, и его мать с отцом, и бабушка Ивановна, когда посылает Катьку квас продавать.
Так как же? Все о себе думают, о том, как прожить. А как правильно?
Зальцер, это ясно, подлец: пианино туфлями набито. А тут вон Лизка вся насквозь просвечивает. А бабушке Ивановне без этого никуда не деться. Или квас продавать из корок, или булочки, или ложись и помирай.
Одно неясно – мать с отцом… Отец на заводе, мать в госпитале была; на еду хватало. Жили бы обыкновенно, как все люди.
Нет, как все, оказывается, это плохо. Надо лучше, чем все. Надо дом. Но дом – это же хорошо. Кто бы отказался, если бы ему дали дом? Бабушка Ивановна бы не отказалась. Про Зальцера и говорить нечего. Но кто даст? Никто на тарелочке не поднесет, не скажет: «Возьмите, пожалуйста, живите на здоровьице, рассказывайте на теплой печке друг другу сказки». Значит, надо взять. Построить. Сделать.
А чтоб построить – уйти из госпиталя в магазин. Про завод говорить: «Только оторвали…» Тазы паять. Инвалида бояться.
Если все так жить станут – только для себя, для себя, – когда же будет как до войны? Или никогда? Война, как шрам, зарастает, но навсегда остается!
Михаська вспомнил, как помогал Кате нести корзину с квасом на рынок. Только подходят, а с базара вдруг как побегут люди! Катька кричит: «Облава!» – и юрк в подворотню, вся просто дрожит, а мимо подворотни бегут кто с чем. Тетка пробежала с красными сладкими петушками. Какой-то дядька с двумя буханками хлеба под мышкой. Другая тетка без ничего, только карманы оттопыриваются.
И вдруг на улице появились грузовики. На них – какие-то веселые люди. Песни поют. А на бортах – красная материя, и по ней написано: «Восстановим Сталинград!», «Восстановим Сталинград!»
– Эх, – сказала Катька, – поехать бы с ними!..
Михаська и сам поехал бы.
Они смотрели вслед машинам, а мимо все еще бежали люди с рынка.
25
Пронеслась метелями зима, повьюжила, понасыпала сугробы, потрещала бревнами в деревянных избах, и снова запели ручьи, загорланили нетерпеливые грачи; земля, подставляя себя солнцу, скинула белые одеяла.
А с Сашкой Свиридом так ничего и не выходило у Михаськи.
Михаська ругал себя за ту драку. Не надо было заводить Сашку, говорить, что предел храбрости – погладить этих овчарок. Можно же было сказать что-нибудь совсем невероятное – например, прыгнуть с парашютом. В их городе с парашютом никто не прыгает, хотя самолеты есть, летают иногда «кукурузники», и все, спор бы кончился. Попробуй докажи Сашка свою храбрость, если с парашютом никак не прыгнешь. А то – псы… Псы, конечно, вон они, каждый день по улице ходят. С работы и на работу. Овчарки рядом, храбрость можно и проверить.
Допроверялись…
Юлия Николаевна еще в четвертом классе говорила – нет на свете ничего неожиданного. Все можно предусмотреть и предсказать. Это она о науке тогда говорила. Дескать, землетрясения, наводнения, ливни и снегопады – все наука может заранее предсказать.
Это она к тому говорила, что бога нет.
Бога-то, может, и нет, а вот предсказать все нельзя.
Разве мог знать Михаська, что с Сашкой Свиридом все так получится?
Это было на уроке физкультуры. До пятого класса никакой физкультуры не было, а теперь вот стала. Раз в неделю, в пятницу, два часа подряд они делали во дворе всякие упражнения, бегали, прыгали, играли в футбол, и всем было очень весело.
В ту пятницу они бегали и прыгали, как всегда, а потом Иван Алексеевич сказал, что пойдет за мячом, чтобы они поиграли напоследок в футбол. Он ушел. А ребята загалдели, начали гоняться в «пятнашки», кувыркаться на траве и делать стойки на руках.
Только Сашка с Михаськой сидели на пригорке. Сашка грелся на солнышке, а Михаська глядел на него и думал, как бы ему снова заговорить с Сашкой и положить всей этой дурацкой ссоре конец. Одной ногой он упирался в булыжник. Камень поблескивал на солнце слюдяными блестками. «Значит, гранит», – подумал Михаська.
Вдруг ребята, которые кувыркались, все враз остановились и притихли. Так даже не притихали, когда директор входил, а уж про Ивана Алексеевича и говорить нечего.
Михаська обернулся и вздрогнул. По площадке шел Савватей с компанией своих дружков. Они шагали медленно, будто нехотя, на каждом были кепочки – маленькие, с малюсенькими козырьками и малюсенькими пуговками на макушке. Кепочки висели у них на самом лбу. Впереди, конечно, шел Савватей, небрежно перекидывая из одного уголка рта в другой папироску.
Когда-то Юлия Николаевна рассказывала им про удавов. Удавы прячутся в лианах, а когда хотят есть, выползают на тропинку. Бежит какой-нибудь кролик, удав поднимет голову и уставится на него. Тот так и присядет со страху. А удав смотрит, смотрит на него, и кролик не может никуда убежать. Тут удав его глотает целиком, даже не жует.
Вот и Савватей как удав. Идет, смотрит на всех, и все затихли, глядят ему в рот. Никто не шелохнется. Каждый ждет, что сейчас Савватей его выберет, хотя если бы все вместе навалились, туго ему пришлось бы.
Но Николай Третий идет спокойно, уверенно, подолгу смотрит в глаза мальчишкам и девчонкам, и они не смеют уйти или даже отвернуться.
Савватей оглядел всех, никто ему не понравился, посмотрел на Сашку. Сашка под его взглядом встал, но Савватей не задержался на нем долго, только подмигнул, будто старому знакомому, и взглянул на Михаську. Михаська вспомнил, что Сашка ведь был у Савватея «на работе» – как говорил Свирид, «шестерил» ему. Ходил, значит, все время рядом, как адъютант, подносил, что Савватей прикажет. Но потом мать Сашкина отбила его у Савватея.
А тут он подмигнул Сашке и направился к Михаське.
Михаська видел, как медленно идет Савватей, и сердце у него в груди стучало тоже медленно, в такт его шагам, но громче и гульче. Какая-то волна захлестывала Михаську, подкатывала к горлу, как тогда, зимой, в ту памятную встречу с Шакалом, и мурашки ползли по спине откуда-то из-за пояса прямо к шее.
Савватей подходил все ближе и ближе. И Михаська медленно, сам этого не чувствуя, поднимался ему навстречу. Савватей подошел совсем вплотную и протянул к Михаське руку. Свою грязную, потную лапу.
Михаська внутренне содрогнулся от мысли, что, может быть, Савватей проведет сейчас по его лицу этими грязными лапами – была у него такая любимая привычка, – и, не зная, что делать, приготовился к самому ужасному. Но Савватей протянул руку к его курточке и пощупал ее. Курточка у Михаськи была новая, теплая; мать купила ее на рынке, и она очень нравилась ему. Курточка была сделана из какого-то пушистого материала. Мать говорила – с начесом. Что это такое – с начесом, Михаська не знал.
– Охо! – сказал Савватей. Он так и сказал: «охо», а не «ого».
Михаська не успел опомниться, как Савватей быстро вынул из кармана коробок спичек, чиркнул одной и поднес ее к курточке. Михаська увидел пламя, которое рванулось прямо по нему огромным желтым языком; лицо опахнуло жаром, и все кончилось.
Это произошло в какую-то секунду. Михаська глянул на курточку и охнул. По коричневой материи расходились черные свалявшиеся клочья. Вся пушистость сгорела.
Савватей и его дружки хохотали, хлопали Михаську по плечу.
И вот тут Николай Третий снова протянул к нему руку и мазнул его по лицу.
То, что сгорела курточка, как-то совсем не огорчило Михаську – вернее, не успело огорчить; он просто не ожидал этого и еще не успел понять. А вот этого – по лицу, – этого он ждал.
Михаська наклонился и схватил камень. Он упирался одной ногой в этот камень, когда сидел на пригорке и думал, как бы заговорить с Сашкой. Камень был теплый – он нагрелся на солнце – и поблескивал в руке у Михаськи своими слюдинками.
Савватей отступил на шаг от Михаськи. Может быть, он посмотрел ему в глаза и увидел там что-то такое, отчего стоило отступить?
Он отступил еще на один шаг и еще на один, и вся его шайка тоже пятилась.
Голова у Михаськи работала очень четко, и сердце больше не стучало. Он вышел из-под гипноза Савватея; наоборот, он теперь сам гипнотизировал всю эту шайку в кепочках, каждый из которых выше его на две головы. «Ага, – ухмыльнулся Михаська, – вот они чего боятся – оружия, силы!»
Он ухмылялся, и это действовало на Савватея: тот пятился все быстрее и быстрее. Михаська рассчитал, что он ударит Шакала по виску. Он уже выбрал на его лошадином лице местечко – там, где дрожит синяя жилка. Вот туда. Чтобы раз – и навсегда!
Может, Савватей понимал, о чем думал Михаська? Он торопливо полез рукой в карман и, все так же пятясь, вытащил бритвочку, обыкновенную бритвочку. Рука у него дрожала.
– Брось! – сказал он. – Попишу!
А сам все пятился, и вместе с ним вся его компания.
Михаська решил, что он не будет кидать камень: кинешь его раз, а дальше что? Один выстрел? Мало. Нет, он будет бить этим камнем. Даже взрослые боятся Савватея. Он, может, сто лет тут проживет, этот шакал и карманник. Надо его убить.
Он сделал два шага побыстрее, и совсем приблизился к Савватею, и замахнулся уже своим камнем, своей палицей со слюдинками, как вдруг кто-то схватил его за руку, в которой был камень.
Михаська обернулся и увидел Ивана Алексеевича, математика и физрука.
– Так убить можно! – сказал он. – Ты что, с ума сошел? Хочешь, чтоб родителей за тебя посадили?
Михаська выпустил камень и посмотрел на Савватея. Тот со своей компанией стоял у забора и грозил кулаком.
– А вы вон отсюда! – крикнул Иван Алексеевич савватеевской компании и сам замахнулся на них камнем.
Савватей с дружками словно испарился.
– С ними по-другому не поговоришь, – сказал Иван Алексеевич, и Михаська удивленно посмотрел на него. Учитель был первым взрослым, кто, видно, не побоялся связаться с Савватеем.
Над забором появилась лошадиная морда Савватея, и он крикнул:
– Эй ты, обгорелый, попишу!
Савватей не бросался словами – это все знали, но Михаське было все равно в ту минуту.
– Посмотрим, кто кого! – крикнул он Савватею.
Савватей заржал, как мерин, и снова крикнул:
– Свирид! – и свистнул.
Михаська даже не понял сначала, что это так повелительно, будто своему брату, Савватей кричит Сашке. Он обернулся к Свириду и увидел, как, потоптавшись, Сашка побрел к забору.
– А н-ну, кор-роче! – протяжно крикнул Николай Третий, и Сашка затрусил к забору рысцой.
Словно что-то хлестнуло Михаську. Это было обидней, чем сожженная курточка и грязные лапы Савватея.
Шакал хозяйственно покрикивал из-за забора, будто тянул за шнурок, к которому был привязан Сашка, и тот бежал, послушно бежал к заклятому Михаськиному врагу, перебегал на вражью сторону.
– Предатель! – крикнул Михаська.
Сашку будто подсекли. Он остановился на мгновение, махнул Михаське рукой куда-то в сторону, махнул еще раз, словно хотел сказать «уходи», но Михаська не понял и крикнул снова, стараясь выбирать слова пообиднее:
– Шестерка! Предатель!
Но Сашка уже не останавливался.
– Свиридов, вернись! – крикнул Иван Алексеевич, и Михаська увидел, как он побагровел. – Вернись, урок еще не кончен!
Михаська усмехнулся: что значит теперь для Сашки урок, если его зовет Савватей!
А Сашка все бежал, бежал. И вдруг Михаська понял, что он проиграл, лежит на обеих лопатках, что Савватей, который только что пятился от него – а себя при этом Михаська представлял добрым молодцем с булавой, – что Савватей этот плюет на него, плюет тысячу раз, потому что, отойдя к забору, он уводит его лучшего друга.
Пусть они поссорились, даже подрались, но ведь Сашка друг, друг!.. И если Савватей склонил его к предательству, к тому, что Сашка теперь на Шакальей стороне, значит, Михаська проиграл. И это было в тысячу раз обиднее, чем тогда, зимой.
26
Михаська даже вздрогнул от этой мысли. Он сделал шаг вперед, к забору, и побежал.
– Ты что, с ума сошел? – сказал ему вслед Иван Алексеевич. – Они же на что угодно способны.
И Михаська обернулся.
Он обернулся и улыбнулся учителю в офицерском кителе, у которого было два тяжелых ранения и одно среднее. Зря он подумал, что Иван Алексеевич первый взрослый, который не боится связаться с Савватеем. Зря!..
Михаська побежал к забору еще быстрее, мимо застывших фигур мальчишек и девчонок, которые так и стояли все это время, ни разу не шелохнувшись. Михаська улыбнулся; как фигуры на шахматной доске. Стоят и ждут, когда их передвинут.
– Сумасшедший! – крикнула ему какая-то девчонка.
– Вернись, Михайлов! – заорал за спиной Иван Алексеевич. – Урок не окончен, я тебе запрещаю!
«Запрещаю! – усмехнулся Михаська. – Сашке, своему отличнику, запретить не смог, а мне запрещаешь?» Ему стало смешно. Просто удивительно: в такой момент – и смех разбирает.
Свирид уже давно перелез через забор. Савватей ему подал руку, и они исчезли. Михаська бежал широким шагом, прижав руки к бокам, не размахивая ими, согнув в локтях, как учил Иван Алексеевич на физкультуре. По всем правилам. Забор показался ему совсем маленьким, он перелетел через него как птица, легко спрыгнул в гору жухлых листьев, и они зашумели под ногами, как миллион мышей.
Савватей с компанией стоял к забору спиной. Он вздрогнул и обернулся. Испуганно повернулись и остальные. Из-за них выглядывал Сашка.
– Ну!.. – выдохнул Михаська, смело шагнул к Савватею и тут почувствовал, что снова боится.
Смех пропал неизвестно куда, и вся храбрость мгновенно исчезла. Страх, липкий, как рука Савватея, ползал где-то в животе и мешал думать.
Михаське показалось, что Савватей сразу набросится на него и начнет резать своей бритвочкой, но Савватей молча смотрел, опешивший от такой неожиданности, и не шевелился. Все остальные были его тенями. В лунную ночь идет человек, шагает – и его синяя тень шагает, руку протянет – и тень руку протянет; ничего лишнего не делает тень, послушная, как бобик на цепочке. Вот и все савватеевские синие тени стояли, тоже не шевелясь.
– А ты храбрый, – сказал вдруг Савватей, и все его тени посмотрели на Михаську с каким-то удивлением.
Только Сашка – с жалостью.
– Ну а если мы тебя зарежем? – спросил Савватей.
– Что вам, собственная жизнь надоела? – спросил Михаська и остался доволен собой. Голос звучал нормально, без трусости. – Зарежете – вас поймают и расстреляют.
Савватей переступил с ноги на ногу и сунул руки в карманы. Михаська подумал: опять за бритвой, но Савватей просто спрятал руки в карманы.
– Значит, храбрый? – спросил Николай Третий, и его лошадиное лицо снова стало уверенным и довольным.
– Отпусти Сашку! – сказал Михаська.
Савватей удивленно вскинул тоненькие – ниточкой – брови. Такие брови Михаська видел в кино у каких-то красавиц.
– Ишь ты! – удивленно сказал он и снова посмотрел на Михаську с интересом. – Крупный купец пришел! Человеков покупает…
Он посмотрел на Сашку, погладил его против волос, и Свирид не отвернулся, не отвел голову, а только моргнул и по-прежнему жалостливо глядел на Михаську.
– Ну-ну, купец первой гильдии! А за что покупаешь?
– За что хотите, – сказал Михаська.
– Ну как, парни? – обратился Савватей к своей шайке. – Продадим Свирида?
Тени заморгали, закивали головами, захихикали, не понимая, чем кончатся шутки атамана.
– Ладно, продаем! – сказал Савватей. – Не за деньги продаем. За храбрость. Ты – храбрец, вот и покажи свою силу. На том же, на чем Свирида испытывал. Пошли!
Савватей махнул рукой, и вся толпа двинулась за ним. Михаська сделал два шага вслед за ними и остановился в нерешительности.
Николай Третий обернулся и сказал:
– А если струсишь, покупаем самого тебя, понял? Значит, сам себя продашь. Тогда уж берегись!.. – Он захохотал.
Понятное дело, захохотали и тени, и Михаська пошел вперед и шагал рядом с Савватеем, снова вдруг осмелев. Смелость накатывала на него, как речные волны. То отхлынет, то прихлынет. И почему эти волны – неизвестно. На реке – от ветра. А тут отчего?…
Они шли по городу, и все уступали им дорогу. Никто не хотел связываться с этой шпаной.
А Михаська шел рядом с Савватеем, и его, наверное, тоже принимали за шпану, да еще за важную шпану, потому что впереди шли всего двое – Савватей и Михаська.







![Книга Собрание сочинений. Том 5. Покушение на миражи: [роман]. Повести автора Владимир Тендряков](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-sobranie-sochineniy.-tom-5.-pokushenie-na-mirazhi-roman.-povesti-120265.jpg)
