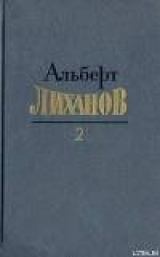
Текст книги "Собрание сочинений в 4-х томах. Том 2"
Автор книги: Альберт Лиханов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 45 страниц)
7
Сначала бабушка не верит, и Сереже приходится ей рассказывать все по порядку, шаг за шагом. Каждую мелочь.
Как велела Литература разыскать помазок, майки и хлопчатобумажные штаны. Как он мотался по городу, бегал к генералу и в комиссионку. Как сунул в карман перчатки и шпагой открывал ящик…
Бабушка наконец верит. Закрывает руками уши, кричит:
– Молчи! Молчи!
Сережа молчит.
– Надо вернуть! – говорит бабушка, бросается к шкафу, достает вчерашнюю Сережину зарплату.
– Где она живет, эта буфетчица? Пойду, брякнусь в ноги! Подол стану целовать! Неужели не простит! – Обессиленно опускает руки. Спрашивает сама себя: – А ежели не простит? Под суд? – Она мотает головой. – Нет! Не отдам тебя! Аню отдала, тебя не отдам! Сама виновата, дура жадная, погналась за деньгами – трудно жить, трудно жить. Прожили бы, зато в отдельной квартирке. – Бабушка плачет, качает головой, вспоминает Олега Андреевича, вскакивает, чтобы бежать к нему, к тете Нине за защитой и помощью, но сама себя судит: – Нельзя их сюда впутывать, не по-христиански, сколько они и так для нас сделали.
Глаза у нее то вспыхивают, то туманятся.
– Может, не найдут еще? – спрашивает она у Сережи с надеждой, будто он ответ какой дать может. – Ты ведь в перчатках, как по кино, следов-то не осталось.
Следов не осталось. Он уверен, что и шпагу не найдут за штабелями декораций. Но ведь видела его вахтерша, тетя Дуся эта. Он последний выходил. Можно, конечно, отпереться, но очень неловко соврал ей про лампы. Все знают, что лампы еще днем меняли.
– Не выйдет ничего! – вздыхает Сережа, говорит про вахтершу.
– Бежать! – всплескивает руками бабушка. – Уехать тебе надо. Немедленно! Завтра.
Сережа разглядывает бабушку, как ненормальную: бежать, эк брякнула! Он не Дубровский – по лесам скрываться. Но потом кивает. Не так уж она стара и несообразительна. Варит, да еще как!
– Двадцать девять шестьдесят! – ершится она. – Разве это деньги, чтоб за них мальчонке жизнь ломать! Ничего! Не разорятся! Не такие деньги, чтоб долго искаться, не найдут и успокоятся, замки покрепче навесят.
Говоря это, бабушка то смеется, то плачет.
– В случае чего, все на себя приму, только ты уезжай, слышишь! – плачет она. – Пусть меня садят, если им приспичит, за тридцатку!
Бабушке жалко себя, свою старость за эти несчастные двадцать девять шестьдесят, но еще больше жалко Сережу, бестолкового сироту, она заливается, и, как всегда, на плечах у нее вздрагивают седые косички, словно не старуха, а старая девчонка в чем-то провинилась и горько плачет.
Они не спят всю ночь, обо всем договариваются, как два заговорщика – обо всех мелочах. И Сереже порой кажется, что все это не жизнь, а тот самый детектив, который он пропустил, бегая к Понте и в комиссионку. Что бабушка и он – главные действующие лица, которым и самим неизвестно, что произойдет через сутки, но они полны решимости бороться до конца, не сдаваться и не отступать, что бы ни случилось.
– Значит, так, – повторяет бабушка еще раз, чтоб и самой не забыть, и Сереже напомнить. – Первое дело – Дуся, платок она мне вязала при Ане еще, радио охраняла – я-то ее помню, вот она бы помнила… Это главное, – говорит она. – Потом увольнение, затем вокзал. Давай-ка записывай адрес.
Сережа послушно пишет, бабушка укладывает в рюкзачок вещи, кладет деньги во внутренний карман курточки, пришпиливает его булавкой, наставляет Сереже, чтоб берегся жуликов – он невесело ухмыляется.
– Чего мне бояться, я сам жулик!
Бабушка опять плачет, в который уж раз за эту длинную ночь. Сережа угрюмо молчит: и страх и волнение как бы выболели в нем.
Утро вползает серое, пасмурное.
Сережа и бабушка завтракают быстро, сосредоточенно. Он пишет заявление. Кладет его в карман. Все решено, приготовлено, теперь надо действовать. Но они тянут. Минутная стрелка ползет медленно, лениво. Порой кажется, она стоит.
– Бабушка, – вдруг спрашивает Сережа, – вот тогда, давно, при маме, ты почему-то не любила меня… И всегда ворчала на маму.
Бабушка глядит в окно, глаза ее от серого утра на улице кажутся светлыми, словно выцветшими.
– Все мне казалось плохо, все не так, – отвечает она тихо, – ты вроде как безотцовщина при живом-то отце, а Аня… мама плохо жила, ничего не хотела, вроде как и живет и нет. – Бабушка поворачивается к Сереже. – Нам, старым, – говорит она, – все кажется, что счастье в семье, в доме, в родне. У ребенка отец должен иметься, у жены – муж… – Она молчит, перебирая поясок. – Да вишь как выходит…
Сережа смотрит за окно, на низкие, набухшие дождем облака и думает, что они с бабушкой хоть и по-разному рассуждают, но про одно, про маму, про то, как было и как могло быть, про счастье и его обманчивость… Кажется, такая поговорка есть: где найдешь, там и потеряешь…
В девятом часу они выходят из дому и у подъезда сталкиваются с Галей. У нее испуганные глаза.
– Что случилось, – спрашивает она, – ты вчера какой-то странный был… Не в себе!
– В себе, – вздрагивает Сережа. Они с бабушкой договорились врать. Целый день врать сегодня. Но Гале?… Бабушка глядит на Сережу пристально, ждет, видно: хватит ли у него силенок на уговор? Хватит, бабушка, не бойся! – Да вот, – весело продолжает он, – сегодня уезжаю в другой город, поступлю в очень хорошее училище, готовят механиков широкого профиля. Там у меня братан троюродный.
– Хочешь уехать? – растерянно говорит Галя. – Не сказав? Вдруг?
Сережа прячет глаза. Ну что ей ответить?
– Ты заглядывай, – приглашает Галю бабушка, оттесняя Сережу, – заходи, не стесняйся. Письма от Сережи будем читать. Чай пить.
– Зайду! – вежливо говорит Галя, а сама ошалело смотрит им вслед.
Бабушка держит Сережу за руку, словно маленького, крепко вцепилась. Потом отпускает. Охает.
– Ну, началось!
Началось!
В отделе кадров бабушка говорит за Сережу, не дает ему рта раскрыть – чтобы не врал.
– Я сама говорить буду, – приказывала бабушка по дороге. – Мне, старой, греха не страшно. Ты только головой кивай да молчи.
Сережа кивает головой, ему подписывают какие-то бумаги, приходится ходить в разные комнаты, и всюду, как тень, с ним идет бабушка.
Тетю Нину! Только бы не встретить тетю Нину, думает Сережа и трусливо оглядывается.
Подписей требуется немного, все удивляются, что Сережа работал так мало, но, вежливо выслушав бабушкины объяснения, кивают головой, соглашаются: да, учиться надо, по крайней мере, осветитель не профессия, действительно, а Сережа еще молодой, только начинает.
Ему жмут руку. Желают успехов. От этих пожеланий у Сережи кружится голова, ему душно, стыдно, но он молчит. Хорошо, хоть отдел кадров в комитете один, для радио и для телевидения, и не надо идти на студию, где можно встретить Андрона, режиссеров, ассистентов, помощников, операторов, которые все уже знают Сережу и неплохо к нему относятся.
Где можно встретить буфетчицу с плоским и злым лицом…
8
Сережа стоит у окна, в узком проходе. Больно тычут его углы чемоданов, трут железными застежками рюкзаки. Но он ничего не чувствует. Он смотрит вниз, на бабушку, прижавшую ко рту ладонь.
Они глядят неотрывно друг на друга, потом окно движется в сторону – поезд трогается плавно, почти незаметно, и бабушка бежит вслед за окном, а когда бежать сил не хватает, останавливается и крестит издалека Сережу.
Серый вокзал, станционные склады с грязно-коричневыми крышами и черными заборами быстро убегают назад, зато все, что вдали – старое кладбище, заросшее березами, дымящиеся трубы ТЭЦ, коробки новых домов, – стремительно торопится вперед. Земля кружится перед ним, и Сережа думает, что она походит на огромную, невероятных размеров музыкальную пластинку, только записаны в ней не звуки, а жизнь…
Электровоз тянет вагоны сильно и ровно. Сережа забивается в уголок, поворачивается спиной к пассажирам и неожиданно засыпает.
Странное дело – он видит не сон. События минувших суток так подавили его, что и во сне он не выключается из этого бесконечного происшествия, а только повторяет, повторяет события с неумолимой, беспощадной точностью.
Вот ему выдают свидетельство об окончании семи классов, трудовую книжку. Вот бабушка заводит невинный разговор о вахтерше, которая – молодец какая! – вяжет шерстяные вещи, ненароком как бы выведывает, где живет вязальщица, и они идут, почти бегут к дому вахтерши тети Дуси – ведь она может уйти, времени – одиннадцатый час, надо торопиться!
Тетя Дуся дома, моет пол, задрав подол, смущается, увидев чужих людей, долго не может разобрать, кто они, наконец узнает Сережу, здоровается с бабушкой, уверяя, что хорошо ее помнит, хотя по глазам видно – не помнит.
– Дусенька, – плачет бабушка, – ты Анечку мою знала?
– Знала, как же, очень хорошо, – кивает растерявшаяся, ничего не понимающая тетя Дуся, – и на похоронах была. – Она сморкается.
Бабушка падает на колени – подбородок беззвучно трясется, губы дрожат, слезы светлым градом катятся по щекам.
– Дуся! – говорит она. – Христом-богом молю! Обещай, что поможешь, что не скажешь! Не для себя прошу! Ради Ани сделай! Ради ее памяти!
Бабушка горько плачет, вахтерша поднимает ее с колен, но не может – бабушка толстая и тяжелая, и тогда тетя Дуся сама начинает плакать.
– Чувствую, что беда какая, – говорит она. – А разве же можно в беде не помогать?
Бабушка поднимается, говорит Дусе про маму, про Никодима, про младенца. Они снова плачут в два голоса, а Сережа сидит на стуле совсем вытряхнутый – ему и не стыдно даже.
Бабушка рассказывает про Никодима и Литературу, про размен, про эти злополучные триста рублей, про помазок и хлопчатобумажные штаны, которые наказала принести учительница, и вахтерша охает, качает головой, ужасается, опять плачет.
– Это надо же, – говорит она, – какие люди, какие люди!
– Еще не все, – горестно вздыхает бабушка. – Теперь самое главное.
Тетя Дуся глядит на бабушку расширившимися глазами, переводит взгляд на Сережу, берется руками за виски.
– Милый ты мой, – говорит она Сереже, – и что ж ты удумал! Да разве можно, такой грех! Сказал бы, кому можешь. По десятке да двадцатке наскоблили бы эти сотни. Народ же вокруг…
– Дело сделано, – задумчиво произносит бабушка и просит: – Дуся, матушка, век не забуду – прими грех. Скажи, что ушел он со всеми…
– Приму, – успокаивает ее вахтерша, – что я, не баба, жалости у меня нет? Не томись, бабушка, вот тебе крест. – Тетя Дуся истово крестится, плачет, обняв бабушку, потом добавляет: – Да и буфетчица эта, Тонька, такая зараза, что не жалко. Обсчитывает да обмеривает, веришь ли – и никто не видит, интеллигенция кругом!
Они опять плачут, теперь уже успокоенно, облегченно, и бабушка говорит вахтерше про свой план, про Сережин побег, то есть отъезд.
– Верно это, – подумав, соглашается тетя Дуся. И спрашивает бабушку: – Чему он тут научится, при лампочках-то?…
Лампочки вспыхивают, гаснут и снова вспыхивают. Сережа открывает глаза. За окнами – гроза. Небо до самого края занавешено лохматыми тучами, с которых срываются корявые молнии. Дождь порывами плещет в стекло…
Сережа озирается, видит вагон, дремлющие лица напротив. Он откидывает голову, разглядывает круглый рычажок в стене, машинально его задевает.
И вдруг…
Вдруг все молнии из всех туч сразу, в одно мгновенье, падают вниз. Окно озаряется слепящим синим светом, потом гаснет и вспыхивает вновь. Сережа сжимается. Ему кажется, это какой-то бред, галлюцинация, он слышит голос мамы:
Радио! Да это радио, спохватывается он. Тот самый черный рычажок. И мамин голос. Сережа захлебывается от спазм – он и плачет, и смеется сразу. Стихотворение про гранат! Тогда! Котька утащил его в туалет, и он не дослушал. Это мама! Ну конечно! Радио! Запись на пленку.
Сережа стискивает руками горло, напрягается, чтобы не прослушать, не упустить ни одного слова. А мама говорит, и в голосе ее скрытое волнение, и тайная радость, и сила, и счастье.
Сережа почти не дышит, взгляд его провалился сквозь стенку вагона, сквозь дождь и тучи, в неизвестное, где ничего нет. Он кивает в такт маминым словам, соглашаясь с ними, любя каждое придыханье, каждый звук этого голоса.
Голос умолкает так же неожиданно, как он возник, и это потрясает Сережу не меньше. Он лихорадочно крутит рычажок динамика. Но там слышен лишь сухой треск. Мужской голос передает последние известия.
Сережа обессиленно откидывается назад. Слезы стоят в глазах. Он вздрагивает всем телом.
Сережа озирается. А может, ему почудилось? Все дремлют, никто не слышал… Никому нет дела до каких-то стихов… Хотя нет. Вон седая женщина внимательно смотрит на Сережу. Он улыбается ей.
– Это моя мама читала! Вы слышали?
Женщина улыбается, кивает головой.
– Артистка? – спрашивает она.
– Лучше! – отвечает Сережа. – Диктор.
Он отворачивается к окну, смотрит, как молнии врезаются в землю. И вдруг замирает.
Но разве же можно, думает он, пить сок из граната, и смеяться, и просто жить, зная, что ты украл? Что обманул, убежав?
Он вопросительно смотрит на динамик. Но мама молчит. Чей-то другой голос бубнит про уборку урожая.
Мама! Она бы сказала.
Сережа опять вспоминает тот день.
Они сидят на матрасах в новой квартире, пьют вино, и мама смеется все время. А перед этим плачет. «Неужели, – говорит она, – это все мое? И ты, и ты, и этот дом?» Она не верит! Она удивляется! Она счастлива, как никогда в жизни!
Сережа много думал об этом счастье. О том, какое оно в самом деле. Про счастье удачливой и красивой тети Нины. Про мамино счастье, такое горькое. Он тогда размышлял еще: счастье – это человек. Какой человек, такая и жизнь у него. Если он такой – то счастливый, а если другой – то несчастный. Все в нем самом! И мама это ему доказала. Всем сумела доказать, что это так действительно.
Что несчастливый человек тот, кто не стремится к счастью. А счастливый тот, кто хочет его.
Значит, мое несчастье – это я, думает он напряженно.
9
Поезд приходит рано утром.
Незнакомый большой город вползает в вагон долго, как бы нехотя. Потом оглушает. Грохотом трамваев. Большой цветастой толпой. Глянцевыми огромными лужами на маслянистом асфальте. Дружно взлетающими стаями голубей.
Сережа подходит к милиционеру, протягивает ему бумажку с адресом и, пока тот объясняет, как добраться, с любопытством, будто впервые, разглядывает форменную фуражку, синий мундир, золотистые пуговицы.
Вот человек, который собою означает справедливость. Даже тут, в другом, большом городе, можно сказать ему сейчас – я такой-то, ограбил буфет за много километров отсюда, – и он изменится в лице и отведет куда следует, потому что справедливость – везде справедливость, в любом городе она одинакова.
Эта мысль Сережу гнетет. Он отходит от милиционера, садится в трамвай, едет, а сам думает, что все это – бабушкина наивная выдумка. Может, она и права, история эта заглохнет, забудется, про него, живущего в другом городе, не вспомнят – и все будет хорошо, о'кэй!
Хорошо? И он забудет? И никогда в жизни не вспомнит?…
Трамвай весело мчится по широкому проспекту, окаймленному высокими домами, ныряет между ними, катится мимо старых деревянных домиков, потом опять едет по новой улице.
Сережино училище как раз напротив остановки, но он туда не идет, а выспрашивает про общежитие. У Кольки при его появлении глаза лезут на лоб, потом он бешено рогочет, узнает, что Сережа приехал к нему – и жить и учиться, тащит его к директору, но Сережа упирается.
– Погоди, – говорит он, – сперва расскажи про свою «ремеслуху».
– Никакая это не «ремеслуха», – обижается Колька. Он все еще ошарашен, но и безмерно доволен. К этому прибавляется некоторое пижонство оттого, что живет он в большом городе, и гордость за училище. – ПТУ, – объясняет он. – Мы не «ремесленники», мы «пэтэушники». Гляди, у нас какие классы… А мастерские… А спортзал…
Он водит Сережу по коридорам, блистающим, как больничные, тычет пальцем в алые вымпелы, висящие на стенах, в кубки, матово сверкающие в глубине застекленных шкафов.
– У нас знаешь! – торжествует Колька. – Как в суворовском училище! Дисциплина – раз! Самообслуживание – два! Три – самоуправление! А главное – кодекс чести, слыхал? В какой школе есть? А у нас – кодекс! Если кто-нибудь что утащит – хоть ложку! – судим и выгоняем, понял?
– Как судим? – холодеет Сережа.
– А так! Общее собрание – это наш суд.
Суд! И тут суд! Везде кара, везде наказание, глупости все это, никуда не сбежишь!
Сережа представляет огромный зал, полный народу. Незнакомые, чужие парни размахивают кулаками, кричат хором: «Выгнать! По-зор!»
Позор! Конечно, позор! И никуда от него не деться. Вот пойдут они с Васькой к директору. Тот спросит: «Работал?» – «Работал!» – ответит Сережа. «Давай трудовую книжку. Характеристика где?» Трудовая книжка – вот она. А характеристики нет.
Обещали позже прислать, если понадобится. Долго было писать, а бабушка торопила: надо уезжать, там конкурс, редкое училище, и узнали только что…
Бабушка говорила: молчи. Врать я сама буду, старая грешница. Но вот и ему пора настала врать. По уговору он должен отдать только свидетельство из школы. Будто лето просто гулял, как всякий школьник. Сейчас поступает.
Врать. Надо врать.
А вообще-то в чем дело? Почему там, дома, врала бабушка, а не он? Почему она его спасала, а он стоял как истукан? Ведь виноват он, а не бабушка. Буфет взламывал он, а не она…
Сережа потеет, покрывается пятнами, Колька тащит его в столовую, ругает себя:
– Я, дурак, гляжу – ты зеленеешь, давай рубай, а то без жратвы-то куда?
Сережа вяло тыкает вилкой в котлету, есть ему не хочется. Он Кольку разглядывает, не узнает его. Как он переменился! Тогда – год с лишним уже! – был деревенский парнишка, курил солидно и держал себя с показным достоинством. Перед Сережей, наверное, рисовался… А теперь блестит белыми зубами, говорит просто, без важности. Хорошо бы с ним подружиться – тогда не получилось, авария, потом, зимой, не до этого. Может, теперь…
– Здорово, – спрашивает Сережа, – влетело тебе за трактор?
– Еще как, – вздыхает Колька, – отец драл да драл, драл да драл! Его самого-то чуть прав не лишили…
– Как это вы про велики не забыли? – удивляется, задумчиво улыбаясь, Сережа и рассказывает про мамин голос в поезде.
– Мы твою маманю завсегда слушали, – говорит Колька. – По ее голосу утром в школу бежишь. Когда мороз, слушаешь, какую температуру объявит, и думаешь, теть Ань, ну давай, накинь по-родственному градусов пять!
Сережа смеется. Про маму ему думать всегда хорошо. Только вот… Зачем она обманула? Разве можно обмануть для пользы дела? Для справедливости? Вот он лжет сейчас, весь изоврался, обманывает, так ведь это для того, чтобы скрыть подлое… Благородного обмана не бывает.
Спать они ложатся вдвоем в большой комнате. Конец августа, многие еще не приехали, у некоторых практика – Колька же практикуется здесь, в городе, на большом заводе.
Они тушат свет, но уснуть Сережа не может, возится на новом месте, скрипит пружинами.
– Ты не врешь? – спрашивает неожиданно Колька. – Не врешь, что учиться приехал? Ты же на летчика хотел?
Сережа молчит.
– Хотел, да расхотел, – отвечает тяжело. И вдруг спрашивает Кольку: – А ты про отца моего знал?
– Слыхал, – отвечает Колька, – он же разбился…
– Кто говорит? – напряженно спрашивает Сережа.
– Да все в деревне. И отец.
Сережа облегченно вздыхает. Он распутывал свои мысли, как узел.
Отца нет, думает он, вернее, есть только Авдеев, но про него – про того, придуманного – хорошо говорят и помнят по-хорошему. Значит, выдуманный мамой, несуществующий человек все-таки существует? И пусть Сережа уничтожил в себе эту легенду, рассыпал как песочный домик, – отец-летчик живет собственной жизнью в других людях независимо от Сережи… Придуманный мамой отец продолжает быть, и, чтобы его уничтожить, надо ходить от человека к человеку и всем объяснять: это неправда, летчика-героя нет, а есть просто Авдеев…
Сережа вздыхает, ворочается, не может уснуть, хотя Колька уже храпит, как тот трактор «Беларусь», который он хряпнул о березу.
Значит, все-таки может быть благородный обман? И может быть подлый?
Между прочим, думает он, бабушка обманывает сейчас для него. Ведь если бы с ней самой такое случилось, небось давно призналась.
Сережа вспоминает тетю Нину, Олега Андреевича. Представляет: вот известно про буфет. Неужели же не догадаются, что есть тут тайная связь? Ограбили буфет, и он стремительно уехал. Нашел неповторимое училище. Конечно, они идут к бабушке. Допытываются, в чем дело.
Бабушка не скажет. Будет плакать, будет врать, будет мучиться, но не скажет, потому что Сережа ее внук.
Но почему же тогда он не думает, что она его бабушка? Что не должна она врать за него, его выгораживать, принимать на себя всю эту тяжесть лжи, вранья, обмана.
Сереже душно, он сбрасывает скомканное одеяло, переворачивает подушку, но все равно жарко. Он весь извелся, и чем больше думает, тем становится тяжелее.
Он вспоминает Доронина. Тогда ему показалось обидным – летчик прикрикнул на него, пристыдил, сказал: разве можно так распускаться?
И действительно: разве можно?
Разве можно прятаться за плечи взрослых, наделав бог знает что? Разве можно подставлять под удар бабушку, скрывшись в кусты? Разве можно лгать?
Сережа садится. За окном светает.
Мамин обман простителен. Он стал жестоким только после ее смерти. Если бы она была жива, обман этот существовал всегда. И он не мог бы осудить его, не зная о нем.
Сережин обман другой. Его нельзя таить. Этот обман не может существовать всегда. Потому что, обманув раз, можно обмануть и два. Можно сделать всю жизнь сплошным обманом.
Врать про отца, выдуманного героя. Врать про себя, про свою порядочность и честность.
Сережа встает, натягивает брюки, вытаскивает из-под кровати рюкзак.
Пишет тупым карандашом на куске желтой бумаги:
«Колька! Прощай! Я должен вернуться!»







![Книга Собрание сочинений. Том 5. Покушение на миражи: [роман]. Повести автора Владимир Тендряков](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-sobranie-sochineniy.-tom-5.-pokushenie-na-mirazhi-roman.-povesti-120265.jpg)
