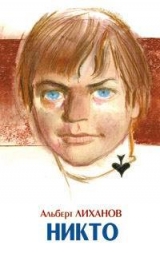
Текст книги "Никто"
Автор книги: Альберт Лиханов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
10
Ах, как печально непохожи интернатские выпускные вечера на такие же праздники в обыкновенных школах! Вроде все одинаково: так же сияют огни и народ возбужден, похоже, чуточку излишне криклив, ну и ясное дело, наряден. В интернатской столовой даже и угощения побольше – пирожки, например, целыми громадными блюдами, кувшины с морсом в неограниченном количестве: ешь да пей от пуза, уважаемый ученик, закончивший свое образование, и доброго тебе пути!
Однако же главное – совсем непохоже. Обыкновенный школьник получает аттестат из директорских рук не только как вознаграждение за учебу, но еще и как его дар родителям, которые сидят тут же, волнуются больше, чем надо, соглашаясь внутренне, что ведь и не только они погоняли своего нерадивца, но и он, оказывается, не такой уж разгильдяй, если получает аттестат о среднем образовании. Про отличников и отличниц помолчим, потому как их вообще меньшинство на нашей планете.
Аттестат интернатовца – всякого, причем – выстрадан куда как трудней и больней, чем такой же документ в обычной школе. И любого, кому вручают, оттого, наверное, встречают ликуя, а хлопают куда дольше, чем в заведении через дорогу. Это, наверное, потому, что каждый каждого знает тут вдоль и поперек, что и мальки к старшему относятся здесь не как к соседу по школе, но еще и как к соседу по спальне, столовке, спортзалу, двору, словом, почти как к брату. Между братьями бывают жестокие схватки, но разве же не случаются они в родной семье… Но вот настает момент ликования и… тоски. Ликования, что бедолага такой-то, продравшись сквозь все сиротские невзгоды, сквозь слезы, драчки, двойки, наказания привередливых воспиталок, жизнь, проведенную в общей спальне с младенческих лет, это дитя, в синяках и шишках, не знавшее ласки, стыдливо признающее существование невесть где шатающейся мамашки, это дитя, выросшее, угловатое, все в казенном, от трусов и носков до едва тянущих на приличие жалкого костюмчика или платьишка – стоит на сцене – не в хоре или какой еще иной группе, как бывало прежде, а единолично, пунцовея и бледнея, и ему или ей лично адресован грохот детских аплодисментов, желающих удачи, аплодисментов, в которых слышится надежда, что и у них, пока малых, как и у тех, кто выбрался, выкарабкался, тоже настанет такой торжественный день, который отрезает все больное и страшное, оставляет недобрую память здесь, в интернате, а там, впереди, всех будет ждать только добро и только радость…
И еще эти бурные аплодисменты, почти овации, получаются такими яростными оттого, что в зале нет тех, кому бы, может быть, раньше всего хотели эти торжественно одетые и выросшие мальчики и девочки показать свои аттестаты: их непутевые, а то и вовсе истаявшие родители, мамы и папы, которых так и язык-то назвать не поворачивается и к кому все же эти преданные ими, выросшие не благодаря, а вопреки им детишки сохраняют поразительную любовь.
В зале учителя, воспитатели, даже дворник Никодим, а отцов и матерей нет, будь они прокляты, любимые, несчастные, пропащие, их нет, будь они трижды неладны, а оттого громче, громче хлопайте, дети, – пацаны и девчонки, малыши и те, что постарше, не жалейте ладоней, не отставайте и вы, взрослые, в этот радостный и скорбный день – те, кто вырос тут, а сейчас выходит на сцену под свет ярких фонарей, ей-богу, стоят того, чтобы их приветствовать не горячо, а жарко, изо всех возможных сил!
Очень, очень много значат аплодисменты на выпускном вечере в интернате, где, конечно же, сначала вручают аттестаты выпускникам, а потом свидетельства об окончании восьмого класса, если кто решил свернуть в свою сторону.
Топорику хлопали, как будто он получил аттестат, а потом был вечер с пирожками, холодцом, морсом, вкуснейшими котлетами, и они, четверо почти братьев, по Колькиному указанию набрали пирожков полные карманы.
Музыка еще гремела из окон спортзала, а пацаны уже бежали к березовой роще, предвкушая продолжение праздника. В руке Топорика белел сверток, он вызывал тайное возбуждение, и Гнедой, Макарка и Гошман чего-то кричали несуразное, какую-то несли чушь, чему-то радовались и чему-то ужасались: эти детские речи подросших пацанов, выросших в интернате, трудно цитировать в силу их бесцензурности, малости видимого смысла, высшей убогости при громадной внутренней силе неведомых посторонним тайных чувств, которые вкладывались при том в каждое восклицание и даже междометие. Особенно, когда выкрикивается все это на ходу.
Они уселись возле косоватого пенька, и Топорик достал свою прошлогоднюю заначку – бутылку водки и бутылку коньяка. Косенький пенек бутылки не держал, они съезжали, так что на него выгрузили из кармана пирожки, а бутылки – сперва с коньяком одну, пустили по кругу. Увы, наши герои были в определенном, не всем понятном смысле маменькиными сынками, ведь они еще до появления на свет – кроме Топора – знали вкус алкоголя. По крайней мере в троих из них жила еще и не совсем познанная ими алкогольная наследственность, страшное дело, даруемое мамашками. Ведь дитя, рожденное женщиной-пьяницей, еще в материнской утробе становится зависимым от алкоголя – ну а как же! Ведь ребенок – часть матери, часть ее организма, и если весь организм постоянно отравлен водкой, то ее – чудовищная связь! – жаждет и новорожденное дитя! Немало усилий понадобится потом, чтобы разорвать эту связь, выправить, излечить дитя, освободить его от алкогольной зависимости, и никто всерьез не поручится зато, что, выросши, человек этот, вспомнив врожденную грешность, не повторит судьбу мамы. И не крепко будет виновен, если докапываться до глубин: это сработал, повернулся его наследственный ключ.
Трое из четверых проходили свое не самое радостное детство с клеймом, которое можно назвать весьма вероятным, и только Топорик оставался в тени: про него так утверждать бы никто не решился, лишь предполагая, что неизвестность может таить любое.
Они начали с коньяка и распили бутылку с двух кругов: сказались спешка, побег, возбуждение.
Коньяк был крепок, хотя, похоже, и не чист. Что-то намешано в него. В головах забурлило, они стали толковать еще громче. Главным образом говорили про Топорика, про то, как умело, будто партизан, скрывал до последнего, что решил сигануть в ПТУ, стать слесарем. О том, что это не по-братски – молчать до упора. И о том, что без него будет не так…
Как будет без него, они не знали. Но в распаленных коньяком сердчишках закипала тоска. Чтобы не разреветься, Гошман пустил по кругу пачку сигарет. Они закурили.
Топорик чувствовал, что его опять что-то ломает, какая-то тоска, но признаваться в этом не собирался, ведь он выбрал сам свою дорогу. Сбиваясь, куроча фразы, он принялся объяснять, почему ему обязательно надо пойти в ПТУ и поскорее начать работать, а им это делать нельзя. Получалось путано и неубедительно, потому что Коля не мог сказать своим дружбанам, почему ему уходить можно, а им нельзя, они спорили с ним охмелевшими голосами, и не разговор у них получился, а пьяная буза.
Тогда они переменили тему и стали вспоминать, как выпивали в интернатские времена и где доставали выпивку. Одно время они выслеживали грузовик с открытым кузовом, который подвозил выпивку к соседнему магазину. Там шел подъемчик, вот на нем и можно было, конечно, крепко рискуя, зацепиться за борт, забраться в кузов и выхватить из ящиков пару-тройку бутылок. Чаще всего это были «огнетушители» с бурдой, которую разливали на местном винзаводе, но однажды они раздобыли и водку. Несколько раз сбрасывались и получали пойло в магазине, не сами, конечно, а попросив какого-нибудь забулдыгу, каких водилось теперь на улицах несчетно. Приходилось, правда, отливать ему граммов сто в жестяную банку из-под колы или пепси, которую нынешний алкаш всегда имеет при себе.
Однажды Коля был поражен тем, что небритый алкоголик достал жестяную банку, сложенную вдвое – кроме донышка. Коричневыми пальцами упорный боец раздвинул края, и банка восстановила свою приблизительную форму – во всяком случае, пить из нее уже было можно, как и вливать в нее горячительную прозрачную жидкость. Кадровый пьянчуга сглотнул свою долю не поморщась, схлопнул банку в прежнюю полуплоскость и сунул в карман. Перед тем, правда, он норовил слить свой процент из горла, но Топор, воспитанный в правилах общественной гигиены, решительно возразил, и тогда появилось импортное свидетельство русской вписанности в мировую цивилизацию.
Алкаши брали выпивку по заказам ребят не ерясь, как и взрослые мужики, безропотно угощавшие пацанов сигаретами. Был лишь один случай, который Топорик не любил вспоминать. Они готовились к дню рождения кого-то из пацанов, сбросились, ясное дело, но денег не хватало, и тогда остановили выбор на бутыли какой-то сухой бурды. Когда же настала пора честно отчислить процент, очередной алкаш, коренастый, правда, и неслабый внешне, в спортивной шапке с помпоном, красноносый и бородатый, с трудом дождавшись, пока Гнедой срежет перочинным ножиком пластмассовую пробку, вырвал бутыль у него из рук и начал жадно глотать благословенную влагу.
Это было негигиенично, некрасиво, среди бела дня, прямо возле магазина, и затрудняло ребят всеми этими своими неудобствами. Но алкаш вел себя несправедливо, одолел уже треть бутылки, и тогда Топорик едва кивнул, давая старт молниеносной, тысячу раз отработанной технике коллективного приютского нападения. Макарка присел сзади пьянчужки, Топорик толкнул его в грудь, а Гнедому оставалось только вовремя подхватить бутылку.
Дверь магазина в ту минуту распахнулась, оттуда вывалились еще двое ветеранов алкогольной агрессии и, замерев, стали свидетелями почти акробатического этюда, когда наглец, нарушивший правила и обидевший интернатовских, подкинув ботинки выше своей спортивной шапочки, грохнулся через спину пацана, еще слегка приподнявшегося, чтобы усилить эффект перевертывания, а бутыль перешла во владение настоящих собственников.
Этого было достаточно, чтобы мнение – с пацанами не связываться! – было окончательно укреплено в туманных мозгах жаждущего народа.
Среди которого, впрочем, запросто могли оказаться и папаши этих вольных стрелков.
11
Знал ли долговязый директор интерната про грехи своих воспитанников? И да, и нет. Табачищем тянуло от каждого мальчишки, перевалившего за порог четвертого класса, и это не очень скрывалось. Достигший определенных философских высот, среди которых, бесспорно, и смирение как форма неодолимого бессилия, Георгий Иванович хоть и боролся с курением, хотя бы самых маленьких, сам будучи человеком курящим победы достигал лишь на ограниченных пространствах спален и учебных помещений, сильно уступая даже в районе мальчишеского туалета. Ну а на улице разве же уследишь за двумя-то с половиной сотнями детишек, прошедших еще во младенчестве суровую школу свободы?
А вот насчет выпивки определенно сказать нельзя. Запах уловить было трудно, потому что если и выпивали, то те, кто постарше и с оглядкой, то есть осторожно, а выпив, взрослых работников интерната обходили. Крутых эксцессов тоже не наблюдалось: сильно никто не напивался – здесь только примерялись, только пробовали. Так что директору оставалось предполагать: не без того.
И вот четверо из многих повзрослевших орали вокруг березового пенька, принявши первые сто двадцать пять грамм коньяка неизвестного происхождения, в который было явно что-то намешано, но что, они еще не в силах были понять. И поймут ли когда такие тонкости – неизвестно.
Покричав и этим слегка утомившись, ребята запели. Среди немногих эффективных приемов коллективного воспитания несколько лет назад Георгий Иванович импортировал один совершенно замечательный. Состоял он в том, что в зале и просто в классе – потом это даже вошло в расписание внеурочных занятий – собирали мальчишек (девочек почему-то отдельно). И каждому раздавали пухлый песенник. Георгий Иванович поначалу запевал сам, но очень скоро от этой обязанности освободился, потому что голосистых желающих хватало.
Книжку раздавали всем и каждому, справедливо рассчитывая на постепенность, запевала выбирал песню, просто называя страницу. И поскольку песенник был популярный, состоял из песен всем известных, с ясной, запоминающейся мелодией, скоро ребята лишь краем глаза заглядывали в книжку, а потом у многих она лежала и вовсе нераскрытой на этих сходках.
Как пели сироты? Ну, как поют люди без голосов и слуха, но знающие текст? Не очень, прямо заметим, мелодично, но зато слаженно и дружно. Так что интернат, о котором идет речь, славился как поющий, и вот этим отличием Георгий Иванович чаще всего и убеждал разнообразных проверяющих в не самом плохом качестве своей работы. Они, эти бесконечные комиссии, могли какие угодно высказывать замечания, следовало терпеливо, не возражая, не тратя напрасно сил своих, слушать, ну а перед тем, как они удалятся для написания заключения или даже акта, пригласить в детскую столовую, усадить рядом с ребятней, всегда вежливой, чужих чувствующей на значительном расстоянии, покормить обыкновенной, как и всех детей, пищей, а когда ложки отстучат и дежурные девочки в нарядных фартуках уберут быстренько посуду, предложить детям: вот, мол, у нас сегодня гости дорогие, давайте-ка им споем. И целый зал, сразу двести человек (без маленьких), вдруг начинает петь – не шибко художественно, повторим, но зато замечательно дружно, улыбаясь, а гости, слегка растерявшись, вынуждены подтягивать, конечно же, не зная половины слов, – вот тут-то и разрешались без всякой натяжки и рассуждений педагогические споры: мелкие замечания умирали, устыдившись, а крупные мельчали, часто превращаясь в общие рассуждения.
Был ли Георгий Иванович злоумышленником, хитрованом, этаким педагогическим очковтирателем, что ли? Да вовсе нет. Он просто безумно устал от безмерной своей ответственности быть государственным отцом двухсот пятидесяти детей, постоянного, хотя и скрытого страха за их здоровье и даже жизнь, за настоящее и будущее этих бедолаг, вполне ему очевидное.
Он устал от своей должности бесконечного выбивалы, доставалы, менялы – денег, продуктов, одежды, белья, обуви, игрушек, красок, мыла и тысяч подобных вещей, кажущихся маловажными только непосвященным. Он устал от посторонних – этих бессчетных проверяющих, у каждого из которых особое мнение, свой гонор и невидимые взору знания. Вот и приходилось отбиваться, в том числе и таким невинно-лукавым способом, как детское пение, кого угодно способное расплавить.
Что же касается четверки, расположившейся у неровного пенька, то Топорик был, несмотря на видимую свою флегматичность, самым голосистым и музыкально способным, по крайней мере помнящим правильную мелодию. Остальные отличались дружностью и умением выпевать слова, не отставая друг от друга, – сказывалась практика.
Сперва они не очень громко, будто приноравливаясь, затянули «Тройку».
Вот мчится тройка удалая
В Казань дорогой столбовой,
И колокольчик, дар Валдая,
Гудет уныло над дугой.
Ребята знали: «Тройку» лучше всего затягивать негромко, как бы что-то вспоминая, чуть раскачиваясь, представляя поначалу, где и как это происходит. И погромче-то уж потом, когда действие начинается:
Ямщик лихой – он встал с полночи, Ему взгрустнулося в тиши; И он запел про ясны очи, Про очи девицы-души.
А вот дальше они затянули крепкими, ясными голосами, будто сами ямщиками были:
Вы, очи, очи голубые,
Вы сокрушили молодца,
Зачем, о люди, люди злые,
Вы их разрознили сердца?
Теперь я горький сиротина.
И вдруг махнул по всем по трем,
И тройкой тешился детина
И заливался соловьем.
Последние три строчки надо петь утихая, как утишая голос, словно тройка уезжает вдаль и исчезает постепенно, не сразу, оставляет в сердце кручину.
Ребята помолчали. Пение как будто протрезвило их. Вроде даже березы заслушались хрипловатого мальчишечьего пения. Разве простые, родительские пацаны, если только не записаны в хоровые кружки, станут петь ни с того ни с сего, да еще так дружно, слаженно?
Впрочем, то и се у них все-таки было прислоненное к пеньку и на пеньке – пирожки. А когда ребята расслаблялись, чувствовали себя хорошо – это ведь и в интернате, на спевках бывало, – любили они почему-то про ямщиков. Ямщики раньше, как и шоферы нынче, видать, особенный народ, например, дальнобойщики, далеко от дома, одни, тоскуют по родным, и жизнь-то у них получается не всегда путевой – может, оттого и любили песни про ямщиков эти ребята, что чувствовали нечто похожее сами?
Топорик затянул «Степь да степь кругом» – как умирал ямщик в холодной степи, замерзал, а батюшке и матушке поклон передать не забывал, да и кольцо обручальное отдавал жене, велел ей не куковать одной, а выйти замуж за другого и жить счастливо.
Близко-близко подходили слезы к глазам этих ребят, и могли бы они уже и не сдерживаться, особенно здесь, в полумраке июньского северного лета, когда хотя и светло, но слеза может скользнуть незаметно, деликатно припрятанная неверной тенью и собственной стыдливой быстротой. Но нет, они не дали себе воли. Они были подсушены интернатовским воспитанием, смута кружилась в глубине их существ, не имея права выходить наружу, повторим – истинная смута, а не срыв или истерика, прикрывающие то, что творится внутри.
Они просто притихли, уйдя на мгновение каждый в себя, и потеряли контроль за окружающей действительностью.
Топорикино сердце вспорхнуло с опозданием, когда над самым ухом, будто выстрел, хрустнула ветка – так, по крайней мере, ему показалось, и перед ними выросли три парня в черных кожанах – униформе, которую по всей России носят молодые, неизвестно чем промышляющие люди, разъезжающие предпочтительно на джипах восточных и западных фирм, – новая гвардия разломанной державы: то ли бойцы, то ли вороны.
Тот, что стоял впереди и был ненамного пониже других двоих, блестел фиксой в неверных сумерках летней ночи, светлоглазо улыбался, белобрысая отпущенная челка сливалась с головы в левую сторону. Вид его, кроме кожаной куртки, ничего плохого не излучал, никакой угрозы от него не исходило, в отличие от остальных двоих, державшихся напряженно.
– Классно поете, пацаны, – сказал Белобрысый и присел на корточки. Взгляд его упал на пенек, на пирожки, на бутылки – одну порожнюю, другую полную, и он проговорил: – У-у, да у вас праздник!
Гошман, Макарка и Гнедой, хотя и не встали, но сидели напрягшись, готовые вскочить. Топорик, как старший, поднялся.
– Интернатовские? – спросил Белобрысый. Топорик подтвердил.
– Выпускной, что ли? – допытывался парень, а оглядев сидящих, усомнился: – Дак вроде вы еще малы.
– Я, – сказал Топорик.
– Чего – ты? – поднял на него смеющийся взгляд нежданный пришелец.
– Я окончил, – пояснил Кольча.
– Восьмилетку? – все расспрашивал парень.
– Ага.
– Ну и куда теперь?
– В ПТУ, на автослесаря.
– Ну что ж, хорошее дело, – проговорил Белобрысый, оглядываясь на приятелей. – А, мужики?
Те одобрительно помычали.
– Ну, – спросил Белобрысый, по-прежнему улыбаясь, – а гостей-то принимаете? Угостить можете?
Интернатовцы оживились, будто они и в самом деле отмечают радость в каком-нибудь теплом заведении и к ним подошли гости.
Стаканов не было, коньяк они выпили из горлышка, то же самое пришлось сделать с водкой, и когда Топорик протянул бутыль, освобожденную от пробки, Белобрысому, тот спросил его:
– Как тебя зовут?
– Николай.
– А фамилия?
– Топоров.
– Ни мамки, ни папки нет?
Топорик, глядевший до того в глаза Белобрысому, опустил голову и кивнул. Неловко было перед человеком, которого видишь в первый раз, признавать свою биографию.
Но Белобрысый погасил свою улыбку, встал, вытянул руку с бутылкой вперед и торжественно сказал очень серьезным голосом:
– Пью за славного парня Колю Топорова, полного сироту. Жизнь обделяла его счастьем до сих пор. Не улыбалась ему радость. А вот сегодня, этим ранним летним утром, в этой белоствольной роще его жизнь волшебно изменилась. Он еще и сам этого не понимает, а жизнь повернулась к нему любовью и счастьем. Хватит жить серо! Хватит тащиться по ней уныло, словно ты побежден! Нет, твоя жизнь еще только в самом рассвете, как это утро. И все у тебя впереди!
Топорик сначала слушал отрешенно, будто все это говорилось вовсе не про него, а потом какая-то пелена спала с него, и он посмотрел на Белобрысого новыми, очищенными от тумана глазами.
Перед ним стоял красивый молодой человек. Настоящий друг. Нет, не друг, а брат, потому что только кровные братья могут говорить такие добрые и серьезные слова.
– Еще вчера вечером, – сказал Белобрысый, – ты был мальчиком. А этим утром ты уже стал мужиком. Перед тобой жизнь. Перед тобой взрослая дорога. За тебя, Коля Топоров!
Он запрокинул голову и отпил в несколько глотков треть бутылки. Протянул ее Топорику. Кольча сразу понял, что не следует гнаться за Белобрысым, это будет глупо по отношению к себе и непочтительно по отношению к гостю. Он сделал три уважительных глотка – не больших и не маленьких, и Белобрысый передал бутылку своим чернокуртникам. Те тоже понемногу глотнули. Потом бутылка пошла к интернатовским братьям.
А Белобрысый смотрел на Топорика. Смотрел, уже всерьез, совсем не улыбаясь. Потом протянул руку и, пожимая его тонкую ладонь, заметил:
– Ну, пока! Поздравляю!
Они удалились в глубь рощи, мелькнули за березами и скрылись. Пацаны молчали. Петь больше не хотелось.
Минут через десять где-то вдалеке, один за другим, прогремели семь выстрелов. Они знали по телеку – это разрядили обойму.








