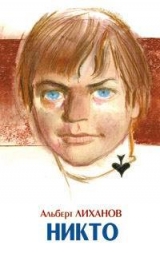
Текст книги "Никто"
Автор книги: Альберт Лиханов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Часть вторая. Червонный валет
1
С первых же дней жизни в училище Кольча понял, что никакого продолжения не бывает и на каждом отрезке существования надо начинать все заново.
Привыкать к новой кровати с железной сеткой, противно скрипучей, к новой умывалке – где грязно, холодно и мыло пропадает сразу же, если хоть на минутку его забудешь, а в столовке – неопрятной, как будто всегда дымной, хоть его, интернатовца, и кормят бесплатно – невкусно так же, как и неприютно.
Комната в общаге хоть и была на четверых, не то что огромная интернатовская палата, вызывала одну лишь тоску, и, конечно же, не от того, что стены выкрашены до половины серо-голубой масляной краской, а из-за народа, здесь живущего.
Двух пацанов звали Петьками, отличались они друг от дружки размерами – один широкий, большой для своих лет, с моргающими маленькими прозрачными глазками, а второй, напротив, тщедушный и глазастый, с черными зрачками. Оба Петьки были из недальних районных селений и оба умели водить трактора. У обоих же была и ранняя, откуда-то из районного бытия привезенная страстишка: все свободное от занятий время они проводили за тем, что искали деньги, покупали вино и пили, заедая выпивку сельской снедью, которую раз в неделю им подкидывали родители или за которой они сами отправлялись домой на рейсовом автобусе.
Пили они именно вино, а не водку, и объясняли это разницей в цене и необходимостью иметь поутру свежую голову, хотя утром вид у них оказывался чаще всего помятым и несвежим, несмотря на их юность.
Топорик пару раз присоединился к ним. Но ему оказалось с ними тоскливо. Были они какие-то скучные, опасливые, разговоры вели только про свою деревенскую жизнь, Коле неинтересную. Скоро Топорик понял к тому же, что парни эти его стерегутся, прячут подальше деньги, неожиданно влетают в комнату, когда он там один, читает, к примеру, учебник, а свои пожитки увязывают сопя и таким образом, чтобы можно было понять, не залезал ли кто в их мешки.
Сиротская душа вообще устроена так, что даже просто каждый подозрительный взгляд ловит безошибочно и ранимо. В интернате, среди своих, он не знал подозрения. А тут Кольча впервые ощутил, что такое косой взгляд и как прячут деньги в задний карман под пуговицу и вешают штаны на стул поближе к своему носу, а то и на кроватную стенку, прижимая подушкой поясную часть брюк.
Он стал обходить своих сельских однокашников, говорил с ними мало, за общий стол больше не садился.
Третьего звали Серега, и Топорик сразу схлестнулся с ним. Этот Сергей был старше остальных года на два, сидел, видать, повторно в разных классах, и сюда явился, чтобы успеть до армии схватить права и кой-какие сведения, да и попасть там, в солдатах, на машину.
Он был выше каждого из троих, явно сильнее и развитее физически, однако примитивен до ужаса. Его любимые словечки были «прижать», «удушить», «наколоть», и он сразу прижал обоих Петек, одновременно атаковав Топорика:
– На-ка, – сказал он, кладя на стол монетки, – сбегай мне за пивком.
Топорик даже опешил от подобной наглости. Говорить в ответ какие-нибудь, даже матерные, слова было бессмысленно. Кольча это знал, как и сразу понял, что Сергей наезжает, решив и его подчинить себе, а потому молча подошел к столу, посмотрел на монетки, насчитал три рубля против десятирублевой цены бутылки пива – просто так посчитал, из любопытства, и смахнул эти монетки в кровать, где, задрав ноги в ботинках на железную спинку, лежал чумной Серега.
Тот вскочил неожиданно резко и огромной своей ладонищей засадил Кольче куда-то между щекой и шеей. Маловесный Топорик рухнул на пол, вызвав трусливо-угодливый смех обоих Петек, вскочил, немея от ярости, но успокаивая себя, рассчитывая неравные силы и способ нанесения удара. Однако весовые да и возрастные категории были неравными. Кольча отважно кинулся в бой и был снова сбит с ног, и так несколько раз.
Крови не было, Серега, видать, несмотря на бычью тупость, был ознакомлен, в чем разница между простой ребячьей потасовкой и избиением младших, и лупил Топорика этак играючи, как будто забавлялся с легковесным котенком.
Взрывы смеха сопровождали каждое новое отражение Кольчиных нападений, пока он наконец, сгорая от стыда и ненависти, не выскочил в коридор, а оттуда на улицу.
Было еще не поздно и не темно – первая лишь неделя сентября, по улице шел народ, а Кольче казалось, что все его лицо полыхает, и он отворачивался от встречных, норовил свернуть в тихий переулок, но и там натыкался на прохожих.
Такого с ним еще не бывало: раз пять его сбили с ног и победили с явным преимуществом. Причем выходило так, что драку-то затеял он. Затеял и проиграл!
Его швыряло в жар и в холод. Первый раз он не справлялся с собой, странная внутренняя смута разваливала его, как острым топориком разваливают березовый чурбачок: береста сохраняет его целость, но внутри он расколот на поленья. Дурень Серега побил его, показал ему, что не на всякого наскочишь, ведь на этот раз за спиной у Кольчи не было банды пусть и малорослых, но бойцов, способных, как муравьи, налететь на любую тушу и каждый нанести свой малый укол, свой удар. А один на один, с фигурой масштабом и силой отличимой в иную, большую сторону, пока что никто не сладил, не надо быть наивным!
В общем, интернатовский накат просто-напросто подвел, не сработал. В этой жизни требовалось другое. Ведь и глупцу ясно, что таким манером этот козел Серега пытается заставить его шестерить! Наглец, совсем свихнулся! Да кто он такой! Только рост да кулачищи. Ну, и наглость, конечно. А ведь и слова умного еще не произнес. Ручищами машет, а сам боится, как бы его в Чечню не послали!
Кольча брел по улице, успокаиваясь, но не утешаясь: утешиться было нечем. Шестеркой он, конечно, не станет, но и мира не будет. Ясно, что жизнь вступала в пору испытаний, когда надеяться на старое уже нельзя, а одолеть силу способна только сила. Пусть даже это всего лишь сила духа.
2
Отравленная жизнь настала у Коли. Ты вроде пьешь и ешь, учишься и даже смеешься, и враг твой к тебе не каждую же минуту пристает, сидит в другом конце учебного класса, а жизнь твоя – ни к черту!
Всякий миг ты чувствуешь свою уязвленность, ждешь какой-нибудь оскорбительной фразы, жеста, выходки, адресованной тебе. Да, ты отказался шестерить и не чувствуешь себя сломленным, но в группе, независимо от тебя, живет мнение, этакий приговор, что ты слабак, и если пока не раб, то им станешь, а главное лицо тут дуболом Серега, над которым никто хихикнуть не смеет, хотя он и тут как дубовое бревно.
Похожих на тебя – полгруппы, но городские после занятий отсюда убираются и недоступны Дубине, а вот общежитские всегда в распоряжении его глупости и скотства.
В отличие от Петек, Серега пил не систематически, но время от времени где-то набирался, и Кольча ловил себя на ощущении, что трусит. Перед пьяной силой все бессмысленно, лучше спрятаться, и Топорик, не признаваясь себе, прятался: уходил в интернат.
Он являлся к Георгию Ивановичу, вежливо здоровался, просил:
– Можно я с нашими переночую?
Взрослый человек все принимал за чистую монету, разрешал, направляя, ясное дело, свои мысли по ложному пути:
– Ну, что, скучаешь? Так еще не поздно, и вернуться!
Вернуться? Коля спрашивал себя: а почему бы и нет? Тут же ожесточался: так быстро сломался? Из-за какого-то Сереги? Что же дальше?
Он улыбался директору, вводя его в дальнейшее заблуждение. Конечно, он скучает, и разве это плохо, если вчерашний воспитанник возвращается домой – поболтать с приятелями, даже переночевать, вот ведь и его кровать, аккуратно заправленная, стоит не занятая никем: всегда пожалуйста.
Ну а пацаны? Они только ликуют, видя в Топорике победителя, учащегося ПТУ, без пяти минут слесаря по ремонту автомобиля, взрослого, можно сказать, человека.
Кольча обнимался с братишками, охотно жал руки другим, гладил малышню, бежавшую к нему, как к архангелу, осиянному золотым свечением добра и свободы, и, сглатывая, прятал этот отвратный обман в себя.
Да какой он к черту победитель, когда самая настоящая побитая собака!
Ночи три, с перерывами, правда, он провел в интернате, а потом сказал себе, что это слишком легкий путь. Дубина Сергей и оба Петьки вновь приблизились к нему. Кольча попытался соорудить в себе пуленепробиваемое прозрачное стекло. Он слушал мат, адресованный себе в Серегином исполнении, и слышал его как бы в четверть звука, пропуская мимо себя. Петьки из породы людей, всегда разделяющих мнение сильного, вообще передвигались словно молчаливые марионетки – в Кольчином полузакрытом сознании.
Надо признать, что и книжки, которые он читал при этом, оставались в памяти лишь на четверть, и получалось так, будто он отупел, много раз перечитывая одно и тоже место. Выровнялся с Дубиной и Петьками. Надо же! А, впрочем, чем он лучше их?
Серега обозвал его детдомовцем, и он смолчал, хотя он не детдомовец, а интернатовец, это же совсем другое. Но он обозвал! Произнес это слово, будто ругательство. Кольча терялся, не мог понять, какой грех в том, что он будто бы детдомовец. Что в этом позорного? Что родителей нет? Так разве дети виноваты?
Ей-богу, он долго не мог въехать в смысл этой ругательной интонации. Разве это заслуга, что у человека есть родители? И разве вина, что их нет? И в том и в другом случае это положение независимо от производного – их сына или дочери: таков закон математики.
Только не математика руководит людьми, вот в чем дело. А совсем другие расчеты. Ну, например: чем ты можешь быть полезен? Дети часто дружат друг с другом не потому, что это интересно, а потому, что ходить в гости, перезваниваться, играть их подталкивают родители, видящие в родителях дружка нужный авторитет или связи. А какой прок от безродного сироты?
Кольча продирался к этим истинам как будто сквозь еловую чащобу в лесопосадке. К Петькам приезжали родители со шматами сала, и если с Дубиной Сергеем здоровались с полной вежливостью, полагая, видать, что крепкий этот детина может стать нежелательной угрозой ихнему сынку, то Кольче едва кивали, зная заранее о его безродном происхождении: чего с него возьмешь?
Топорик теперь выходил из комнаты, когда являлись эти, такие похожие, родительские пары, до сих пор даже и не знакомые друг с другом, ведь Петьки жили в разных селениях. Внешне эти родительские пары были непохожими – широкие у широкого Петьки, будто рыбы одной породы, например, прудовые караси, и худощавые, как плотва, у Петьки узкого. Однако груз их был до удивления одинаков: сало, домашняя свиная колбаса, соленые огурцы в литровых, чтоб не закисли до следующих выходных, банках – то, чем жил окрестный сельский люд, не шибко богатый и не шибко щедрый, особенно к другим, особенно к безродным пацанам.
С каждым таким визитом Кольча ощущал себя все больше уязвленным. Ему и в голову не приходило рассчитывать на угощение, но он просто нутром чуял, что взрослые, переступая порог общежитской комнаты, едва здороваясь, косясь на него, о том только и молят высшие силы, чтобы он вышел, не видел передачи харчей, ни на что не рассчитывал и вообще бы, по возможности, соскочил с поверхности земли. Кольча их не понимал и даже малость жалел этих взрослых людей. Неужто они не понимают, что голодных тут нет, что, слава Богу, пока что не война, ну и если уж приспичит, то он отправится поесть к тете Даше, которая вполне законно, на основании распоряжения директора, накормит его интернатским обедом в добавление к обеду училищному.
Но, ясное дело, эти жлобы не знали Кольчиных правил и, видать, привыкли всех подозревать в зависти, похоже, и сами прожили, завидуя кому-то другому, отсюда невидимому, и так опутали себя и детей своих подозрением, что выпутаться уже никак не могли в своем убогом Бермудском треугольнике между салом, солеными огурцами и домашней колбасой.
Однажды вечером, глядя, как Петька-широкий и Петька-узкий разложили персональные узелки – у каждого свое – и начали трапезу, Топорик рассмеялся. Ему пришла вдруг нечаянная мысль: а что, если бы у него самого оказались родители-куркули и он стал бы таким же, как Петьки, куркулем-сыном. Жевал бы свое сало рядом с дружком-жлобом, и ему бы даже в голову не пришло объединить их куркульские запасы в один запас и есть по-дружески из одной заначки? Он подумал так и засмеялся, а оба Петьки сказали ему, разом обозлясь, перебивая и дополняя друг дружку:
– Чего ржешь, казенная тварь?
– Тебя же за счет казны кормят. А нам самим приходится!
– Неужто, – неожиданно сказал им Кольча, – и этому позавидовали?
Петьки малость смутились, а Топорик кинул книжку на одеяло, вышел покурить. Его опять колотило, но жизнь велела держать удары. Не будешь ведь каждый раз морды чистить, да он уже испытал, что значит лезть на сильного. Эти не сильны, но их двое. И вообще, разве в том дело? Они, подумав-то, правы. Кольче и стипешка, пусть крохотная, и харчи бесплатные, а им – или плати, или кормись сам. Так что он и есть казенная тварь. А кто еще? Да никто.
Надо просто набраться терпения, сжать зубы и выдержать все, что положено. А пока – понять: ты на дне, ты даже среди этих пэтэушников самый низший, и выжить можно только двумя способами – или вернуться в интернат, признать свое поражение, неумение жить на свободе, неспособность выкарабкаться из-под крыши привычной конуры, или попробовать сломать себя, победить свою слабость, пройти уже однажды пройденный в интернате путь от слабого и подчиненного к сильному и подчиняющему.
В интернате у Кольчи вышло как-то просто. Он и не замечал, как рос, преодолевая слабости, как из маломерка превращался в верховода, – он прошел этот путь не сильно спотыкаясь и вовсе не ломая других.
Но в этой, полувзрослой, жизни были другие правила, и следовало признать: да, надо все начать сначала.
3
Он старался как только мог. Училище все-таки отличалось от интерната очень здорово – и классами, где стены были увешаны схемами разных автомобильных узлов, а под ними стояли образцы двигателей, и занятиями в мастерских, похожих на обычные гаражи – с разобранными машинами. Были среди них училищные, учебные, но частенько тут ремонтировали транспорт настоящий, рабочий – по договорам, которые разные организации заключали с ПТУ, и выходило всё всерьез, а ребятам, кто участвовал в ремонте, еще и малость приплачивали.
Главными фигурами, обучавшими слесарному делу, были совершенно лысый Василий Васильевич, сокращенно Вась-Вась, человек возраста неопределенного, но явно не старик – энергичный, говорливый, все знающий – и в этом-то была вся его закавыка! – и явно выраженный старик Иван Иванович, немногословный, в противовес Бась-Васю, вяловатый, медлительный и далеко не все знающий, но все умеющий руководитель мастерской.
Два этих персонажа дружили и враждовали сразу, что нередко случается в обучающих заведениях. Вращаясь возле одного предмета – автомобиля – и, наверное, понимая про него почти все, они без конца превращали это «почти» в пространство жарких публичных сражений – очных или заочных, в присутствии учеников и даже вовсе без оных, сидя, к примеру, рядышком на двух брезентовых малюсеньких рыбацких стульчиках в мастерской с чашками чая – или чего покрепче – в руках, один на один, вечно находя тему для технической дискуссии, так что даже казалось, будто, кроме машин своих, они ничего больше про жизнь не разумеют.
Надо заметить, антиподы эти были главным смыслом и основной движущей силой ПТУ, вокруг которых вращались, греясь в лучах их профессиональной отрешенности, и безликий директор Степан Ильич, и учителя общеобразовательных дисциплин, набранные с бору по сосенке, вроде учителя как учителя, но совершенно невыразительные, во всяком случае, абсолютно терявшие остатки личной выразительности, если они и были, рядом с Василием Васильевичем и Иваном Ивановичем.
Ученические души – и среди них душа Топорика – метались между тихим практиком и громким теоретиком, признавая правоту и того и другого, норовя соединить несоединимые берега. Конечно, теория и чертежи, обозначающие все узлы машины в разрезе, – важная штука, но когда берешь в руки ключ и он срывается, одаряя руки царапинами, вымазывая их машинной чернотой, это уже совсем другое, чувствительное знание, непохожее на бумажные представления.
Сами того не ведая, Дубина Серега и оба Петьки толкали Кольчу к усердию: он подолгу разглядывал разрезы деталей, допоздна торчал в учебных мастерских, вникая в подробности, влезая в мелочи, слушал, не стесняясь, дебаты двух автомобильных маэстро касательно установки опережения зажигания, электроники на зарубежных марках и тому подобных подробностей, что, наверное, сравнимо с фигурами высшего пилотажа у летчиков.
Поначалу он мало чего понимал в этих, обступавших со всех сторон, технических подробностях, осваивал элементарное – как сжимается и взрывается горючее в камере, как работает движок, как действует сцепление и начинает вращаться карданный вал, через мосты передающий движение на колеса. Постепенно картина вырисовывалась, а слова мастеров, их скороговорка, обретали смысл.
Иван Иванович и Вась-Вась, как нередко опять-таки случается в учебных заведениях, присмотрясь к пареньку, который не торопился с занятий, одобрили такой интерес, а потом, видать, поинтересовавшись подробнее его биографией, совсем расположились к нему, с похожим добродушием, что, ясное дело, вовсе не исключало их технических разногласий.
Подозвав к себе Топорика, как бы случайно обратясь к первому попавшемуся на глаза ученику, Иваныч просил его подержать тут и приподнять это, а Васильич при том убеждал Иваныча, что можно бы обойтись и по-другому, а как обойтись – рассказывал на словах.
– Можно и так! – поглядывал Иваныч на Топорика и подмигивал ему. – А можно и этак!
Иваныч просил у Кольчи ключ на двенадцать, на десять, потом учил, что показывает масло на щупе легкового автомобиля, демонстрировал элементарные примеры дозарядки аккумуляторов у грузовиков, обучал составлять электролитную смесь, заставлял сливать масло из картера и всякое такое, без чего умения обходиться с машиной не бывает.
Когда Иваныч и Васильич выпивали после трудового дня, Кольчу они не отсылали, а приглашали подсесть и закусить, чем Бог послал. Выпить не предлагали, такое не полагалось, а вот закусить – пожалуйста, и Топорик не отказывался, мыл руки, присаживался на старую запаску, принимал кусок булки с колбасой, не по причине голода, а ценя приглашение настоящих асов.
Постепенно он многого нахватался и стал чемпионом группы по скорости замены колеса.
Вечные спорщики, Васильич и Иваныч предложили это соревнование загодя, предоставили возможность и время потренироваться, но городские, попробовав разок-другой, бежали домой, так что шанс наловчиться оставался за общежитскими: им можно было упражняться хоть до ночи, раз Иваныч разрешил.
Ну а потом объявили день и час. Иваныч и Васильич обзавелись секундомерами, на площадку выставили два «Жигуля», и Кольча моментом сменил колесо, ловко поддомкратив машину. По времени – первый результат. Второй, к Кольчиной беде, оказался у дубового Сереги, и он же стал победителем в марафоне, это когда надо сменить у машины, одно за другим, все четыре колеса, заменяя снимаемое уже снятым перед тем. да еще по всем правилам – крест-накрест: переднее левое поставить вместо заднего правого, а заднее левое на правое переднее, оперируя, ясное дело, запаской. Здесь требовались сила и выносливость, и тут Кольча сдал, а Серега орал и кричал, как полоумный, разевал свой красный слюнявый рот. Хотя Топорик радовался своему достижению и находил объяснение Серегиной победе, настроение у него скисло, особенно после того, как в общаге этот дурак напился на радостях и, показав кулак со своей койки, проговорил:
– Ты слабак, парень, против меня, и не рыпайся? Безродный слабак!
Он захохотал, а Кольча вышел в коридор и долго курил, стоя под форточкой, пока не замерз и окончательно не приказал себе действительно не рыпаться.
Однажды Иван Иванович, явно смущаясь, сказал Василию Васильевичу:
– У тебя описание «Мерседеса» есть?
– Смотря какого?
– Двести шестидесятая модель.
– Не самый мудрый вариант, – ответил начальник теории, – без бортовых компьютеров. Конечно, есть.
– Дай-ка мне полистать на пару вечеров, а то меня тут одни знакомые просят поглядеть.
Кольча, слышавший этот диалог, особого значения ему не придал, потому что заводили в их учебку и иностранные модели, правда, все больше восточные: «Тойоты» и «Ниссаны», о «Мерседесе» говорилось впервые, а через пару дней действительно, когда он пришел в мастерскую, Иван Иванович, наполовину погрузившись под капот, работал в окружении плечистых парней в кожаных куртках,
Рядом сверкал своей лысиной Васильич, похожий набольшую электролампу, она все время поворачивалась, и за ней, внимая, что она изрекает, следили гости. Васильич помогал Иванычу, под аккомпанемент своих комментариев, откручивать болты, открывать разные крышки, смотреть, продувать и протирать.
Топорик тихо подошел к Иванычу, поймал его напряженный взор, кивнул и начал выполнять, по обычаю, негромкие распоряжения.
Широкоплечих парней он сразу не разглядел, а разглядев, тотчас узнал. Белобрысый, бросив на него взгляд, воскликнул:
– Да это никак Николай Топоров! Ты чо здесь? А-а! Ты же говорил!
Он протянул Кольче руку, и тот пожал ее, улыбаясь.
– Какие у тебя знакомства! – усмехнулся Иваныч, и Топорик пожал плечами, не зная, что ответить.
Подошли из столовки другие пацаны, обступили «мерина», поглаживали его по округлым бокам, словно коня, попинывали слегка по резине, чтобы убедиться, какая она замечательно мягкая хотя бы по сравнению с нашенскими «Жигулями».
Громче всех выступал громогласный Серега.
– Да что говорить, – вещал он, – в автомобильном деле они обставили нас не на десять лет, не на пятьдесят, а навсегда.
– А в чем они нас не обставили, пацан? – развернулся к нему Белобрысый. – Можешь ответить? Может, по космическим ракетам? Или по презервативам?
Все подобострастно рассмеялись, а охотнее всех дуботолк Серега.
– Они нас обошли, сволочи, во всем и навсегда! – сказал Белобрысый. – И обойдут еще круче, если мы сопли распускать станем!
Иваныч закончил копание в моторе, отворил дверцу, уселся за руль, повернул ключ зажигания. Двигатель вспыхнул негромко, как примус, заработал, и Белобрысый захохотал:
– Иван Иваныч! Левша ты наш великорусский! Опять немецкую блоху подковал!
На другой день Кольча пошел в училищную библиотеку и попросил книгу про Левшу. Только поздней ночью кончил читать рассказ Лескова.
Чтобы не мешать своим сокоечникам, дочитывать пришлось в коридоре, под жидким светом маломощной лампочки, прислонясь к холодной серой стене.
До вчерашнего вечера Кольча не слышал про Левшу и блоху и не читал этот рассказ. Теперь он знал, о чем шла речь и каким образом Белобрысый похвалил Ивана Ивановича.
По привычке он подошел к форточке, достал пачку сигарет, снова закурил, похлопав себя по карману. Там лежала хрустящая сотня. Смущаясь, сегодня ее дал Кольче Иван Иваныч.
– Это твой заработок, – проговорил он, – за вчерашнее.
Топорик отказывался, но мастер сердился и даже бранился, чертыхаясь. Наконец сказал:
– Они мне столько заплатили! И велели тебе дать! И Васильевичу. Только ты, смотри, не болтай, нам ведь нельзя.
Он – что, совсем несмышленыш?








