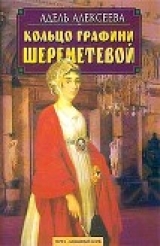
Текст книги "Кольцо графини Шереметевой"
Автор книги: Адель Алексеева
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
НА БЕРЕГУ СОСВЫ
I
 орькое зрелище открылось путникам, когда поднялись они на высокий берег реки и вошли в ворота острога.
орькое зрелище открылось путникам, когда поднялись они на высокий берег реки и вошли в ворота острога.
Городьба из длинных, заострённых вверху брёвен, острые колы, будто копья, отделяли острог от городка Берёзова...
Посредине площади высилось когда-то крепко, но без всякой красы построенное здание бывшего Воскресенского монастыря. Боковые пристройки, купола сгорели, и остался лишь остов – кубического вида домина, разделённая на комнаты-кельи. Оттуда пахнуло нежилым мрачным духом...
Ступив за порог трапезной, старый князь Алексей Григорьевич еле удержался на ногах. Братья тоже остолбенели, а сёстры завыли в голос. Когда же комендант указал каждому на его помещение – келью, то оказалось, что для молодой семьи – Ивана и Натальи – места не хватает. Что было делать? Охранники показали сарай, стоявший во дворе, который можно перестроить в избу.
– Что делать? У горькой беды нет сладкой еды, – заметил, видимо, посочувствовавший им комендант – Помогаем!
На другой день после прибытия Иван Алексеевич отправился поутру во двор, чтобы оглядеть всё, и вышел на берег реки. Здесь предстала ему церквушка, от которой открывался вид на заречные дали. Но столь широко разлились тут воды, что не рекой, а морем-озером можно было назвать их. Стоял сентябрь, ещё не опустилась долгая зимняя ночь, солнце посылало слабые свои лучи на затерявшуюся в водах землю.
Князь так поражён был открывшимся видом, что не сразу услышал за собою шаги, а повернувшись, увидел священника. Тот назвал себя: «Матвей Баженов». Оказался он словоохотлив и, как и бывает в отдалённых местах, сразу разговорился с новым человеком.
– Дивно тут вашей милости? – спросил.
– Да-а, природа красивая...
– Это пока сентябрь.
– А давно ли церковь сия возведена?
– Как же, как же, совсем молодка наша церковка! А духовитая! Теперь ещё свежим деревом пахнет. – Он любовным взглядом оглядел церковь и добавил: – Александр Данилыч строили её...
– Меншиков? – встрепенулся Долгорукий.
– Они, они! И дом – во-он он! – построил, и церковку возвёл, а имя ей дал – Спас. Знать, спасала она его в горестях его... Да только разве спасёшься от горя лютого на сем свете?.. Горе поболе ссылки надвинулось тут на него... – Отец Матвей сделал несколько шагов, и они оказались на погосте. – Покоится здесь раба Божия Мария.
Князь дрогнул: Мария, та самая?
– Сам, своими руками Александр Данилыч землю мёрзлую ковырял, постелю холодную стелил ей... А уж как пригожа была, да и нравом-то ласкова... И отца горячо почитала... Да, видно, Богу была угодна, и вознёс он её к себе...
Долгорукий стоял, вперив неподвижный взор в землю. Воображению его предстал бал в Петергофе – и счастливая, танцующая с государем императором, порхающая как бабочка Мария. И она – в этой мёрзлой земле? Злую шутку сыграла с нею судьба! Ещё одна порушенная невеста...
– Отчего померла она? – тихо спросил князь.
– Послал Господь наказание за грехи наши! – вздохнул священник. – Оспу принесло к нам, вот и... малятки, детки её, тоже с нею ушли! Слава Богу. – Он взглянул на небо, перекрестился и показал на два малых холмика рядом.
«Как? Она родила?.. И они похоронены под сими холмиками?.. Но кто их отец?» – спрашивал молчаливый взгляд Долгорукого.
Отец Матвей отвечал на его немой вопрос:
– Этакое-то доброе сердце да этакая-то красота одни не пребывают. К княжне Марии вскорости приехал знатный человек. Тайно прибыл, а был из себя видный.
– Кто же он? – спросил князь.
– Так имя-то у него такое же, как у вашей милости: Долгорукий, Фёдор. Не слыхали разве в столицах-го?
Сын дяди Василия? Неужто? Князь смутно вспомнил мовку, которая кочевала в Москве о Фёдоре Васильевиче (толмаче), который под чужим именем отправился в Индию. Значит, не доехал до Индии, сюда устремился?! И позвала его любовь...
– А что Меншиков? – посуровевшим голосом спросил он.
В памяти встала продолговатая, худая физиономия с ямочкой на подбородке, с двумя крупными морщинами-скобами вокруг тонких губ, которые способны складываться в язвительную улыбку, кудлатая, похожая на львиную голова. Как горделиво восседал он в своей карете, отправляясь в ссылку, как кланялся простому люду – умел светлейший проигрывать!..
Однако из рассказа священника совсем в ином свете предстал старый недруг Долгорукого.
– Великий был человек! – вздохнул, перекрестившись, батюшка и указал на церковь. – Эвон какие сделал загогулины с боков, а колоколенка!.. Деятельный человек! Он и службу справлял, и на клыросе пел, и в колокола звонил... А дома, бывало, ляжет на полати и оттуда мемуар свой читает про баталии славные, про кумпанства, виктории громкие, про ретирады стыдные, а сын его писал мемуар тот... Когда прибыл в Тобольск, стали неразумные люди бросать в детей его грязью – в него-то самого стыдились кидать. А он говорил им: в меня бросайте, невиновные дети мои, в меня!.. Сюда прибыл, промолвил: слава Богу, в первобытное состояние вернулся, откуда вышел я, туда и пришёл! Там, у трона, узнал я суету мира, а тут наслаждаюсь свободою духа. Не я, но они достойны сожаления... Чем более отняли у меня, тем менее у меня забот станет... И ни мести, ни злобы не держал ни на кого...
Долгорукий с недоверием внимал священнику, но можно ли усомниться в правде его слов? Так же, как теперь Долгорукий, стоял тут, должно, Меншиков на берегу Сосвы и глядел на этот простор. Словно угадывая его мысли, отец Матвей продолжил:
– Бывало, выйдет вот так на берег и глядит, глядит вдаль, словно с Богом разговаривает... А как уложил любимую дочь в холодную постелю, как закопали деток её, так и сам свалился. От печали и помер... А детям своим говорил: легче бы, дескать, мне было, кабы не смущала меня мысль, что отправят вас обратно, туда, где порок торжествует над добродетелью, где в сердцах уж нет первобытной невинности... Мол, посередь сует того мира станете вы ещё сожалеть о здешнем заточении...
«В неволе моей наслаждаюсь свободою духа? – повторил про себя князь. – Посередь сует мира станете вспоминать о здешнем заточении... Неужто такие мысли обитали в голове державного властелина?»
– Где похоронен Меншиков? – сухо спросил Долгорукий.
Отец Матвей повёл его в церковь, к алтарю. Так вот где покоится тот, с кем враждовали Долгорукие!
Сняв шапку и склонив кудрявую чёрную голову, князь перекрестился и встал на одно колено. Забыв о своём провожатом, он размышлял о том, какую роль они, Долгорукие, сыграли в жизни Меншикова, о дяде, с воем Василии Лукиче, который и ненавидел и ласкал Меншикова, учил племянника разным пронырствам, а юному царю нашёптывал о чрезмерной его роли, мол, одно слово – и рухнет его власть. А сын его, вот поди ж, приехал к Марии. Как всё перемешалось! Охватило князя какое-то смятение и смутное чувство вины – зачем он разжёг гнев государя, когда Меншиков не передал царской сестре 10 тысяч червонцев...
– Кто уповает на Бога, тому открывается Царствие небесное, – проговорил батюшка и ласково тронул арестанта. Они двинулись к воротам острога...
К этой встрече враждовавших когда-то фамилий следует добавить лишь, как встретились другие представители семейств. Современники вспоминают, что дочь Меншикова – Александра, узнав в ссутулившемся, постаревшем человеке Алексея Григорьевича Долгорукого, сразу забыла прежние обиды, сердце её исполнилось к нему жалостью, и она с открытостью и сочувствием заговорила с ним. Иное дело сын Меншикова. Услыхав о прибытии Ивана Долгорукого, он воспылал негодованием и воскликнул: «Увижу – плюну ему в лицо!» Однако обратился мыслью к отцу: как бы поступил он? Что завещал отец? – и охолодил себя, исполнился даже сочувствием: их ссылка кончилась, а у Долгоруких лишь начинается. Рассказывали также, что сын Меншикова спустя какое-то время вернулся в Берёзов, и подарил князю Ивану дом, построенный отцом...
II
Миновал год...
В поношенном платье и в меховой безрукавке Наталья Борисовна сидела возле слюдяного оконца и покачивала висевшую на лиственничной жёрдочке люльку, в которой спал её сын. За окном колыхались под ветром кусты, шевелились берёзовые листья, и в памяти княгини проносилось пережитое за этот год.
Как старый князь велел Ивану искать другое место, как горько тот усмехнулся и промолчал – сын отцу не перечил, но и скрыть обиду не умел; с того дня, как разжалован из фаворитов, отец стал будто не родной. Во дворе обнаружили сарай без окон, без печей, который стали перестраивать, и с каким старанием трудился муж! Уконопатил щели, сделал слюдяные оконца, сложил две печки. Как торопился – уж приближалось зимнее время, жена тяжёлая, в положении. Пришлось ей тогда ютиться вместе с золовками, вот уж наслушалась ссор ихних, споров! Зато сколько радости было, когда с нехитрым скарбом переселились в свою избу. Дали им комод, стол, шкап, две лежанки, из посуды – только глиняные плошки да медный самовар и кастрюлю. Перетащили два сундука с одеждой, иконами, книгами да неведомыми Наталье свёртками княжескими и начали жить. А тут и зима засвистела-завыла. Ладно бы холод, а то темнота наступила, чёрный полог опустился – под ним и живи без тепла, без солнышка. Окна заледенели, вода замерзает, из валенок не вылезаешь. Служанка глупа и ленива, сколько раз до времени задвижку закрывала, чуть не задохлись раз в угарном дыму... Пришлось княгине самой учиться и печи топить, и стирать, и меха шить. А князюшка её только успевал колоть да таскать дрова – топили по три раза на день. И не узнаешь, где день, где ночь: чернота, хорошо часы большие, ясные, цифры и стрелки чёрные, а поле белое...
Счастьем-то грех называть такую жизнь, однако... радость была: шли последние месяцы ожидания дитяти, губы её невольно расплывались в улыбке, когда слышала нежные и мягкие ударчики внизу живота!.. Но судьба её горемычная не дала даже малость порадоваться – заболела грудь. К рождению ребёнка надеялась получить кормилицу; писала челобитную в Петербург государыне, а как родила – пришёл ответ: нет, мол, не давать Долгорукой кормилицу. Муж только «злыдарихой» и называл в те дни императрицу – она умоляла его утишить речи свои, а он всё бушевал.
Назвали сына Михаилом – в память о предке долгоруковском Михаиле Черниговском, принявшем смерть за православную веру, а также в память о брате Натальи – Михаиле, который воевал вместе с фельдмаршалом и муки терпел в турецком плену. Тени сих предков должны были укрепить дух младенца, получившего жизнь в суровом крае.
Месяцам к пяти мальчик окреп, оправился, стал улыбчив, как все Шереметевы, и она, Наталья, вылечилась, и все трое были почти счастливы в своей избушке, затерянной в далёком краю. Об остальных же Долгоруких этого нельзя сказать. Они жили маятной жизнью, терзались однообразием. Ни писем, ни вестей с воли, две-три дорожки по крепости и редкие выходы в городок Берёзов – лишь по большим церковным праздникам.
В конце зимы задул ветер-колыхань. Тягучий, монотонный, он вызывал у неё страшную головную боль. Когда стало светлее – день и ночь светло, – перестал спать Иван Алексеевич. Солнце, бледное, немощное, висело над самым горизонтом, а небо покрывал белый дымчатый тюль – и днём и ночью. Наталья, утомлённая за день, засыпала, а Ивана Алексеевича беспрерывной канителью опутывали мысли. Она слышала сквозь сон, как муж ходил, вставал, отправлялся на берег.
Берег, белая вода, закаты успокаивали его, и он подолгу в одиночестве проводил так время.
Да вот и сегодня, осенним днём поутру отправился туда. «А не пойти ли и мне?» – подумала Наталья. Постояла над сыном, поправила меховое одеяльце и вышла, наказав служанке приглядывать.
Медленно подошла к лавке, которую сколотил и поставил тут муж, остановилась поодаль. Князь стоял, скрестив на груди руки, глядя вдаль, и не заметил её. Ни шапки на голове, ни парика, впрочем, тут сразу забыли о париках (а ведь когда-то у него их было штук 20). Сбоку, возле лба белела прядь седых волос – будто гусиное перо вставлено в густые чёрные волосы. Теперь кудри полегли, обессилели, а вокруг лица выросла тёмная бородка...
Водная гладь лежала – будто огромное серебряное блюдо. А птицы, которых тут было великое множество, – будто зёрна, рассыпанные на блюде. Но вот все они разом поднялись и, подчиняясь каким-то неведомым законам, устремились в одну, потом в другую сторону, рассыпались и снова с громким криком помчались.
Беспорядочные движения их подобны были потоку мыслей князя Ивана.
Он заметил жену, когда новая стая птиц опустилась на воду как раз против солнца, и каждая отбросила тень – будто разбитый черепок.
– Вот и жизнь наша – что черепки разбитые, – сказал он.
Она вздохнула легко, прислонилась головой к его плечу и ответила:
– Сердечко моё, не надобно горюниться.
– Каково наш Михайло?
– Почивает крепко. Здоров.
Солнце, только что сиявшее, подёрнулось пеленой, и быстро-быстро поплыл белый туман. Он стал густеть, и вот уже рыжие деревья на той стороне реки тают. Туман – всегдашняя беда этих мест. Зимой от него хрустящим инеем куржавятся деревья, летом над водой делается жемчужная дымка, а осенью он необычайно густ. Вверх поднимается пар.
А земля тут дышит... Будто баба из бани вышла, пар от неё валит. Долгорукий сел на лавку и усадил рядом жену.
– Что-то теперь в Кускове делается, в Москве? Я бы всё туда глядела, только где она, Москва? В какой стороне? – тихо спросила Наталья Борисовна.
Князь показал на запад, помолчал и заговорил о своём:
– Всё на круги своя вертается. Меншиков здесь стоял – теперь мы стоим. В неволе сей человек наслаждается свободой духа, тут простятся грехи ему. Тут более он свободен, нежели возле трона... Так Меншиков говорил.
– Истинно так. Отец Матвей тебе про то сказывал?
– Он. Отчего устроен так человек, что, пока не стукнется лбом, не поумнеет?.. Помнишь, каким я был в Петербурге? Ерошничал, лиховал...
– Запальчив, необуздан, – улыбаясь добавила она, а про себя подумала: да ведь за то тебя и полюбила.
– Цветок мой лазоревый, ты всегда была про меня хороших мыслей. Да ведь я-то не таков, ведь ферлакур я был отменный. – Он скосил глаза на жену, боясь, что слова эти ей не по нраву. Лицо её оставалось спокойным, и он продолжил: – Намерения имел я разные, всё думал, на ком жениться, то на Елизавете, то на Ягужинской...
«Что за страсть неуместная к покаянию? – пронзило её – Ещё и Ягужинская?» В Петербурге, в Москве кое о чём догадывалась, она, однако не задумывалась, просто полюбила, а теперь – к чему говорить?
Впрочем, князь тут же раскаялся в словах своих, крепко обнял её и быстро заговорил:
– Не тревожься, друг мой, не серчай на меня! Прости великодушно. Давно сие было, тогда не уразумел я ещё всей доброты твоей и мудрости. Только тут всё открылось.
III
А вечером того дня, уложив сына спать, князь Иван и Наталья затопили печку, достали из сундука книги и сели у огня. Иван читал Библию, она – «Четьи-Минеи». Жития святых, составленные Димитрием Ростовским, были ей дороги: Димитрий Ростовский (Туптало) когда-то учился вместе с отцом её в Киеве, а потом постригся в монахи, обрёл уединение в Ростове и там работал над житиями. Единственную эту книгу и взяла с собой Наталья Борисовна и знала уже многие заповеди ростовского праведника, стараясь следовать им в трудные минуты: «Покорное слово гнев укрощает», «Будь тих, нетщеславен, кроток и явишься истинным учеником Христа».
Впрочем, в тот сентябрьский вечер книгу она отложила и взяла вышиванье. К Рождеству она дала обет закончить икону Божьей Матери Предстоящей.
Муж открыл страницы Библии, где были псалмы Давида. Когда-то в Петербурге пришлось ему видеть невеликую, менее двух аршин, деревянную скульптуру, изображавшую царя Давида – псалмопевца, и здесь отчего-то в памяти всё время возникал он: чуть склонённая голова, закрытые глаза (будто прислушивается к музыке), руки на струнах цитры и вдохновенное выражение. Что-то сходное появлялось и на лице князя, когда он читал звучные и ясные строки.
–«Услышь меня, Господи! Услышь слова мои! Уразумей помышления мои! Внемли гласу вопля моего, Царь мой и Бог мой, ибо я Тебе молюсь... Ты погубишь говорящих ложь, кровожадного и коварного гнушается Господь. А я, по множеству милости Твоей, войду в Дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему... Господи, путеводи меня в правде Твоей, рази врагов моих, уровняй предо мной путь Твой. Ибо нет в устах их истины: сердце их пагуба, гортань – открытый гроб, языком своим льстят...»
Нитки у вышивальщицы путались, перекручивались, часто образуя узелки, и Наталья терпеливо распутывала их, подцепляя иголкой. С её тонкими и длинными пальцами обычно это легко удавалось, но сегодня бело-серебристая нить, взятая для фона Богоматери, никак не поддавалась. Лик Богоматери в песчаных и коричневых тонах был хорош, но окружение никак не давалось. Ей хотелось сделать его светлым, как здешняя белая ночь или как белый разлив Сосвы, туманные берега. Уж не оттого ли происходила эта нескладица, что до сих пор помнились слова мужа про Ягужинскую, хоть и не показала она виду?
Князь, отложив книгу, взглянул на жену. Тёмные волосы на прямой пробор, сзади пучок, юный облик: девочка, не мать – тёплый платок на плечах, милое, доброе лицо, но отчего так строга? Где её ребячливость? Неужто осердилась за Ягужинскую? Ведь не скажет, никогда не выскажет обиды, он уж изучил её, промолчит. Князь подошёл, обнял её за плечи: мол, поздно, пора спать-почивать, и она, отложив пяльцы, поднялась.
Погашен огонь. Закрыты печи. Сопит в колыбельке сын. За окном воет ветер.
Долго ещё, чуть не до самого утра, проговорили в ту ночь, что-то выясняя, в чём-то каясь и прощая друг друга...
ДОЛГИМИ ТЁМНЫМИ ВЕЧЕРАМИ
I
 епроходимые леса да болота, хлеб привозят за тысячу вёрст... Избы кедровые, окончины ледяные вместо стекла, зимы 10 месяцев или 8, морозы несносные, ничего не родится, ни хлеба, ни какого фрукта, ни капусты...» «До такого местечка доехали, что ни пить, ни есть, ни носить нечего. Ничего не продают, ни же калача. Тогда я плакала, для чего меня реки не утопили или не залили! Не можно жить в таком дурном месте... Кругом вода, жители в нём самый подлый народ, едят сырую рыбу, ездят на собаках, носят оленьи кожи: как сдерут не разрезавши брюха, так и наденут, передние ноги вместо рукавов» – так писала Долгорукая в «Своеручных записках» о первых своих впечатлениях.
епроходимые леса да болота, хлеб привозят за тысячу вёрст... Избы кедровые, окончины ледяные вместо стекла, зимы 10 месяцев или 8, морозы несносные, ничего не родится, ни хлеба, ни какого фрукта, ни капусты...» «До такого местечка доехали, что ни пить, ни есть, ни носить нечего. Ничего не продают, ни же калача. Тогда я плакала, для чего меня реки не утопили или не залили! Не можно жить в таком дурном месте... Кругом вода, жители в нём самый подлый народ, едят сырую рыбу, ездят на собаках, носят оленьи кожи: как сдерут не разрезавши брюха, так и наденут, передние ноги вместо рукавов» – так писала Долгорукая в «Своеручных записках» о первых своих впечатлениях.
Морозы, сырые туманы, ветер-колыхань, полгода – тёмный небосклон и тусклые коптилки с рыбьим или оленьим жиром, полная оторванность от мира, одиночество – было от чего впасть в отчаяние. Тем более княжеским отпрыскам, привыкшим к почитанию в столицах. Однако оказалось, что и аристократы могут смиряться перед любыми зимами и неволей. Время лечит, терпение вознаграждается спасением, а молодые переимчивы к переменам.
Иное дело – старые. Прасковья Юрьевна Долгорукая еле живая доехала до Берёзова, а не прошло и нескольких месяцев, как скончалась. Алексей Григорьевич после неё сразу состарился лет на десять, стал невыносимо бранчлив, мучил всех руганью и придирками, а потом потерял память, перестал узнавать дочерей. А в одну из ночей отправился куда-то, и утром нашли его возле церкви мёртвым. Сыновья и дочери, невестка справили и девятый, и сороковой день, как полагается. Но – «крута гора, да забывчива, лиха беда, да сбивчива»...
Обстановка в крепости изменилась. Как писали современники: «Суровый режим, назначенный Бироном для Долгоруких, в действительности благодаря характеру самого Долгорукого и обаятельным душевным качествам его жены Натальи Борисовны перестал соблюдаться местными властями». Ссыльные перезнакомились с охранниками, которые были весьма падки на приятельство с князьями. Отмечаясь у караула, Долгорукие стали бывать в городке, разговаривали с местными жителями; особенно близкие отношения сложились со священниками соборной церкви. Княжны вышили уже не одну «пелену», сделали немало вкладов в храм Одигитрии. Наталья Борисовна подарила «Богоматерь Предстоящую» – тёмных цветов поздней осени лик на белом туманном поле.
Во дворе острога был вырыт пруд, сделана небольшая «сажалка» для птиц, и в светлое время маленький Миша не отходил от белых неповоротливых гусей.
Между тем в Берёзов поступил новый указ: «Письма в домы свои писать, из домов приходящие допускать только те, в которых будет писано о присылке запасов и протчих нуждах... Но допрежь читать будущим при них офицерам... Записаться, когда, куды и откуда писано...» Так что ссыльные получали право переписки, однако писал ли им кто, писали ли они – неизвестно: в шереметевском архиве писем не обнаружено.
Теперь Долгорукие имели некоторое улучшение в пище, а также в одёже, однако ходили они по-крестьянски, в овчинных тулупах и валенках. Иной раз кто-нибудь из офицеров привозил с ярмарки необходимое. У Ивана Алексеевича завёлся приятель – поручик Овцын, весьма пригожий лицом и речами человек, в нём было что-то рыцарское, и это сближало их с князем. Нередко говаривали они о столичных делах, об Остермане, Минихе, Левенвольде, и поручик не скрывал своей нелюбви к иноземцам. Долгорукий согласно кивал головой.
Благодаря Овцыну Иван Алексеевич получил доступ к редким книгам. С немалым интересом стал изучать жизнь и историю Сибирского края, развитие его. Скорым оно стало при Петре I, который поддерживал купцов Демидова и Строганова, от них распространялись на восток энергия и сметливость. По указу Петра по Сибири разосланы были учителя арифметики и геометрии «для обучения детей известного состояния»; верный железным правилам, Пётр запрещал неграмотным даже жениться.
Много интересного наслышался Долгорукий от воеводы Бобровского. Петра I он называл не иначе как «Китоврас» – мол, как и этот сказочный герой, ходил царь только напрямик, не сворачивая и круша всё на своём пути. К примеру, повелел в глухом Тобольске устроить театр. И что же? – поставили «рапсодию киевского сложения», однако горожане тамошние – тоже вроде того Китовраса; во время представления «взошла, сказывают, туча с бурею», сорвала маковку с церкви, и в том углядели гнев Господень. Так же и с раскольниками: услыхав, что новый митрополит поёт «Смертию смерть поправ» вместо «Смертию наступи на смерть», они бросали в митрополита камни, ругали его и называли «латинцем».
Вдоль реки Обь и выше, к Обской губе, жили остяки, самоеды, вогулы. Были они простые, доверчивые, но диковатые люди. Поклонялись идолам, а в зверях, птицах, рыбах видели своих братьев. Однако с большим любопытством слушали и рассказы приезжих миссионеров, проповедников христианства, охотно соглашались принимать крещение, не изменяя, однако, своей вере. Воевода рассказывал Ивану Алексеевичу, как епископ Филофей, оставив епархию и облачившись в схиму, поплыл по реке и, остановившись в остяцком селении, где поклонялись идолу в виде гуся, стал проповедовать о Христе. Выслушав епископа, жители согласились креститься, даже сожгли истукана в виде гуся, однако долго потом судачили про то, как гусь вылетал из огня.
Никто из Долгоруких не пришёлся столь по душе воеводе, как Наталья Борисовна и Иван Алексеевич. Большой хлебосол, бахарь и добряк, он и его жена не раз зазывали их к себе в гости, а те испрошали разрешение у начальника караула. Любили воеводу за шутки, байки, прибаутки, которыми тот так и сыпал. Себя он называл «отставным капитаном Преображенского полка» по службе, а по призванию – «таратуем». Встретив отца с сынишкой, вынимал какую-нибудь забавку и напутствовал:
– Ум твой, Михайлушка, в младенчестве яко воск, всяко к нему легче лепится, учись!.. Большой человек делайся, не то будешь как я – северный медведь, – и переваливался с одной ноги на другую.
Так же, то шуткой, то всерьёз, говаривал он о том, о чём другие помалкивали. Например:
– Чуть не тридцать годиков выбивал Пётр I из наших голов старые порядки, учил трудиться, не сидеть на печи – и будто в ум ко всем вошли его сии слова, однако... не стало его, и опять пошло по-старому: кто чинится титулами, должностями, кто ворует, взятки берёт. Китоврас, Китоврас нам нужон!
Иной раз спросят у него: не боится ли, мол, фискалов? Бобровский горделиво отвечал: мол, нету у нас их в Сибири, не слыхать про ихние подвиги. Его вразумляли, но, как говорится, каков характер – таковы и его поступки, и носит человек характер свой, яко улита раковинку.








