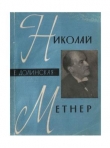Текст книги "Берлиоз"
Автор книги: Теодор-Валенси
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 25 страниц)
Что же происходит подчас в тайных лабораториях памяти? Может быть, на Гектора вдруг нахлынуло прошлое? Едва ступив на парижский асфальт, он, словно погоняемый чужой волей и следуя, конечно, указанию судьбы, спешит прямо в гостиницу, где жила Офелия.
Как? Та самая Офелия, изгнанная из его сердца? Именно она – Гэрриет Смитсон.
– Комната, которую занимала она, свободна? – спрашивает он.
– Да, свободна.
И Гектор тотчас пожелал здесь обосноваться.
Что он увидел, переступив порог? «Кровать, где она спала и видела ангельские сновидения, в которых, возможно, иногда появлялся и я, лампу, лившую свой мягкий свет, когда я совсем близко отсюда наблюдал за отблесками ее жизни, и этот пол, по которому ступала ее маленькая ножка».
Так перед ним всплыло прошлое, нежное и жестокое; оно разрывало ему сердце, вовсе не исцеленное.
Уйдя в прошлое, он будет отныне жить, чтобы вновь и вновь воскрешать пережитые волнения.
Но что за цель ты преследуешь, экзальтированный романтик?
Что за цель? Кто бы мог это сказать?
Но вот он просит у генерального инспектора зал Консерватории, чтобы организовать в нем исполнение своих произведений[62]62
Как сказал он своим друзьям: «Чтобы дать музыкальный залп».
[Закрыть]. Требует настойчиво, держась мнения, что добиваться робко – значит напрашиваться на отказ. Армии своих соратников, вновь созданной по его решительному слову, обладающему блестящим даром зажигать, Гектор объявляет:
– Теперь посмотрим, на что способен мой гений!
И действительно, каждый увидел.
Как и в недавнем прошлом, сколь это ни неожиданно и ни удивительно, он желал поразить и очаровать. Кого же? Офелию! В грязной гостинице «Конгре» на улице Риволи Офелия переживала трудные дни: стесненность в средствах, утрата благосклонности публики. С ней делили кров и хлеб, еще увеличивая ее нужду (зарабатывала на жизнь она одна), пассивная, как мебель, мать и горбатая сестра, безобразная карлица с душой, еще более уродливой, чем тело. Одна, отрешенная от мира, никогда не выражала своего мнения и беспрерывно вздыхала, словно подавленная трагической судьбой; другая, безутешная в своем безобразии, не умолкая, бранилась и проклинала все живущее. От ее злобных, яростных слов казалось, будто у нее изо рта падают ядовитые змеи. Мать еще куда ни шло. Но сестра – эта отвратительная лилипутка – испытывала ли она по крайней мере признательность к доброй Офелии, которая ее терпела и кормила? Ничуть! Она беспредельно завидовала ее обаянию и красоте. Гэрриет и в самом деле никогда еще не была так хороша: высокого роста, с царственной осанкой, перламутровым цветом кожи, изящной линией рта, копной золотых волос, где слишком рано начали пробиваться серебряные нити, а в глазах, «ее прекрасных глазах цвета северного неба», – невыразимая неземная томность, совсем как у Джульетты и точно как у Офелии.
Благодаря своим первым успехам она, став директрисой труппы английских актеров, добилась счастливой возможности представлять шедевры Шекспира на сцене Итальянского театра. Но то была директриса, не имевшая энергии, опыта и влияния, необходимых, чтобы руководить. Пресса, которая еще недавно ее превозносила, теперь была жестока. Одна из газет писала:
«Труппа, привезенная мадемуазель Смитсон, никуда не годится, включая и упомянутую актрису, былой успех которой у нас был результатом отнюдь не ее таланта. Эта девица приезжала к нам в пору англомании, вызванной не только усилиями литературы, но еще и политикой…
В дело вмешался Романтик, и мадемуазель Смитсон, которую английские знатоки ставили весьма низко, имела в нашей столице бешеный успех. Ныне все слишком изменилось и слишком прояснилось, чтобы это могло вновь вызвать интерес…»
И поскольку, несмотря на широкое распределение в Париже бесплатных билетов, театр оставался отчаянно пустым, одна влиятельная газета выразила свое мнение такой хлесткой фразой: «Английским актерам вынесен приговор: пассажирский пароход! Погода великолепная!»
Гектор с искренней грустью, окрашенной мушкетерским благородством, свойственным его характеру, узнал о бедственном положении прекрасной Офелии, приводившей его в такой восторг. Английская труппа вновь объявила «Ромео и Джульетту», где Гэрриет некогда умела умирать с такой патетической силой, что все провозглашали ее медленную агонию «истинным шедевром». И в то время, как Гэрриет пыталась пересилить враждебную безучастность Парижа, Гектор задумал выправить положение своей «Фантастической». Но какое отношение имеет одно к другому? У него есть свой план,
9 декабря
в зале Меню (Консерватории) – большой день: исполняется переделанная и музыкально переработанная «Фантастическая».
Среди присутствующих король критики Жюль Жанен, Генрих Гейне, Эжен Сю, Легуве и немало других бессмертных имен. Гектор послал Гэрриет-Офелии билеты в литерную ложу, рядом с местом, занимаемым им самим.
Придет ли она? Сердце Гектора часто бьется от страха и надежды. Тянутся долгие, нескончаемые минуты. Гектор упорно оттягивает начало. Он ждет, ждет Офелию.
Но вдруг словно вспышка молнии. Она! И все взгляды устремились на нее, прикованные ее неземной красотой. Взмах дирижерской палочки – и брызнули первые звуки, подобные сверкающим жемчужинам.
Сосредоточенная тишина, энтузиазм, неистовая овация публики, и актер Бокаж отчетливо произносит:
«О, почему не могу я найти ту Джульетту, ту Офелию, которую призывало мое сердце?»
Возможно ли? Вначале Гэрриет охвачена сомнениями: приглашение… это место возле самой сцены (чтобы она лучше слышала) и возле самого Гектора (чтобы он мог лучше наблюдать за ней)… И эта страстная фраза, в которую вплетены две ее главные роли – Джульетты и Офелии. Нет, сомнения невозможны. Гэрриет побледнела: она поняла.
Но что она может сказать или сделать? Она смутилась и, смешавшись с толпой, незаметно исчезла из зала.
Гектор одержал победу. Он ликовал[63]63
30 декабря Гектор вновь дал свой концерт.
[Закрыть].
Он писал своей сестре Нанси: «Поразительный успех… Зал рушился от аплодисментов; с тобой, добрая сестрица, случился бы нервный припадок!.. На улице, в театре меня приветствуют люди, которых я никогда не видел; шум и громкие фразы в салонах, Опере, кулуарах, за кулисами…»
Жюль Жанен, правда его друг, заявил: «Этот молодой человек – силища. Он доказал…» С того дня у него появилась тьма поклонников. И теперь он вправе сказать: «Земля, по которой я ступаю, принадлежит мне»[64]64
В ту пору Гектор и его друг Ференц Лист были ярким созвездием на музыкальном небосводе. Полистаем газеты, много писавшие о нем и о Листе. В одной из них читаем:
«…Как оценить подобное явление?.. Лист обрушился на великолепный инструмент, он плакал, рыдал, грезил и вздыхал, впадал в экстаз, падал ниц в религиозном созерцании… он играл и резвился, словно молодой тигр. Он вас очаровывает, подавляет; и в финале швыряет в вас удар молнии.
Да, это не талант, а гений. Его надо видеть…
И пока он, подобно заклинателю, метался на своем треножнике, его взгляд почти неотрывно был прикован к молодому артисту. Нужно ли уточнять, что этим артистом был Ректор Берлиоз?
Исполнитель не мог сделать лучший выбор. Берлиоз был тем эхом, какое требовалось Листу. Поэтому едва смолк последний аккорд, пианист, дрожа и задыхаясь от волнения, бросился на шею своему другу, и тот, обнимая его, повторял:
– О мой дорогой, великолепно! Как я люблю вас!
Самым горячим их почитателем был Жозеф д'Ортиг в «Котидьен».
Он писал, в частности, что концерт Гектора был «испепеляющим музыкальным извержением».
[Закрыть].
Не слава ли это? Нет, нет еще. И вообще придет ли когда-нибудь к нему настоящая слава?
В ожидании ее он вдыхал полной грудью тот фимиам, что ему курили, и хмелел от него настолько, что восклицал: «Я готов грызть зубами каленое железо!» Только и всего, сущий пустяк!
Гектор, сознавая, что случай благоприятствует ему, просит у Гэрриет разрешения ей представиться (экзальтация Гектора тем более пикантна, что он не был даже знаком со своей героиней). Гэрриет, еще взволнованная, соглашается.
Но куда клонит Гектор? Скоро мы узнаем об этом.
Вот они остаются с глазу на глаз, удивленные своим уединением и сгорающие от любопытства.
«О чем я могу сейчас ее просить?» – спрашивал себя Гектор.
«Чего он от меня ждет?» – думала Офелия, надеясь, что бурный композитор навсегда похоронил свой безумный проект об их женитьбе, смутные слухи о котором когда-то до нее доходили.
Минута неловкого молчания. Оба не осмеливаются даже взглянуть друг на друга. Кто же из них двоих произнесет, наконец, первое слово? Впрочем, как это сделать? Она говорила на ломаном французском, он коверкает английский. Они должны чувствовать к тому же, что ничто их не роднит. Она приехала из своей туманной Ирландии, он – из солнечного Дофине. Он принадлежит к буржуазной семье с укоренившимися предрассудками, устойчивыми традициями, привязанной к родной земле. Она же – артистка, дитя свободы, странствий и фантазии. Итак, никаких точек соприкосновения – ни язык, ни происхождение, ни среда. В конце концов Гектор приподнятым тоном, который так близок его «вулканическому» романтизму, отваживается произнести:
– Я благословляю провидение, даровавшее мне эту минуту высшего восторга.
Что ответила она? Ничего достоверного об этом необычном разговоре не известно.
Так или иначе, но они увиделись вновь.
По всей вероятности, вначале она его терпела, потом смирилась и, наконец, свыклась с этим примирением, граничащим с благосклонностью.
Он же с первого мгновения неистово запылал. Уж такой был его «фосфорический» нрав, как любил говорить он сам. Ради нее он мог бы, не задумываясь, пустить себе пулю в лоб – разумеется, в чисто романтическом пылу. Величие Вертера.
Ложась в постель, в то углубление, которое как бы хранило след тела Офелии, он поднимался до высших сфер блаженного забытья. Однако стоило ему открыть глаза, как начинало щемить сердце: он воскрешал в памяти сцены из спектаклей, где она целует не его, а другого, и осмеливается умереть не на его – на чужих руках.
– Нет, довольно! – восклицал он. – Она должна принадлежать мне безраздельно, мне одному!
Теперь Гектор держится женихом, несмотря на явную враждебность горбуньи, этой страшной ведьмы, которая принимала насмешливо-угрожающий вид всякий раз, когда Гектор представал перед Офелией. Однажды она бросила ему в лицо:
– Будь у меня побольше сил, я вышвырнула бы вас в окно!
Из-за злобы обиженной природой сестры, из-за невыдержанности Гектора, из-за чередования волн то безрассудства, то благоразумия, захлестывавших Гэрриет, весь этот обычно усыпанный розами период безмятежного очарования, когда два существа, открывая друг друга, будто познают чудо и лишь стремятся слиться воедино, был для них беспокойным и облачным. Ссоры сменялись примирениями, приливы непрерывно следовали за отливами – то грозы, то ясное небо.
183330 лет.
Гектор решил: «Пора кончать!»
И написал отцу, что намерен жениться на ирландке Гэрриет Смитсон.
Гром ударил в бастион французской буржуазии; самый яркий роялист, ультрабелый доктор Берлиоз и строгая, набожная госпожа Берлиоз поставлены в известность о брачной авантюре, в которую решил броситься бунтарь Гектор.
Старики в растерянности смотрят друг на друга: возможно ли? Потом госпожа Берлиоз по обыкновению разражается тирадой:
– Какая-то актриса, таскавшаяся из страны в страну по театральным подмосткам! (Госпожа Берлиоз всегда преувеличивала.) Чужой крови и чужих обычаев! Разорившаяся женщина, к тому же вся в долгах! Тогда как он принадлежит к семье судей и нотариусов. – И, не закрывая рта, продолжала: – Создание, о котором он сам после первого, быстро угасшего пожара заявил, что без призмы сцены и ореола Шекспира она ничего не стоит[65]65
Надо признать, что Гектор, впервые получив отказ Гэрриет, грубо высказался по ее адресу.
[Закрыть].
И театрально по всем правилам закончила: – Мой сын, я вас проклинаю!.. Вы унесете на тот свет грех за смерть вашей матери, которая всю свою жизнь была святой. Слышите ли вы меня? – добавила она еще торжественнее, словно Гектор находился поблизости. – Слышите?
Доктор под шквалами бури не в силах был вымолвить ни слова. Да и мог ли он что-нибудь сказать? Он никогда не осмеливался прерывать свою властную жену.
Наказать сына? Ни за что! Он страдал, не испытывая злобы. Защитить его? Тогда госпожа Берлиоз предала бы анафеме и его самого.
Так или иначе, но отец формально запретил сыну жениться.
– Таков мой долг, – просто сказал отец.
Но Гектор не сдается. Он утверждает, что в этом деле затронута его Честь (с преувеличенно большой буквы). Он боролся наперекор всем стихиям и
14 февраля
(к сожалению, во всяком случае, отца) он подписывает у парижского нотариуса Гюйо первую просьбу о разрешении родителей на вступление в брак.
Что теперь с ним станет? Отныне он в ссоре с семьей и берет в жены Офелию вместе с долгами, которые она наделала (четырнадцать тысяч франков – по тому времени крупная сумма). Ему это безразлично! Гектор – истинный мушкетер.
Но, увы, героизма и любви недостаточно, поскольку ими не будешь сыт. Сражаться со шпагой в руке благородно, но существует еще и голод.
Ползать по земле, когда имеешь крылья! Проклятые материальные заботы! Жизнь к Гектору жестока и несправедлива. Но ничто не заставит его отказаться от брачных уз, к которым он стремится, от тех уз, что, возможно, еще усугубят его невзгоды.
Генриетта[66]66
С этого момента Гектор не звал свою невесту ни Офелией, ни Гэрриет, а Генриеттой.
[Закрыть] должна быть всем обязана ему, ему одному; мало того, она должна принадлежать только ему, принадлежать безраздельно. И, страстно желая принести жертву, которая бы его возвысила, он предлагает ей полученную стипендию, столь необходимую ему самому. Плевать! Что ему стоит обходиться без обеда! Если потребуется, он отдаст ей всю свою кровь до последней капли.
Браво, Гектор, однако на что будет он жить со своей Генриеттой? У них за душой ни су.
Тогда он уходит с головой в устройство торжественного вечера – бенефиса, это должно было уменьшить пыл кредиторов, осаждающих его избранницу. Во всяком случае, так он надеется.
Гектор призывает, уговаривает, донимает своих верных товарищей. Каждый обязан сделать все возможное для бенефиса, хотя он и так обещает быть успешным.
«Но, но, не торопитесь!» – вскричала, должно быть, злая судьба. И несправедливая, глупая судьба еще раз усеяла путь шипами.
1 марта
Генриетта, выходя из кабриолета возле ведомства изящных искусств, поскользнулась и сломала ногу.
Какая трагедия!
«Перелом большой берцовой кости!» – уточнил доктор, поспешивший к несчастной женщине, которая мучилась и кричала. А рядом с ним у изголовья кровати Гектор, как всегда без меры, рыдал, клял, угрожал и взывал к уже давно забытому богу.
Но для чего все эти слезы, брань и проклятья? Чтобы разыграть трагедию скорби? О нет, Гектор не был, конечно, лишен экстравагантности, но у него было и доброе сердце. И он это доказал. Воздадим ему должное!
Он осмыслил случившееся несчастье и поклялся, что оно не остановит его. В голове Гектора ни на миг не промелькнула мысль отступить. Он сделался самой внимательной и самой нежной сиделкой. Несмотря на бессонные ночи, лишавшие его сил, он неустанно продолжал хлопотать, чтобы заработать немного денег, немедленно превращаемых в лекарства. И как только микстура оказывалась у него в руках, он спешил, спешил принести ее своей раненой горлице.
Однако Генриетта невольно оказывалась виновницей постигших его треволнений, нищеты и отверженности. Отверженности? Да, он стал парией.
Из всей семьи Гектора ему писала одна Адель, да и то тайком от мужа, судьи Паля, фанфарона и любителя громких фраз, который все знал, обо всем высказывался с апломбом, пересыпая речь афоризмами.
Безобразная карлица, бесчувственная к благородному самоотречению Гектора, опасаясь, как бы он своей преданностью не завоевал окончательно сердце Генриетты, продолжала осыпать его насмешками, поносить и осмелилась даже грубо выталкивать его.
Родные Генриетты, которые жили далеко за морем, считали Гектора эпилептиком.
Ну и пусть! Он весь ушел в самопожертвование.
«Видеть ее страдающей, несчастной и ничего не сделать для нее? Никогда! Чем сильнее будет ее горе, тем больше я буду привязан к ней», – заявлял он.
Он сказал Феррану:
«Если даже она будет покинута небом и землей, я все равно останусь подле нее, такой же пылкий и такой же верный в любви, как и в дни расцвета ее славы».
И Лист, добрый Лист, писал графине д'Агу, в которую с недавних пор был влюблен: «Бедный Берлиоз, как ясно иногда я узнаю себя в нем! Он только что был здесь подле меня. Он плакал навзрыд в моих объятиях».
Искренность его чувства нашла подтверждение в том, что вскоре он подписал вторую просьбу о разрешении на брак, чтобы навсегда связать свою жизнь, устремленную к вершинам, с этой женщиной, которая опускалась все ниже.
2 апреля (в зале Фавар) состоялся бенефис Смитсон и Берлиоза.
Выручка – 6500 франков. После уплаты гонорара английским актерам и погашения нескольких неотложных долгов обоим бенефициантам остались лишь слезы утешения. И все же, хромая, страдающая женщина получила короткую передышку в денежных заботах.
5 июня
Третья просьба о разрешении на брак. Доктор Берлиоз отказывается принять этот документ, словно может таким образом что-то изменить. Уполномоченный министерский чиновник передает его горничной, открывшей дверь.
Гектор все так же постоянен. Но между ним и Генриеттой то и дело возникают шумные споры. Солнечное небо и согласие сменяются грозами и ссорами. А потом все начинается сначала.
1 августа уже казалось, что все кончено. Но и на сей раз между ними состоялось временное примирение[67]67
Может быть, именно на другой день после этой ссоры он написал Офелии: «Во имя сострадания (я не смею сказать любви) сообщите мне, когда я смогу вас увидеть. Я молю у вас пощады и прощения, молю на коленях и со слезами! Жду вашего ответа, как приговора судьи!» Какие слова!
[Закрыть].
Но уже в конце месяца, охваченный приступом отчаяния в разгаре новой ссоры, Гектор попытался в ее комнате покончить с собой. Жест, отмеченный романтикой, в которой он знал толк.
«Она упрекала меня в том, – писал он, – что я ее не люблю. В ответ, впав в отчаяние, я принял яд у нее на глазах. Душераздирающие крики Генриетты!.. Предел отчаяния!.. Мой жуткий смех!.. Желание вернуться к жизни при виде необыкновенных свидетельств ее любви!.. Рвотное… Ипекакуана!.. Меня выворачивало два часа! Осталось лишь два шарика опия… Два дня я был болен и выжил» (30 августа).
В самом деле, как могли они избежать столкновений? Они, такие разные даже в выражении нежности.
«Гром и молния! – писал в те дни Гектор. – Как мне сдержать себя? Мои ласки кажутся ей чересчур горячими… Я весь в огне и тем внушаю ей страх!.. Она ранит мое сердце, и меня охватывает ужас!..»
На гладь ледника извергалась бурная, огненная лава.
«Послушайте, – писал он в другой раз, – послушайте, что она ответила мне сегодня утром. «Not yet[68]68
Еще не время (англ.).
[Закрыть], Гектор, not yet, у меня еще слишком болит нога…» Но разве можно страдать, разве существует боль при опьянении страстью? Если в тот миг, когда она будет говорить о своей любви, мне всадят нож в самое сердце, я не почувствую удара!»
Жюль Жанен – верный друг Гектора – в конце концов встревожился. «Куда идет наш неистовый гений?» – спрашивал он себя; и как-то в присутствии их общих товарищей заявил, решительно подчеркивая слова ударами кулака по письменному столу: «Я спасу его, хочет он того или нет!»
И что же он сделал?
Он решил вышибить клин клином, изгнать любовь любовью. Но чтобы Гектор клюнул на приманку, требовалась любовь с ореолом романтики, где наш Дон-Кихот смог бы благородно приносить жертвы, или же любовь, где он играл бы роль спасителя и поборника справедливости; тут не годилась пошлая, обывательская интрижка без искры романтики.
И однажды Жюль Жанен представил Гектору девушку ослепительной красоты, но чем-то напоминающую несчастного, затравленного зверька. Она испуганно озиралась по сторонам, она боялась, что придут, схватят ее и вновь отвезут к истязателю. Ее история была печальна. Несчастное создание купил один старик, который обращался с ней, как с рабыней, и засадил в подвал, чтобы принудить поддаться его ласкам.
Но она – чистая и гордая девушка – ради спасения чести призывала смерть. История целиком в стиле Виктора Гюго того периода.
Узнав о подобной жестокости, Гектор плакал от жалости. Тогда Жюль Жанен предложил ему уехать с девушкой в Германию, где после Италии Гектору предстояло продолжить свое образование, – таково было обязательное требование, предъявляемое высшей администрацией при награждении Римской премией.
Точно неизвестно, проведала ли Генриетта об угрозе бегства своего возлюбленного. Возможно, что и так. Во всяком случае, она сказала, наконец, «да». Услышав об этом, Гектор едва не лишился чувств. А та, другая, мученица-спасительница исчезла.
Жюль Жанен щедро вознаградил «беглянку», согласившуюся добросовестно сыграть эту мелодраматическую роль, однако история ничего не говорит о том, узнал ли когда-нибудь Гектор об этом милосердном обмане.
30 октября
Наконец свадьба. Протестантское бракосочетание в английском посольстве. Среди свидетелей – двадцатидвухлетний красавец Лист, божественные пальцы которого будут околдовывать клавиатуру, сея восторженные чувства и вызывая преклонение по всей земле. Но никого из родных обоих супругов.
Товарищи Гектора в складчину оплатили расходы по свадьбе, а Тома Гоннэ одолжил своему дорогому другу 300 франков на первые семейные расходы.
Медовый месяц. Куда им уехать? В Грецию, где можно воскрешать в мыслях легендарное прошлое, бродя среди древних развалин, тревожащих душу? В Венецию, чтобы на ласковой лагуне, среди замков из лазури, мрамора и золота мечтать и грезить без конца?
Нет! Уединение было коротким и скромным – в Венсенне.
Чтобы открыться друг другу и понять друг друга, чтобы излить свою нежность и испытать блаженство, два человеческих существа стремятся к перемене места, уединению, покою. В безлюдном Венсенне, среди жалобного шепота теряющих листву высоких деревьев, Гектор и Генриетта нашли печальную, величественную и спокойную природу, гармонично сочетавшуюся с их новыми чувствами.
Осень в трепетной агонии разбрасывала свои таинственные меты по бесконечной ржавчине зыбких ковров. Все молчало, и все говорило.
Между влюбленными супругами ни тени диссонанса, полное слияние душ и тел. Вдали от непримиримой карлицы, от парижского шума и жестоких тревог Офелия расцвела. Теперь она наслаждалась, оценив сердце и гений Гектора. Они садились рядом на лужайке, еще покрытой изумрудной травой, и вечерними часами, когда все замирало в невыразимой неге, она нежно просила его напевать вальс из «Фантастической», чтобы вновь и вновь забыться и испытать восхищение.
И затем на берегу пруда или при луне, когда торжественная ночь, объявшая людей и предметы, изливала свою меланхолию, их настигал волнующий трепет.
«То был шедевр любви, – писал Феррану наш безумный романтик. – Разумеется, – добавлял он, – не много есть примеров столь необычного супружества, как наше…» «И такого счастливого», – мог бы он в то время добавить. Ему казалось, что все создано для его высшего счастья. Он восторгался оттого, что она добродетельно ждала, когда в ее жизнь войдет рыцарь, единственно достойный ее покорить.
Потому что эта женщина тридцати трех лет, актриса, которая, переезжая из города в город, часто встречала на своем пути искушения, сумела уберечь свое достоинство, свою чистоту. На следующий же день после свадьбы Гектор в порыве откровенности сказал Феррану: «Она была девственна, самая что ни на есть девственная, идеал девственности… Это сама Офелия – нежная, кроткая и застенчивая».
Офелия, Джульетта, Гэрриет, отныне вы госпожа Гектор Берлиоз. Более классическая, более земная, более французская. Тысячи опасных препятствий вставали перед Гектором, одержимым дерзким замыслом, но он в героической борьбе смог, наконец, завоевать вас… вопреки всему.
Мытарства закончены. Будьте же счастливы, господин и госпожа Берлиоз.
Однако сумеете ли вы быть счастливыми? Ведь счастье – это искусство.