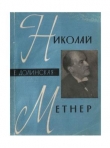Текст книги "Берлиоз"
Автор книги: Теодор-Валенси
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 25 страниц)
Гектор понял, что настал ответственный час в его жизни. Он с вдохновением работает. «В первые дни, – писал он своей сестре Адели, – эта поэзия заупокойного гимна опьяняла и возбуждала меня до такой степени, что на ум не пришло ни одной ясной мысли; голова моя кипела, все кружилось перед глазами. Сегодня извержение уже усмирено, лава прорыла себе русло, и теперь с божьей помощью все пойдет хорошо. А это – самое главное!»
Произведение закончено.
Музыка, устремленная ввысь, грандиозна и патетична. Картины фантастических видений. Чудесное произведение должно быть событием века.
«Человеческий род стонет, предчувствуя рассвет судного дня. Внезапно звучат трубы, возвещающие воскрешение, несметные сонмы мертвецов восстают из вековых могил; взывают к Христу души в чистилище, томящиеся в кровянистой грязи дантевских топей; в небе лучистые голоса, божественное сияние, песнь света…»[79]79
Адольф Бошо, Берлиоз.
[Закрыть].
Начались репетиции. Триста, может быть, четыреста исполнителей. Вскоре, по выражению Гектора, «все настроено как рояль Эрара». И вдруг – проклятие! Тысяча чертей! Выходит министерское постановление об отмене мессы в Доме инвалидов и замене ее обычной службой в нескольких парижских церквах.
Как решился Распарен пойти на подобное вероломство?
Нет, Гаспарен тут ни при чем, он уже не у власти. Министерство Моле – Гизо пало, и совет министров сам принял такое решение.
Чтобы войти в курс этой «министерской подлости», как назвал это Гектор, стоит прочитать его письмо отцу, с которым он теперь охотно переписывался.
«Господин де Монталиве[80]80
Господин де Монталиве заступил место господина де Гаспарена на посту министра внутренних дел.
[Закрыть] велел спросить меня, как он может возместить убытки, единственной причиной которых, как он заявил, были политические соображения. Я ответил, что в деле подобного рода невозможно возместить убытки иначе, как исполнением моего произведения.
«Журналь де деба» была раздражена. Арман Бертен направил Монталиве гневное письмо, которое я видел и лично передал. Но все без толку, все те же заявления: «таково решение совета министров и т. д.» и другие фарсы в подобном же вкусе.
Но это еще не все, мне следовало возместить расходы. Господин Монталиве признает их и не намерен отказываться от уплаты. Прежде всего четыре тысячи франков причитаются мне, затем три тысячи восемьсот за переписку нот и, кроме того, расходы за три репетиции хоров по частям. Ведь я готовился, и все шло как нельзя лучше – наслаждение было наблюдать за воодушевлением вокальных масс. К сожалению, мне не удалось дойти до генеральной репетиции, и поэтому я не смог даже ознакомить артистов с грандиозной партитурой, столь сильно возбуждавшей их любопытство. Такое поведение правительства я попросту называю кражей. У меня, крадут мое настоящее и будущее, потому что это исполнение имело бы для меня большие последствия. Ни один министр не осмелился бы во времена Империи вести себя подобным образом, а поступи он так, я думаю, что Наполеон отчитал бы его. Ибо, я вновь повторяю, – это явная кража.
За мной посылают, спрашивают, не пожелаю ли я написать это произведение. Я предъявляю условия (музыкальные), их принимают. Письменно дают обязательство организовать исполнение 28 июля. Я заканчиваю музыку, все готово, но дальше дело не пошло. Правительство считает возможным отречься от важной статьи заключенного со мной договора. Это же злоупотребление доверием, злоупотребление властью, подлость, мошенничество, грабеж.
Теперь я остался с самым крупным из когда-либо мной написанных музыкальных произведений, словно Робинзон со своей шлюпкой: отправить его в плавание невозможно – нужны большой собор и четыреста музыкантов…»
Если бы только против ненависти должен был бороться Гектор, это еще куда ни шло! Но была и глупость, которую ему нередко приходилось на себе испытывать. Вот деталь, достойная упоминания.
За свой замечательный «Реквием» Гектор получил медвежью похвалу от бравого генерала Лобо, воскликнувшего с искренним восхищением: «Боже мой! Как этот Берлиоз талантлив! И самое великолепное в его музыке – барабаны!» Барабаны! Разве барабан подтверждает гениальность? Несчастный генерал! Остается пожелать, чтобы в военной стратегии он разбирался лучше.
Так обрушилось огромное здание, а с ним развеялась и великая мечта.
Шли месяцы. Гектор был раздражен, но чужд разочарованности и уныния. Он не падал духом никогда. Впрочем, однажды тяжелая, мрачная завеса окутала его душу: в покое и славе умер добрый учитель Лесюэр.
В смятение и ярость на время вкрались тяжкие раздумья и скорбь.
Депеша из Тулона сообщила (22 октября), что Константина взята, но генерал Данремон[81]81
Шарль-Мари-Дени Данремон (1783-1837) – французский полководец, генерал-губернатор Алжира. Возглавлял экспедицию против алжирского города Константины, был убит перед его взятием.
[Закрыть] с несколькими солдатами «пал героический смертью» при взятии города». Король приказал захоронить останки генерала в Доме инвалидов и провести траурную церемонию.
Теперь вновь предоставим слово Гектору.
«Я начал уже терять терпение, – писал он, – когда однажды вечером, выходя из кабинета господина X, после оживленной дискуссии с ним по поводу моего „Реквиема“, я услыхал выстрел пушки Дома инвалидов, возвестившей о взятии Константины. Спустя два часа за мной прислали с просьбой спешно вернуться к министру. Господин X. нашел способ отделаться от меня. По крайней мере он так думал… Торжественная служба должна была состояться в соборе Дома инвалидов. Церемонией распоряжалось военное министерство, и генерал Бернар, возглавлявший его в то время, согласился на исполнение моего „Реквиема“. Такова была неожиданная новость, которую я узнал, придя к господину X.».
Гром небесный!
«На сей раз я должен победить! – воскликнул Гектор перед своей гвардией, собравшейся на высший военный совет. – Сомневаться означает отступить; отступить – значит не оправдать надежд. Вперед! Наши враги будут повержены в прах!» И после этой воинственной тирады он до изнеможения хлопочет и готовит сообщения для печати, чтобы создать благоприятную почву и попытаться убедить Париж, что совершится чудо[82]82
Гектор часто ради успеха своего предприятия прибегал к помощи своего друга Александра Дюма, тогда секретаря герцога Орлеанского.
[Закрыть].
4 декабря – генеральная репетиция, а на следующий день – публичное исполнение.
«В четверть первого дня, наконец, началась церемония. Принцы – сыновья короля, дипломатический корпус, палата пэров и палата депутатов, кассационный суд и сводный корпус из всех родов войск, штаб Национальной гвардии – пестрая разряженная толпа, сверкающая золотом среди огромных черных драпировок. Тут и там, желая быть на виду, сверкают драгоценностями, суетятся и шуршат нарядами модные парижанки. „Панихида, – писали газеты, – привлекла весь Париж – Париж Оперы, Итальянского театра, скачек, балов г. Дюпена и раутов господина Ротшильда“[85]85
Адольф Бошо, Берлиоз.
[Закрыть]. Собравшиеся не сводили глаз с герцогов – Орлеанского, д'Омаля и де Монпансье.
«Реквием» – эта великая месса, способная пробудить мертвых», – был настоящим шедевром, сотворенным гением.
Первые же звуки предвещали успех, и Гектор думал: «Победа! Победа принадлежит мне!» Однако не торопись, Гектор! Чтобы вынести приговор, ты должен дождаться конца! И действительно, поступок редкого вероломства внезапно поставил под угрозу весь огромный успех. К счастью, Гектор бдительно следил за исполнением, готовый броситься в оркестр. Кто виноват? Сам дирижер Габенек, фанатичный поклонник Керубини.
Гектор писал в «Мемуарах»:
«Когда должна была прозвучать „Tuba mirum“[86]86
«Труба предвечного» (латин.).
[Закрыть] – в тот кульминационный момент, когда руководство дирижера абсолютно необходимо, – Габенек опускает палочку, спокойно достает табакерку и собирается взять понюшку табаку. Я непрерывно поглядывал в его сторону; в тот же миг я быстро повернулся и, оказавшись перед ним, протянул руку и обозначил четыре такта нового темпа. Оркестранты идут за мной, все приходит в порядок, я веду эту часть до конца, и тот эффект, о котором я мечтал, достигнут. Когда при последних словах хора Габенек увидел, что «Tuba mirum» спасена, он сказал мне:
– Я весь покрылся холодным потом. Без вас мы бы пропали.
– Да, мне это хорошо известно, – ответил я, пристально глядя на него.
Я не добавил больше ни слова. Сделал ли он это с умыслом? Возможно ли, чтобы этот человек сообща с господином X., который меня ненавидел, и с друзьями Керубини посмел замыслить и попытался совершить столь низкое злодейство? Я не желал бы этого думать, хотя и не могу сомневаться. Да простит мне бог, если я к нему несправедлив».
Очевидно, что заговорщики не останавливались ни перед какими преступлениями. И все же «Реквием» имел триумфальный успех; несмотря на все происки, его исполнение завершилось в атмосфере всеобщего восторга. После этого кюре собора Дома инвалидов совершил богослужение, а парижский архиепископ дал отпущение грехов.
Так, несмотря на все трудности, интриги и злодеяния, Гектор заставил исполнить свой «Реквием». Вопреки всему!
Огромное большинство газет признало, что сочинение превосходно.
«Исполнение в целом замечательно, – писала „Монд драматик“. – Это произведение ставит Берлиоза в первый ряд среди композиторов духовной музыки, перед таким сочинением врагам Берлиоза остается молчать и восхищаться».
В «Котидьен» д'Ортиг писал: «Гектор Берлиоз усвоил не только духовный колорит, но и традиции христианского искусства.
«Реквием» можно рассматривать как исторический итог музыкальных традиций».
Вот мнение Ги де Пурталеса о «Реквиеме»:
«Крушение мира», «музыкальный катаклизм», где этот безбожник сумел изобразить видения неба и шекспировского, дантова ада… Человек здесь выглядит атомом во вселенной. «Requiem» и «Kyrie», «Dies Irae"и „Tuba mirum“ – скульптурные фризы, оркестрованный „страшный суд“ и как бы призыв того последнего дня мира, когда должна дрожать земля, рушиться цивилизация, женщины-рабыни протягивать с мольбой руки к тирану до тех пор, пока не явится Спаситель рода человеческого. После „Дароприношения“ – „Sanctus“: подъем из глубин на свежий воздух под лазурное небо и к золоту рая, где в окружении ангелов правит всевышний. И в заключение „Agnus Dei“ – вечное блаженство…
Не то чтобы Берлиоз прославлял здесь веру, которая ему чужда. Для него это было просто выражением «красоты христианской религии», к которой Берлиоз, как художник, всегда был горячо восприимчив…»
И вот, наконец, что писал сам Гектор в письме Феррану:
«Люди с самыми противоположными вкусами и привычками были под потрясающим впечатлением. Кюре собора Дома инвалидов после церемонии четверть часа прорыдал в алтаре; продолжая рыдать, он обнимал меня в ризнице. При звуках „страшного суда“ ужас был неописуем; с одним из хористов случился нервный припадок. То было воистину устрашающее величие».
Морель в «Журналь де Пари» также без оговорок восхвалял это чудесное произведение. И наконец, самая высокая похвали – от военного министра, сделавшего Берлиозу заказ:
«6 декабря 1837 года
Сударь!
Я спешу засвидетельствовать вам полное удовлетворение, полученное мною от исполнения «Реквиема», автором которого вы являетесь, только что пропетого на заупокойном богослужении по генералу Дамремону.
Успех этого прекрасного и строгого сочинения достойно отвечал торжественности случая, и я доволен, что смог дать вам эту новую возможность блеснуть талантом, ставящим вас в первый ряд наших композиторов духовной музыки.
Примите, сударь, уверение в моем совершенном почтении.
Пэр Франции, военный министр Бернар».
И наконец, завершающее звено: объявляют, что правительство попросило Шлезингера изготовить партитуру для государства. Таким образом, «Реквием» будет «национальным достоянием». Объявляют также о предстоящем возведении Гектора в титул кавалера ордена Почетного легиона.
Но это не все!
Гектору обещают еще место профессора Консерватории и пенсию в четыре с половиной тысячи франков из фонда изящных искусств.
– Следовало бы в Королевском парке воздвигнуть статую Берлиоза из благородного металла, – иронизировали его враги, в которых ненависть бурлила, словно раскаленная лава.
Другие спрашивали:
– Почему бы не причислить его к лику святых? Но все добавляли:
– Подождем. Посмотрим, что будет дальше! Хулители, раздираемые завистью, не считали себя побежденными.
«Конститюсьонель» сравнивала Берлиоза с Виктором Гюго:
«Он сочинил симфонии, где можно найти все, что угодно: паломников, колдунов, разбойничьи оргии, хороводы, шабаши, сцены на Гревской площади, наслаждения сельской природой, радости чувствительной и целомудренной души, благодеяния, библейские добродетели, пространство, бесконечность, геометрию и алгебру – одним словом, все, исключая музыку».
«От Бетховена до Берлиоза, – утверждала „Шаривари“, – столь же далеко, как от хаоса до сотворения мира».
Газета «Корсар» писала: «Церемония в Доме инвалидов обошлась в семьдесят тысяч франков. Мы надеемся, однако, что на сей раз за слезы не была дана взятка».
«Вчера в Доме инвалидов, – заявила „Шаривари“, – „Реквием“ уплывал в воздух одновременно с нашими бедными денежками».
«У нас была весьма любопытная штука, – писал Адан своему берлинскому корреспонденту Спикеру 11 декабря, – погребальная месса Берлиоза… Участвовало четыреста музыкантов, и на это ему выделили двадцать восемь тысяч франков. Вы не можете себе представить ничего подобного этой музыке; к большому оркестру были присоединены двадцать тромбонов, десять труб и четырнадцать литавр.
Так вот, все это не производило ни малейшего эффекта; и тем не менее вы увидите, что все газеты, за небольшим исключением, провозгласят эту мессу шедевром. И все оттого, что сам Берлиоз – журналист; он пишет в самой влиятельной из всех газет – «Журналь де деба», а все журналисты поддерживают друг друга».
И вскоре сказалась вся сила контратаки, предпринятой недругами Гектора.
Управление изящных искусств восприняло удивительный успех «Реквиема» как пощечину и попыталось отомстить, сыграв на постоянной стесненности Гектора в средствах:
«И вот я покамест ничего не получил, – писал он отцу. – Военный министр (честный и достойный человек) передал мне десять тысяч франков, предназначенных для уплаты за исполнение моего произведения, так что сейчас уже всем заплачено, за исключением меня, потому что, к несчастью, я имею дело с министром внутренних дел. Вчера я отправился в управление, чтобы устроить там сцену, какой я думаю, никогда не видывали в подобном месте. Я велел сказать господину де Монталиве через его начальника отделения, что мне было бы стыдно так обращаться с моим сапожником, как он вел себя со мной, и что если мне не заплатят в самый короткий срок, то я расскажу обо всех подлых махинациях, проделанных со мной в министерстве, с тем чтобы дать газетам оппозиции обширный материал для скандала. Очевидно, перед исполнением «Реквиема» хотел*и аннулировать решение господина де Распарена и потому «распорядились» моими четырьмя тысячами франков, а попросту говоря, украли их. Тысяча пятьсот франков вознаграждения исчезли из памяти начальников управления изящных искусств, сейчас они говорят, что это было «недоразумением». Никогда еще не видывали шайки более законченных воров и прохвостов. Но мне заплатят, тут нечего волноваться, это всего лишь задержка. Они слишком боятся прессы. Мне говорили об ордене к королевскому празднику в мае. Посмотрим, устроят ли еще одну мистификацию. Впрочем, это меня заботит меньше всего».
«Корсар» же поместил иронический рассказ под заглавием «Четверть часа Раблэ, или цена похоронной мессы».
В нем участвуют министр и композитор. Первый по принуждению приносит поздравления. Тогда второй представляет свой счет:
«За изготовленную и поставленную мною, Гектором Берлиозом, мессу со ста пятьюдесятью литаврами, сорока рожками, шестьюдесятью турецкими колокольчиками, ста валторнами, восемьюдесятью барабанами и тремястами трубами (общим весом две тысячи фунтов меди), включая поставку, по твердой цене, наличными, считая без скидки, причитается 18 000 франков.
– Восемнадцать тысяч франков?! Да вы шутите, мой дорогой! – вскричал министр.
– Я не способен на это, монсеньер.
– Восемнадцать тысяч франков – за вашу кухонную утварь?!
И поскольку министр отказывался уплатить по счету, композитор сказал:
– Тогда не сочтите за обиду, что я выскажусь в фельетоне в «Деба» о том способе, каким вы поддерживаете искусство!
– Милый друг! Что вы, что вы? Успокойтесь! Вам нужно именно тридцать шесть тысяч франков? Вот чек на Жерена. Мы возьмем эти деньги из сумм, предназначенных на одеяла для бедных, которые собирались раздавать зимой. Ох уж это искусство!!!»
18 февраля скончалась мать Гектора.
После бесконечных хлопот и угроз вознаграждение все же было выплачено; Керубини и служившее ему ведомство были повержены. Однако с тех пор во всем Париже шла подготовка к бою. Были призваны в ополчение злобные ненавистники, задетые «Деба»: завистники и весь этот жалкий мир жил лишь ради блестящего реванша, жестокого и беспощадного. Все они вербовали сторонников, словно в выборной кампании, и распространяли желчь, как распределяют хлеб или молоко.
Пора было покончить с «самозванцам». – Не объединились ли все эти ядовитые змеи? Гектор не получил ни ордена Почетного легиона, ни места профессора в Консерватории, ни пенсии в 4500 франков из фонда изящных искусств.
Ничего, ровно ничего!
Дон Базилио снова торжествует.
Гектор хорошо понимал, ясно осязал ту коварную кампанию, что проводили против него и днем и ночью, но она не пугала его. Он видел в ней подтверждение своей выдающейся роли в музыкальном мире, и потому его лишь развлекали подобные выпады злопыхателей.
– Вы предрекаете самое худшее, – бросал он своим желчным врагам, удваивая их ненависть. – А мне это безразлично! Я поднимусь выше всех, и мои заслуги только увеличатся, если вместо пистолетов вы отныне возьметесь за пушки! – Пауза для большего эффекта, а затем раздельно: – Запомните хорошенько: на своем пути я сломаю любое сопротивление.
И если некоторые керубинисты осмеливались возражать ему: «Не играйте с огнем, вы можете скоро об этом пожалеть», – то Гектор пренебрежительно пожимал плечами.
Но, увы, готовилось большое, жестокое поражение, подлинный разгром, который позже назовут исторической несправедливостью. Ряды врагов Гектора росли. Милая публика, приведенная в смятение и обманутая, та публика, что властна определять успех или поражение, еще продемонстрирует свою враждебность к буйному Гектору – его считают одним из прислужников Бертена, повсюду посаженных их вожаком. Борьба не на жизнь, а на смерть – жажда победы, пусть даже ценой гибели гения.
«Довольно их наглости и своеволья! Хватит высокомерия и бахвальства! Долой Берлиоза и его Бертена!»
Посмотрим, добьются ли они своего.
1838Год «Бенвенуто Челлини»[88]88
В то время Возрождение и средневековье были в моде.
[Закрыть] по либретто Огюста Барбье и Леона де Войн (последний заменил Альфреда де Виньи). Первые неприятности: в мае Гектор получил высокую должность в Итальянском театре, который пользовался хорошей репутацией и привлекал много парижской публики.
Враждебная пресса немедля начала утверждать, будто Гектор испросил подобную милость для того лишь, чтобы ставить на этой сцене оперы мадемуазель Бертен, столь плачевно провалившейся со своей «Эсмеральдой».
Проберлиозовская «Газет мюзикаль» немедленно парировала:
«Руководство Итальянским театром только что предоставлено на пятнадцать лет нашему сотруднику г. Берлиозу. Одна четкая статья категорически запрещает исполнение на сцене Итальянского театра произведений французских авторов. И потому некоторые газеты лишь для красного словца обвиняли министра в предоставлении сей привилегии мадемуазель Бертен, поскольку дочь владельца „Журналь де деба“ никак не сможет написать оперу для этого театра в течение всего времени руководства г. Берлиоза».
Так или иначе, но Артур Кокар, сведущий биограф Берлиоза, не мог поручиться, что последний оставался у власти хотя бы пятнадцать дней и, во всяком случае, что он имел время составить акт о принятии директорства.
Почему? Клевета приносила плоды.
Второе разочарование было мучительным; оно останавливало взлет творческой мысли Гектора, хуже того – сеяло у композитора сомнение в собственном таланте.
Гений неповторим, талант приспосабливается к обстоятельствам. Итак, гений – свободный полет, талант – оковы. Итак, гений – безумен, талант – мудр. Но, увы, часто даже посредственный талант опережает гения; первый слепо подчиняется канонам и традициям, тогда как второй, сознавая свое превосходство, стремится возвыситься над ними.
Гектор насмехался над талантом. От таланта, считает он, слишком несет свечкой. Он ощущал себя существом исключительным, стоящим выше музыкальных законов, подобных цифрам, которые складывают для получения точного итога; он презирал своды тех правил, что обуздывают вдохновение – райскую птицу, порхающую в краях, ведомых ей одной, И вдруг мучительный провал поколебал его уверенность.
Настал злосчастный день 10 сентября: зал Оперы напоминает поле битвы э час, когда воины готовятся к бою. Словно восемь лет назад на великой премьере «Эрнани», зрители, заняв свои места, едва открылись двери, обмениваются взглядами; одни бросают вызывающе: «Посмотрим, посмотрим!», другие спрашивают: «Триумф или же полный крах?»
Равнодушных нет. Ведь уже в течение многих недель ежедневно разжигают страсти статьи, которые либо курят Гектору фимиам, либо смешивают его с грязью.
По Парижу ходит гнусный памфлет на Гектора, подписанный Жозефом Мензе, а Фредерик Сулье в «Деба» вещает о том, что Гектор должен занять место в ряду гениев музыки.
Уже недели имя Гектора у всех на устах. Знаменитый Дантан[89]89
Дантан – французский скульптор и художник (Прим. переводчика).
[Закрыть] только что написал его портрет в «Кругу современных знаменитостей», среди самых великих людей: Бальзака, Паганини, Галеви, Александра Дюма, Виктора Гюго. Этот портрет-шарж был выставлен на всеобщее обозрение.
Торжественный, патетический момент: спектакль начинается, все взгляды прикованы к поднятой дирижерской палочке. Несется несколько чарующих звуков, затем поднимается занавес. Увертюра вызывает восторг публики – и та разражается долгими аплодисментами.
Заволновавшиеся керубинисты спрашивают друг друга: «Неужели сюжет настолько вдохновил Гектора Берлиоза, что увеличил его возможности и преобразил саму его природу?»
Неужели пропадет даром вся поднятая шумиха?
В самом деле, как странна и противоречива личность Бенвенуто, панского ювелира! Весьма подходящая фигура, чтобы воспламенить трепетный романтизм Гектора. Бенвенуто весь пронизан героизмом, искусством и гениальностью, мятежным духом против установленных правил и любовью к смелым странствиям. Всю жизнь между преступлениями он лепил и высекал скульптуры. Так же, кая Франсуа Вийон между двумя злодеяниями, сулившими ему виселицу, сочинял стихи, где мелодично сочетались нежность и скорбь.
После поры убийств, разгула и поразительных подвигов Бенвенуто был заключен в форт Санто-Анджело за кражу золота и драгоценностей из папской казны во время осады Рима бурбонским коннетаблем. И, однако, в суровые часы нападения врага он покрыл себя славой, защищая родину.
И вот благодаря кардиналу де Ферраре я покровительству Франциска I он выпущен на волю.
Этот король-артист, друг Леонардо да Винчи, приглашает его во Францию, где вскоре щедро осыпает необычайными милостями, предоставив ему годовую пенсию в 900 золотых экю, пожаловав гражданство, почетный титул сеньора дю Пети-Нель и в пожизненное владение замок того же имени. И это вору и убийце – завидная судьба!
Но, вечно живя в состоянии возбуждения, Бенвенуто так и не сумел снискать доброго расположения герцогини д'Этамн, в конце концов объявившей ему войну. И он должен был уступить дорогу Приматиччо. Но не стоит печалиться о нем, так как по возвращении во Флоренцию он немедля получил достойную компенсацию: покровительство герцога Козимо Медичи, для которого он создал в числе других свою знаменитую бронзовую статую Персея. Все сильные мира умели входить в сделки с гением, вселившимся в этого разбойника. На склоне лет он написал «Мемуары», где цинично выставил напоказ свои причуды, пороки и преступления, и читателя потрясает такое повествование – неисчерпаемый источник для писателя и композитора.
Но возвратимся в театр.
У смутьянов беспокойство сменяется тревогой, потому что публика продолжает внимательно слушать и аплодировать.
Но нет, вы не проиграли этой партии. Повремените, господа заговорщики.
«Продолжение плачевно… Посредственные декорации, затем первая, тривиальная сцена, изобилующая разговорными выражениями: „Моя трость и моя шляпа…“, „Я буду словно леопард…“ – короче, плохое впечатление, потому что подобная фамильярность в Академии музыки не допускалась. Первые протестующие выкрики. Изысканная публика необъяснимо застенчива. Я вспоминаю, как на премьере „Намуны“ деликатных зрителей возмутила картина праздничной ярмарки. В тот момент, когда трубы выдували сверкающие звуки, раздался общий вопль негодования. Я и сейчас еще слышу, как чрезвычайно элегантный молодой человек из первой ложи, которую я мог бы указать, в конце первого акта выкрикнул пронзительным голосом этакую презрительную фразу, долетевшую до половины партера: „Интересно бы знать, в Опере мы или на ярмарке в Сен-Клу?“[90]90
Артур Кокар, Берлиоз.
[Закрыть] Да, публика 1838 года не принимала трости и шляпы папского золотых дел мастера. Опера началась неудачно. А можно утверждать, что в девяти с половиной случаях из десяти, если начало спектакля проходит плохо, то он бесповоротно провалится. Публика – существо в высшей степени нервное и впечатлительное, ее трудно повернуть вспять. Прежде чем окончилась первая картина (всего их было четыре), поэма была обречена.
Что музыка? Если терпит крах либретто, оно тянет за собой и партитуру. Одним словом, топанье, свист… Потом вдруг вопли, звериный пой, шутовские выкрики… все вплоть до чревовещания[91]91
«Денди испускали куриное кудахтанье, другие подражали Полишинелю, иные жужжали, как трутни» (Адольф Бошо).
[Закрыть]. Сам Дюпре пел неуверенно, его товарищи были этим деморализованы…
Словом, битва была проиграна! Похороны по первому разряду[92]92
На премьере присутствовали специально вернувшийся в Париж Мейербер и Спонтини. В королевской ложе видели брата испанской королевы дона Франциско де Пауле в окружении принцесс.
«Никто не слушал эту волшебную музыку, изящную и сверкающую всеми оттенками, взятую из жизни. Не замечали ни хоров, насыщенных редкими интонациями и неожиданными ритмами, ни чарующей легкости и свежести оркестра. Никто, казалось, не оценил выразительности столь живописного римского карнавала, ярко нарисованного художником, чередовавшим народные песни с романсами Субияко и сальтарелло, струнного квартета в полутонах со смелыми и новыми сочетаниями духовых инструментов» (Ги де Пурталес).
[Закрыть].
В действительности основным виновником этого невероятного провала был Дюпре, о чьих подозрительных связях с врагами Гектора стало известно задним числом.
Согласимся, что либретто, может быть, и содержало слишком много реалистических деталей. Обычай требовал, чтобы опера была отмечееа благородством, а тут говорилось о будничных вещах. Произведение запятнали простолюдины и тривиальность. Слишком материально, слишком весомо, чересчур точно. Беллини справедливо говорил: «Текст оперы хорош, только если он лишен точного смысла».
Но разве музыка своей красотой не сглаживала такой недостаток?
Каковы бы ни были причины, результатом была полная катастрофа!
Бесконечные для Берлиоза часы… Крики, смех, редкие аплодисменты во враждебно настроенном зале… Вся его жизнь внезапно разбита… Пятнадцать лет борьбы, труда, таланта – ив завершение шумное, страшное падение. Конец всему…
После спектакля принято объявлять имя автора. Объявлять ли? Его друзья смело требуют этого. Протесты, свист… Имя Берлиоза тонет в общем шуме»[93]93
Адольф Бошо, Гектор Берлиоз.
[Закрыть].
– Неужели их сообщник… – Но богохульство застряло у него в горле.
Хотя Гектор и похвалялся своим безбожием, в нем неосознанно жила вера.
Послушаем, однако, что говорила пресса. На сей раз воздадим ей должное. Огромное большинство газет протестовало против этой чудовищной несправедливости. Оставив в стороне посредственное либретто, печать славила достоинства страстной, яркой, проникновенной музыки, мощной оркестровки. И, несмотря на провал, осмелилась утверждать: «Это шедевр!»
В «Журналь де Пари» Огюст Морель заявил, что музыка, которой он восхищался, подавляла посредственное либретто «всем весом своего огромного превосходства».
Морель в «Котидьен» писал, что опера «Бенвенуто» стоит того, чтобы публика принимала ее всерьез, судила о ней вдумчиво и не выносила ей приговора после первого исполнения».
Теофиль Готье высказался так: «Большая предвзятость едва ли возможна».
Лист утверждал, что эта музыка была явно лучше тех произведений, что имели блестящий успех в ту же пору[94]94
Лист, которого не было в Париже во время спектакля, писал одному своему товарищу:
«Я узнал сегодня вечером, что опера Берлиоза не имела успеха. Бедный друг! Судьба очень жестока к нему. Боюсь, что этот провал очень его опечалит. Слышали ли вы партитуру? Наверняка там есть и прекрасные места. Какая победа всех злобных бездарностей, что шатаются по вашим бульварам! И что всего более нестерпимо в его неудаче, так это заносчивость стольких ничтожеств, которые еще за полгода ее предсказывали. Так или иначе, но Берлиоз все равно остается самым сильным музыкальным мыслителем Франции. Рано или поздно он оправится от этого временного поражения, большая доля которого, по всей видимости, падает на авторов либретто».
Позднее, став директором театра и дирижером в Веймаре, Лист употребил весь свой высокий авторитет на то, чтобы открыть миру красоту оперы «Бенвенуто», музыкальные достоинства которой никогда не переставали превозносить беспристрастные умы. Он провозгласил: «Бенвенуто Челлини» – самое крупное, самое оригинальное произведение музыкально-драматического искусства, созданное за последние двадцать лет». И особенно важно, по мнению Листа, то, что к тому времени уже появились на свет «Вильгельм Телль», «Гугеноты» и «Пророк».
[Закрыть].
О чем кричали враги, авантюристы пера?
«Шаривари» писала, что опера «Бенвенуто» была навязана дирекции нашего первого музыкального театра приказом управления внутренних дел и канцелярией его величества короля Бертена I».
В «Карикатюр провизуар» литография Рубо изображала автора «Мальвенуто Челлини»[95]95
Каламбур: по-итальянски benvenuto – желанный, malvenuto – нежеланный. (Прим. переводчика.)
[Закрыть].
Театральная газета «Псише» взамен отчета посвятила опере лишь одно слово: «Увы!»
«Королевская академия музыки
«БЕНВЕНУТО ЧЕЛЛИНИ»
Увы!»
Но если дилетанты – россинисты или керубинисты – ликовали при чтении этих пасквилей, то защитники Гектора неослабно продолжали восхищаться «Венвенуто».
Гектор впервые почувствовал себя обиженным жизнью, он считал этот провал совершенно незаслуженным.
Он писал Феррану: «Описать те происки, интриги, распри, споры, битвы, брань, которые родило мое произведение, невозможно».
И верно, никогда еще разгул низких страстей не достигал такой силы, справедливость была забыта.
Нужно уметь сносить несправедливости, Гектор, до того дня, покуда не станешь достаточно сильным, чтобы чинить их самому, а потом нужно быть достаточно благородным, чтобы их не допускать.
Утешься, Гектор, в былое время, когда был исполнен в Опере «Демофон», твой торжествующий ныне недруг Керубини испытал столь же большой провал (хотя против него и не чинили козней)[97]97
Среди более поздних музыкальных шедевров, чьи провалы, вызванные гнусными кознями, прослыли историческими, перечислим оперы «Тангейзер» Рихарда Вагнера и «Кармен» Жоржа Визе, который, как говорят, умер от этой душевной травмы. Отдельный человек мыслит, публика слепа, жестока и несправедлива. Добавим что «Совильский цирюльник» при первой постановке также казался неудачей. Однако время очищает от ненависти и предубеждений; покоренное гением, осветившим эти выдающиеся произведения, оно реабилитировало «Бенвенуто Челлини», как и «Тангейзера», «Кармен», «Цирюльника».
[Закрыть]. А с тех пор…
Однако нужно ли призывать Гектора к мужеству? Он повержен, на миг смущен, но вое равно непоколебим, он никогда не отречется от борьбы, он никогда не согласится стать на колени.
Некоторые только и мечтали его извести, уповая на то, что он бросит сочинять музыку. О, как мало они его знали! Музыка – это он весь, весь безраздельно.
И в самом деле, вскоре, собравшись с силами, он воскликнул:
– Тысяча чертей! Вам меня не одолеть! Я еще поборюсь! И я восторжествую… вопреки всему!
И вот.
16 декабря,
как бы бросая вызов, он снова дал концерт, где были исполнены «Гарольд» и «Фантастическая». Разумеется, чтобы отвести удар, он должен был мобилизовать боевой строй поэтов – своих постоянных приверженцев, готовых защищать и атаковать, но факт остается фактом – он добился весьма убедительного успеха.
Во время «Гарольда» публика сосредоточенно внимала пилигримам, и казалось, будто раздаются их ритмичные шаги по земле; паломники в нежных сумерках пели вечернюю молитву, а потом пифферари[98]98
Pifferaro (итал.) – игрок на дудке.
[Закрыть] наигрывали серенаду, от которой таяли сердца; публику восторгал бурный финал, где разгулявшиеся разбойники искали в оргжях смелости и забвения. Публика тепло аплодировала ритмичным фантазиям «Фантастической симфонии», богатству мелодий, переполнявших Гектора, тем находкам оркестровки, что несли печать их гениального ваятеля.
Но что это вдруг произошло?
Раскаялась ли судьба, устыдившись своего злодеяния?
Случилось событие, которое действительно имело в жизни Гектора решающее значение, поскольку принесло ему одновременно и значительную материальную поддержку и музыкальный приговор ни с чем не сравнимой ценности. Спасение у самого края пропасти.