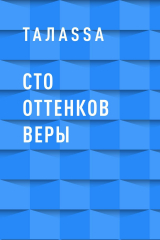
Текст книги "Сто оттенков Веры"
Автор книги: Талаssа
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 6 страниц)
… Сеновальная трава стояла колом.
Комом в горле.
Горе.
Будто бы она враз лишилась веса и не могла примять его, сено, голыми коленками и длинными голенями.
Сено – противное!
А она – беловолосая, тоненькая, полупрозрачная, со странными сизыми глазами. Мало кто мог долго смотреть ей в глаза. Да она и не поднимала их. Почти никогда.
Сено как колется, невыносимо!
Она попереступала коленками, лёгкая, почти не продавив сухой травы.
Коротко вздохнула, но плакать не стала: Он не разрешал реветь, когда вздумается, дисциплинировал. Да и не смогла бы: словно уже не могла получить на это разрешение…
Сено так и продолжало впиваться – чем дальше, тем больнее, хоть, вроде бы, должно быть наоборот.
Часа два назад весь дом пришел в какое-то дурное, громкое и горестное движение. Обычно тихий, теперь он захлопал всеми дверьми (или это были окна?), затопал внутрь всеми сапогами (или это – такие тяжелые ботинки?), наполнился говором – вопросительным, приказным, не терпящим безответствия!
Входили и выходили.
Свои и чужие.
Садились и вставали.
Выдвигали, скрипя, ящики комода, шуровали тут и там, по корешкам книжек на этажерке старенькой прошлись, на полки в шкафу позаглядывали.
Зачем-то трогали гирьки ходиков и, походя, скомканное, на лавке, полотенце.
Пили вчерашнюю (сегодня она не ходила к колодцу) воду из капающего на половик ковшика.
Спрашивали.
Она отвечала. Не сразу отвечала, подумав. Кажется, точно. То, что помнила. Честно. Он отучил её лгать: это было просто сделать. Если знать – КАК.
…У нее зарябило в глазах: тот, кто спрашивал, сидел у распахнутого окна, за окном – богатый куст шиповника, без цветов пока, конечно: месяц май. И – сильный ветер, яркое, жёсткое, прямое солнце близкого вечера.
Ветки беспрерывно качались. Она смотрела на того, кто спрашивал, и на куст – одновременно. В глазах от этого прямо заломило, всё стало расплываться. Она поняла, что вот-вот расплачется. Но сдержалась, снова сдержалась. «Плакать ты станешь потом, когда будет на то серьёзная причина», – говорил Он ей когда-то. Она очень хорошо помнила это.
И говорил это голосом, который был… был… голос был – как… как синий бархат! Да, как синий бархат.
Они вместе смотрели фильм с таким названием в день её рождения.
Она тогда смотрела, почти не дыша.
Не помня себя, не слыша ничего, кроме неразборчивых звуков с экрана.
Не ощущая ничего, кроме охвата новенького ошейника и стальных прикосновений наручников, сидя в которых смотрела фильм.
От начала и до конца.
1.
REC:
###
«А вот теперь ты оценила не только невыносимую пошлость и скуку почти всего “обычного” окружения – но самую глубину её!
Будто когда-то брошенный в колодец камень только теперь отдал звук своего приземления. И сопоставив время со скоростью, ты поняла это расстояние. Не на бумажке нарисованные цифры – с присобаченными в конце (на выбор) “км”, “миль”, “парсек”. Не то, что можно ощутить – порывом ледяного воздуха, пробегом единственного облака на ветреном закате или захлопыванием рта росянки вокруг глупой мухи. И совсем не такое, о котором можно легко сказать – пусть и самой себе.
И сразу же – будто наткнувшись открытым глазом на острый сучок в полном тьмы чужом парке – ты поняла, что не хватало малости, чтобы сложить небольшой пазл собственной судьбы.
Вернее, понять – что вообще с ней и зачем она тебе.
Гекуба ужасна. И вид ее – пошлость.
А подчинение – на этом свете – не для тебя!»
…
Намёки раздавались щедрыми Парками – повсеместно и каждовременно.
Это ведь ты схватила самый длинный из кухонных ножей, когда отец (в твои 12 лет) попробовал – только попробовал – замахнуться на тебя во время дурацкой ссоры. Нет, ты ничего не сделала дальше, ни одного движения – просто держала этот нож, но он опустил руку, заметно смутился и больше никогда не угрожал, даже голоса не повышал.
Это ты, начиная с 16-ти, сама и только сама выбирала себе мужчин (естественно, делая так, чтобы никто из них даже не заподозрил, что выбор этот – не его). Пара “опытов” подчинения стороннему выбору вспоминаются как смешные и нелепые штуки – вроде небольного падения на задницу на ровном месте, где-нибудь посреди Невского, славным летним днём!
Это же тебе, признайся, в самой глубокой и острой из твоих влюбленностей, больше всего нравился такой вот момент. Ты приходила в его маленькую квартирку. Звонила. Он открывал тебе дверь. Высоченный и мощный, молча обхватывал тебя за бёдра, подымая и прижимая к себе, вносил в прихожую. Ставил на низкую обувницу (простенький такой, бабушкин, в полметра высотой, а шириной как раз в ступню и еще немного). Ты прижималась к стене, а он вставал на колени и начинал медленно снимать с тебя обувь. Да, особенно зимой: чуть обтряхнуть сапожки от снега, медленно тянуть вниз длинную “молнию” или распутывать заледеневшие шнурки. Гладить твою лодыжку. Тёплую – хоть и с мороза – лодыжку. Скользить бережными (крупными, прекрасной формы и очень сильными) пальцами по глади чулка. Медленно, целуя и прижимаясь лицом, вынимать, чуть покачивая сапог (вперед-назад, вправо-влево…), твою ногу. Ставить ступню на свою ладонь. Целовать ее подъём. Перебирать пальцы, еще пленённые чулком. Обнимать всю её, согнув в колене и прижав к своему голому животу (а ты в это время пальцами ноги дотягивалась и легко надавливала на его пах). И так же – со второй ногой: что-то мыча, шепча, будто заклиная, приговаривая “ножки, мои ножки…”, обнимая тебя всё выше – и снова опуская руки вниз, а после, тяжело дыша, ложился рядом, одной щекой на обувницу, чтобы ты могла свободную ногу поставить на другую его щёку.
Тщательно выбритую.
Горячую.
Легко касаясь…
(Но тебе всегда хотелось надавить… посильнее или даже услышать лёгкий – маленький, неопасный! – хруст).
Это ведь тебе они (кому доставалось – шутя, по щщам) говорили: “Ух, рука-то у тебя тяжелая!” и смеялись. А ты смеялась в ответ, помалкивая о том, что “лёгкой” сделать руку тебе не удастся. Искренне – нет. Обманывая – себя и их – да, пожалуй, можно.
Это тебе приходилось сдерживать себя, когда, целуя их, ты запускала пальцы в их волосы (рыжие, русые, каштановые – гладкие, вьющиеся, жёсткие) – и сжимала руку. Сжимала сильнее и сильнее, и поворачивала стиснутую ладонь – зная, что хоть несколько волосков да будут вырваны. И снова смеялась, отпуская и прося прощения. Но думая: “А за что прощать? Это ведь так хорошо!”
Ты могла (в пылу взаимного торопливого раздевания) порвать горловину его футболки, порой рванув её назад с такой силой, что оставалась тонкая красная полоска на его шее, сразу под кадыком.
Ты любила, будучи сверху, цепко схватить его за запястья, разбросить в стороны руки, прижать к постели (ковру, кафельному полу, доскам, траве), придавить грудью его грудь – и двигаться быстро и сильно, ощущая рывки его рук и всего тела – и не отпускать, жадно и близко глядя ему в лицо, в полузакрытые глаза – приближая последние судороги. И – слышать его финальное рычание, заключая этот звук прямо в свой открытый рот!
Был лишь один, который не рычал, а лишь тихо стонал, поскуливал – на тонкой высокой ноте звериного детёныша, впервые попавшего в капкан. Стеклянно запотевшее его лицо в момент «кончины» словно разбивалось, и тысячи исказивших его осколков втыкались в ваш общий, туго натянутый стон. И он был тем самым, кого – тогда, давно, и впервые именного такого – ты… не узнала. Не поняла, что да – это он, тот самый, который был счастлив, только подчиняясь.
Не думай, скольким ты отказала в себе, увидев хоть на миг – хоть крошечной тенью в их глазах – тревогу, вопрос, испуг, непонимание, невыговоренное “нет”.
И не вспоминай о тех, кто готов был (через это “нет”) всё же попробовать. Не отдернуть руку, когда ты, не шутя, кусала их в мякоть ребра ладони, в упругую выпуклость под мизинцем. Выдержать, не поморщившись, твою пощёчину (всегда – заслуженную, хотя ты могла бы заменить ее просто скандалом или просто обиженным молчанием или просто…). Промолчать, когда ты отрывалась от его плеча – а сквозь прокушенную кожу наливались выпуклые капельки, и ты их тут же слизывала: слаще этой соли нет ничего!
Они ели – с тобой.
И пили, конечно, на брудершафт. Ты выпивала своё шампанское быстро, чтобы аккуратно вынуть руку – и смотреть, как допивает он. Мечтать же – о том моменте, когда сможешь (пока он не оторвал губ от края) слегка, но плотно надавить на ножку бокала – и услышать чудесный звук, который сопровождает стекло, ломающееся о зубы. Увидеть вмиг расширившиеся зрачки, внезапную бледность, вскинутые вверх изумлением брови – и вчуже вспомнить Ясперса и Pupillenunruhe, эти быстрые движения зрачков!»
Вера замолчала, нажала stop на диктофоне своего Galaxy, подумала, что уже поздно, что Серафима так и не зашла, и не позвонила даже, и что уже хватит, хватит, хватит, черт возьми!
Вспомнила – уже в который раз за сегодня – как мужик с белёсыми, мягкими, какими-то расплывшимися, как белок яйца на негорячей пока сковородке, – глазами шел на неё сегодня утром, в метро, внизу, когда она стояла у края платформы.
«Не стойте у края платформы» – это они механическими голосами всегда говорят. А где же стоять-то? – если поезд подходит к ее краю. Она тогда что-то почувствовала, спиной, лопатками, пространством между ними – и оглянулась. Никогда раньше этого не делала. Но, похоже, что теперь как раз станет делать. Как заведённая.
Оглянулась.
Увидела эти глаза. Потом уже – коричневый плащ, жидкие волосы без цвета, поднимающиеся – почти незаметно – руки, которым явно хочется толкнуть! Её, Веру. Двумя жуткими сероватыми руками.
Её, невысокую, с отличной осанкой, манкую брюнетку (несколько седых волосков на висках она всегда вовремя закрашивала), со свежей стрижкой-каре, зеленоглазую («У тебя глаза – табачного цвета и словно дымные: посмотреть в них – как крепкой сигарой затянуться», – так витиевато когда-то влюблённый Коп выразился). Её, Веру Крошлую – тридцати трёх лет, стройную, всегда стильно одетую женщину. В этот раз – в тёмно-зелёный кожаный френч, псевдожокейские чёрные сапожки на низком каблуке с традиционной рыжей полосой по верху голенища и замшевые перчатки горчичного цвета. Никаких платочков, шарфиков, косыночек на шее: высокий ворот тонкого свитера цвета бурых оливок.
А этот – шёл на неё, прямо на неё. Вера это точно поняла, потому что боковым зрением видела, что больше никто не оглянулся, а глаза мужика смотрели прямо в её зрачки.
Она тогда молниеносно отпрыгнула – как ей показалось, стремительно, ловко и далеко. Мужик прошёл, как ни в чём не бывало. Чуть задел полой длинного расстёгнутого плаща – по лодыжке. То есть она вовсе не отпрыгнула, а коротко отшагнула влево. Даже не на целый шаг. Никто ничего не заметил.
Взгляд мужика ушёл – вместе с ним – за Верину голову, совершенно безадресно.
«Адреналин, вау!» – обязательно сказала бы Аглая, тётушка Веры, москвичка, красавица, которой никак не дашь её 45 (даже учитывая присказку о «ягодке опять»), с княжеской породистостью, изящнейшими ручками, умной, красиво поседевшей головой и парадоксальным – в ней – современно-молодёжным юмором. Причём, без искусственности – во всём этом. Таковое сочетание встречается редко. Может, потому они и были так доверительны и близки, что не виделись часто? Хорошо думали, прежде чем написать или позвонить друг другу («поВацапаться» – как они это называли). В редкие же приезды её в Питер (и в ещё более редкие Веры – в Москву) не могли наговориться, нагуляться, наслушаться каких-то невероятных концертов, без труда попадая на закрытые показы и сверхмодные вечеринки (с которых шумно возвращались, будя Глашиного сына, Никиту: студента, спортсмена и красавца – в маму). А уж для посиделок на свежем воздухе летом находили такие места в обеих столицах, до которых Вера в Питере, а Аглая в Москве никогда бы в одиночку не добрались. Просто не нашли бы.
А вот о мужике Вера не стала ей рассказывать.
Почему-то…
Фу-ф-ф!
Она тряхнула головой, волосы разлетелись и снова ровненько улеглись, недавно и очень хорошо (читай – дорого) подстриженные. Мужик-недоубийца ушёл из головы. С платформы. Из вестибюля станции. Следующая станция – «Площадь Восстания». Восстания!
…
…Зима была, кажется. Но морозов так и не дождались. Стояло какое-то межсезонье (а для неё – безвременье): ни заморозков, ни оттепелей, ни настоящего снега. Хотя именно сейчас снег шёл. В окно своей кухни Вере был виден небольшой дворик с парой фонарей, ничего толком не освещающих, кроме собственных столбов. В этих конусах молочного света снег тихо кружился, не падая, а пребывая во взвешенном состоянии: почти полное безветрие. Полузаметённая дорожка чьих-то следов (от угла дома к парадной, а может, и наоборот – не различить).
Да, надо бы спать – пока не накрывает второй волной (а за ней могут прийти ещё и ещё – непредсказуемо, неостановимо – как сухой кашель, сотрясающий тело) того, от чего невозможно избавиться, не наговорив на диктофон, не настучав на стареньком ASUSе, не – хотя бы – выкрикнув общим звуком невыносимости в пустоту идеально прибранной квартиры.
Что он там сказал? «Ничем помочь не могу». И еще, профессионально: «Сожалею». И в брови грусть добавил. Потому как в глазах – её и так предостаточно. А так – серьёзный и умный. Маленький и живой, как подросток, только седой. Хотя… Ей было трудновато судить об этом «бывш.психоаналитике», как она его про себя назвала. Два его медицинских образования закончились – на момент их встречи – получением третьего, экономического.
– Отчего же вы бросили и психиатрию, и психоанализ?
– Оттого, голубушка, оттого…
– Что? Не станете отвечать?
– Нет, не стану. На что вам? – грустно протянул Леонид Артемьевич и снова приложился к
рюмке коньяку.
«Значит, и он не поможет», – спокойно подумалось. – «Справляйтесь, голубушка, сами – со своими мыслями и фантазиями». (Вера предпочитала называть их «фантазмами»: были они порой витиеваты и пугающи!)
…
Клик – она открыла Word, клик – папка «сисТема».
Еще клик – создала новый файл.
###
«Ты всё так же учтива и обходительна, отвечаешь на все вопросы стандартно и спокойно, пока “прибиваясь” мозгом к уже – для тебя – исчезающему поведенческому шаблону. Ты начинаешь видеть их (обычное, стало быть, окружение) насквозь. Но это тебе удается только после того, как сама себя ты просветила весьма болезненным рентгенчиком правды. После самовскрытия и самостоятельного – вручную! – выволакивания собственных душевных “внутренностей” на свет.
Они были странных цветов. Чаще чёрного. (Но белый оставался постоянным “фоном”.)
Из непривычного материала сделаны. Преобладали телячья и свиная кожа, по-разному выделанная: от нежной замши, нарезанной на узкие полоски, через крепенькую, как на мягких ремнях, и похожую на нубук, – к суровой аки правда сыромяти. Из кожи были спроворены длинные витые кнуты, от одного взгляда на которые ты холодела.
А уж предназначены, казалось бы, вовсе непонятно для чего. Тем не менее, ты весь набор осматриваешь и виртуально крутишь в пальцах, осторожно пугаясь: не держала такого раньше! Ты принюхиваешься к этим предметам, сгибаешь и дёргаешь, пробуешь на “жестокость” – о собственное бедро или ладонь, и пытаешься понять: как именно замахиваться, и куда должен прийтись удар».
Вера нажала «сохранить», потянулась, потёрла глаза.
Потом выключила комп, настольную лампу. Телефон – нет. Может позвонить, извинившись за неприход, недавняя беспечная знакомица Серафима и занять ее ухо, без мозга, бла-бла-блательством, ныне, правда, весьма бла-бла-благотворно влияющим на Веру. Стрекоча и плывя, перепрыгивая и ахая эмоциями, описывая происшествия, сыпля мемами, роняя что-то презрительное об очередном хайпе, и лишь иногда вопрошая и помалкивая, Сима создавала подобие выныривания из Вериной VR. «Что за нах?! Ну, и при чем тут её сын, старшеклассник Иван, его увлечения, а также Симины родители, какие-то неизвестные мне её приятели и прочее кирикуку?..», – думала порой с досадой Вера. А тем временем симпатичная Сима (тридцать шесть лет, короткая тёмно-золотистая стрижка, задорное личико: «ладная, милая, славная», как сказали бы многие) – то разливалась, то шептала «тайное». «Ну что за радость о такой чепухе – ей толковать, а мне слушать?» – укоряла себя Вера, слушая и слушая дальше – но не слыша, не вникая в «общие места», всё больше отдаляясь и глубже стыдясь.
…
Ирреальность мысли иногда становилась сущим реалом.
Наговариваемое Верой на диктофон или нащёлканное на компе, казалось, сразу же передаётся тому, для которого всё это предназначалось. Нет, у него не было ни имени, ни возраста, ни облика. Но это было так же просто, как написать пальцем по запотевшему стеклу – а некто стоял бы по другую сторону этого стекла и читал, не заботясь перевёртыванием зеркального текста, улыбался, покачивал головой, хмурился порой…
Но как она могла всё это объяснить Леониду Артемьевичу?
Их беседы были, увы, непристальными, и она чувствовала это. Хорошо понимала, что «коль не оплачено – извиняйте, а по знакомству – уж послушаю». Познакомились по случаю: психоаналитика привел Верин бойфренд, которому провалившиеся, с сухим блеском Верины глаза имели случай перестать нравиться. Да, она их, своих boyfriends, в последние пару лет только так и величала – никаких «любимых, дорогих, милых, единственных». «Любовь-морковь-страсть-ужасть» за это же время куда-то испарились. Очистив при этом необъятное поле ровным улыбкам, почти нейтральному сексу и фразе «давай-ка разбежимся друзьями», которую Вера произносила с едва скрываемым облегчением примерно раз в полгода.
«Верой без правды» служила она своим мол.челам, только теперь осознав причину. А причина была в уловках.
В какой-то момент они стали ей слишком заметны, а после – и обидно очевидны. Она возненавидела уловки. Собственные и противоположного пола. В одночасье сделалась неинтересной игра, не только правила, но и результат которой ей были известны с самого начала.
Почти по-бродски, «ставя босую ногу на красный мрамор», казалось бы, восхитительного начала, она быстро попадала в пристально гниющее болотце, ярко усаженное обманчиво-мягкими зелёными кочками, над которыми вились мушки привычных (и уже – с привычным их разнообразием) уловок.
Вот эта кусачая малютка собирается вызвать у Веры укол ревности – и сейчас повернётся спиной, демонстративно воркуя с тем, кто только что беседовал с Верой.
Вот сейчас он (или она – абсолютно неважно) сделает замечание кому-то третьему – и тут же, со значением, пристально, поглядит Вере в глаза: «Замечаешь, как я поддерживаю тебя, как мне важно твоё одобрение?»
А вот и сама Вера закинет руки за голову и потянется, через пару секунд поняв, для чего: а чтобы показать, как соблазнительны обводы ее груди, или расхохочется, повернувшись к незнакомцу именно в профиль: хорош и он, и длинная изящная шея, и нежные косточки ключиц, выступающие в небольшом, но продуманном вырезе.
Ладно – на таком вот, не очень близком и не слишком важном уровне. Но когда одна, вторая, третья маленькие и, кажется, столь невинные уловки, накапливаясь, дают непригодный для пары «уловщиков» перенасыщенный раствор густо-солёной лжи, этим же… нельзя питаться!
Точно в той же степени – будто в зеркало гляделась – стало для нее самой невозможным плодить и множить арсенал уловок. Стоило ей заметить, что на них элементарно ловятся и ведутся, интерес тотчас же пропадал. Иногда хотелось взять за руку, отвести в сторону и терпеливо обрисовать весь путь взаимных уловок. Путь простой: «Я делаю это, ты реагируешь так, не так? – значит – вот так, дальше – идём вот туда и вот за этим. – Что? не туда? – тогда вот сюда: а третье дано не нам, не здесь, не в этой малокайфовой лайфе. Но ты будешь говорить, что я всё выдумываю, и мысли твои идут в другую сторону? – так покажи её мне, это сторону, дай же мне насладиться её другостью и твоей оригинальностью. Сэпрайзд ми!».
Уловки и повторы.
Повторы уловок.
Повторения, с пропуском первых повторов и внесением тех, которые будут повторены уже через час или день. Целые ритуалы из уловок – по принципу «Я-знаю-что-ты-знаешь-что-я-знаю-что…», обставленные обеими сторонами так, чтобы иметь формальное право разрешить себе то, что иначе, при других условиях, не сможешь или не дашь себе права разрешить.
Стало тошно.
Причем, физически: как на карусели, на которую тебя заталкивают и заставляют крутиться вопреки твоему желанию.
Вера честно пыталась вырваться за плотные обручи уловок, только кажущихся естественными, незаметными, почти эфемерными: неосторожные звуки слов, мгновенно сходящие с лиц выражения – и та, потрясающая все и всяческие представления об искренности, смена всего, когда случалось невольно услышать или заметить тех (говорящих или делающих), кто не заметил в тот момент её присутствия. А наблюдение за наблюдающим?! – отдельная роскошь, что открывает титанические бездны неискренности сделанного или произнесённого ранее.
Попробовала было вообще не доверять, чего уж проще: но последовавшее за этим понятие «проверять» огревало по сознанию полной своей неприемлемостью.
Сунулась в обратную сторону, наплевательскую: но ненадолго хватило равнодушия и собственной неоткровенности – в отношениях с теми, с кем спокойно можно было бы их и не поддерживать.
Упомянутое болотце быстро теряло суффикс, демонстрируя необратимую глубину топи. Она тем более была неприятна, что осознавалась полностью и просчитывалась влёт: от первого взгляда и до последнего стука закрываемой двери или перспективного плана собственной удаляющейся спины.
Возник как-то раз, случайно-виртуально, вполне достойный мальчик Костик. Из Москвы: «Съезжу, Аглаю с Никиткой увижу – всё польза, если что…»
На год младше Веры, светленький, вьющийся, печальноглазый, и «матовый», как она таких называла: с идеальной кожей неописуемого, ангельского оттенка.
Он так был смел и оригинален – в чате, а после в долгих (спасибо, WhatsApp!) разговорах, так порывист – в желании скорой-скорой (привет, «Сапсан»!) встречи, так расцвёл на Ленинградском вокзале, встречая её с цветами. Так взвивались его кудряшки, и очки, и улыбка, и сам он – весь одетый во всё тоже светлое. Так – всем голосом, и взглядом, и телом, и походкой – был рядом, вместе, вплотную, без условностей, без уловок, наконец-то.
«Так… так… так…», – как сказал «пулемётчик», которым он, собственно, и оказался.
Пулеметные очереди длинных разговоров в форме монолога.
Политика, политика, политика – бог ты мой!
Но – уловись же, милая, в эти сети: я умный, я редкий, я не-такой-как-все, а ты – у меня, здесь, со мной, значит – и ты-тоже-не-такая-как-все…
(Вера вздохнула, но теперь легко – ой, не так, как тогда вздыхала!)
…
– Су… суро… сур-р-рово! – он тяжело дышал. Узкая грудная клетка и плечики судорожно двигались, не справляясь с притоком загустевшего воздуха. Овальное родимое пятно с фасолину величиной – на левой стороне его шеи – ритмично пульсировало в такт дыханию, топорщась несколькими растущими из сморщенной коричневой поверхности волосками. Обеими совершенно мокрыми от пота ладонями он схватился за Верину безвольно повисшую правую руку и испустил финальное. Щёлкнул тумблер. Всё погасло.
Наконец, стали возвращаться какие-то внешние звуки и запахи: будто бы шаги и приглушенный смех, тонкий звон стекла, чьё-то покашливание, слабое дуновение аромата: кажется, кажется, Sole di Positano от Tom Ford. Дорожка лишилась освещения. Они были в боулинге. Их время закончилось…
– А ты знаешь, – Вера чуть-чуть подержала на языке паузу. – Ты знаешь, зачем человек живёт?
– За… зачем?.. – Тон заинтересованно-испуганного ребенка, даже глаза растопырил. И очки,
криво сползшие на щеку, поправил. И обветренные губы приоткрыл.
– Чтобы стать Достижимым.
– Господи… Кто это?! – изумился Костик.
– А это, видишь ли, тот, к кому всегда и практически напрямую может обратиться душа
каждого из ушедших.
– Куда, – тупо, – ушедших?
– Это – другой вопрос. Это – не ко мне, милый.
– Ну и?..
– Ну и вот, понимаешь теперь, насколько это важно: прожить эту жизнь так, чтобы стать Достижимым для хотя бы одной из бессмертных душ? Впрочем, и одной совершенно достаточно.
– А-а-а… – протянул тогда Костик задумчиво. – «Достижимым»… Надо же. Забавно. Сама придумала? – пощелкал пальцами, помолчал. – А ведь, пожалуй, это неплохая идея. Даже хорошая, классная. Это ж просто супер! А то… мы тут с Рыковым прямо измучились, особенно он: чуть не чокнулся, размышляя о бессмертии души. По ночам буквально с криком вскакивал, тормошил испуганную жену и кричал: «Я не могу поверить, что душа не бессмертна! Не могу!!!». Что бы тебе – вот тогда-то не подъехать и не прояснить этот простецкий вопрос?
– Хе-хе… Ишь, размечтался: катайся тут, успокаивай вас всех! – Вера подмигнула хитро. – И, кстати, об ушедших: уходить пора. И что-то мы с тобой… – Она оглянулась вокруг, – как-то тут так разволновались, даже орали, кажется!
– Да ну?! – ужаснулся он, проводя тылом ладони по своему еще не высохшему лбу, – да, вроде, точно, да…
– Вот тебе и «да»!
– Ну, а что ж ты думала, – он одернул пиджачок, снова поправил очки, забрал свой портфель. – Три часа провести тут, размахивая руками, разбегаясь и с припрыжкой кидая тяжеленные шары – практически впервые, да еще постоянно любоваться на то, как ты одним шаром – уж в который раз – валишь все кегли: это же сколько силы воли надо иметь, чтобы просто не за-ду-ш-ш-шить тебе немебля!..
– Эй-эй! – Вера отскочила от нешутейно протянутых к ее шее рук Костика. – Ты вообще-то учти, что игры эти наши невинные не столько жизнь собой утверждают, но и о смерти «мементо морят».
– Какая, нафиг, опять смерть?!
– А вот такая. Кегельбан-то произошел от варварский кельтской игры, в которой кеглями служили дети военнопленных. А откуда, ты думал, происходит их антропоморфная форма? Вот-вот. Вместо шаров же – головы их родителей употреблялись, которые удобно было держать, просовывая пальцы в глаза и провал, бывший носом, что мы наблюдаем и поныне!
Вот так они тогда, в Москве, веселились. И не только так. Пулеметные очереди воспоминаний. Фу ты, черт!
«А ты пойдешь со мной в…?»
«Зачем?»
«Ну, там будут очень важные для меня люди!»
«Не хочу!»
«Почему ты молчишь? Тебе не понравилось?»
«Не понравилось, да»
«Кхм… Вообще-то могла бы и промолчать!»
«Ты же сам спросил – почему?»
«Что – почему?»
«ВСЁ почему!»
Вмёртвую «расстрелянная», почти без ворсинок, его зубная щетка.
Пылища (только что гильзы не валяются под тахтой – пустые гильзы отстрелянных уловками девушек) в его квартире на Покровке.
Пулемётно-частое позванивание его беспрестанно отправляемого и трезвучие принимаемого «яблочного» общения.
Скользящие вовне, неприятно попрозрачневшие глаза и переставшие быть искренними улыбки.
Когда тронулся обратный, Москва-СПб, счастью Веры не было никаких пределов!
«Освобождение. Обновление. Вдохновение», – как-то так, у Лорки, что ли, было? Нет, у Луиса де Гонгоры. А, плевать.
Теперь же это было у неё, у Веры. Которая оставила там – на балконе квартиры Костика – вывешенные с позором, башкой вниз, из пулемёта уложенные уловки!
Вопрос «зачем» перестал не только проговариваться, но и существовать: остался бумажный макетик когдатошнего собора высокой пылающей готики.
Но неужели всё старательное построение уловок, вся их прецизионная настройка и многофункциональная направленность стоят отнюдь не парижской мессы, а всего лишь элементарности инстинкта продолжения рода – в его современной интерпретации? «Она старается его зацепить, он – её уложить, она – после – его привязать, он – после – не позволить ей этого сделать»: детский сад, штаны на лямках!
Частенько возникал в памяти короткий, но весьма и весьма зацепивший Веру монолог – на одной из пафосных презентаций (шеф Андрей Андреич часто отправлял ее вместо себя – знал, что «нажористых» клиентов их рекламной редакции она не пропустит и после не упустит). Монолог был выдан случайной соседкой по столу, PR-менеджером крупного консалтингового агентства.
Дама доброжелательная, весьма неглупая, дорого и неброско одетая, стройная, подтянутая (пока, вроде бы, природно, а не аппаратно), но уже – с лёгким шёлковым шарфиком на шее и не украшенными ничем, кроме бесцветного маникюра, дабы не привлекать лишнего внимания, руками. Соответственно, дама «слегка за пятьдесят».
Они довольно долго обе держали лёгкую планку отвлечённости, неявных взаимных комплиментов, даже – что бывает редко на столь разношёрстных мероприятиях, – обсудили, взаимно порадовавшись похожим склонностям, что-то киношное и книжное. Дама казалась довольной и спокойной, опытной и вполне самодостаточной. Она уверенно подавала руку подходившим к ней, улыбалась благосклонно, позволяя ухаживать за собой сидящим рядом и напротив мужчинам, и делала это с видом неявного, но всё же превосходства.
Она прекрасно держалась.
Однако Вера в какой-то момент уловила её пристальный взгляд: в сторону маленького импровизированного танцпола, куда отошел ровесник ее, и тоже интересный, который только что подходил к её ручке с поцелуем – а вот уже топтался там, однозначно обнимая брызжущую юностью шатеночку.
Фраза дамы пресеклась. Глаза мгновенно – будто их ловко долил услужливый официант из тутошних, – наполнились смесью грусти, понимания и слабого протеста.
– Я – постмодерн.
– Простите?..
– Все видят во мне только цитаты из меня, уже когда-то бывшей.
Вера поняла, что отвечать не надо.
– Виден мой опыт. Мое понимание. Моя неоднозначность. Мой возраст… А она, – дама
повела взглядом в сторону танцующей девушки, – она кажется первоисточником. Одна из моих ровесниц сказала как-то – с таким надрывом, что мне даже неловко за неё стало: «Всё, милая, скоро нам останется лишь по стеночке стоять, глядя, как уводят молодых красоток, и не иметь ни малейшей возможности хоть как-то повлиять на эту ситуацию». Нет-нет, – она поняла выражение лица Веры, – только не надо жалеть меня и всех нас, «дам базальтового возраста», как я это называю! Да, крепость наша (как в градусе, так и в терпении) бесспорна, не правда ли? – Вопрос был риторическим. – Но замковый камешек здания третьей половины женской жизни вовсе не в этом.
– Третьей?
– Ну, так говорят: это возраст, называемый «Как вы сегодня чудесно выглядите!». Итак,
закон природы. Кстати, вы знаете, что женщина как самка перестаёт быть привлекательной для мужчины как самца, когда перестаёт быть фертильной? Банально: прекратить, наконец, пахнуть довольно мерзкими, согласитесь, выделениями регул и вздохнуть с облегчением, что не надо больше бояться залёта! Но немногим, к сожалению, пока видна и ясна «эпоха новой искренности», провозглашённая тем самым Воденниковым, о котором мы с вами только что говорили. Возвращаясь к началу моей тирады, отмечу, что немногие хотят увидеть в нас не только ту сакраментальную (не догадываясь, что она еще и сакральна) «прожжённость». Да попросту – это понимание, которого мужчины боятся и потому избегают. А прибавьте-ка к нему еще и то, что осталось почти неизменным, и только улучшилось, проварившись – пусть так, кулинарно! – в этом опыте. Та же самая откровенность лишилась наивной глуповатости. Свежесть восприятия приобрела глубину и возможность сразу уцепить суть. Доброта перестала быть бесхребетностью, а радость – всегда готовой кукольной реакцией на всё! – Дама, переводя дыхание, отпила маленький глоток вина.








