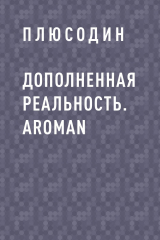
Текст книги "Дополненная реальность. ARoman"
Автор книги: Плюсодин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
Дабы у зрителя не осталось никаких сомнений в том, что история великой компании, в которой им посчастливилось трудиться, ведет свой отсчет с начала времен, видео комментировалась убедительным закадровым дикторским голосом, взятым из научных программ главных телеканалов страны.
Логичным завершением описанной выше истории становилось появление на сцене пары-тройки высших руководителей компании. Им предстояло совершить некое ритуальное действо, которое бы перевело корпорацию из эпохи прошлого в эпоху будущего. На этот раз таковым действом стало нажатие гигантской кнопки, которая по случаю появления топ-менеджеров на сцене услужливо выползла из-под пола на телескопической конструкции. Кнопка оказалась недостаточно большой, и мизинцы ладоней руководителей оказались в такой близости, что наэлектризованные волоски пальцев стали щекотать плоть соседа, а потому Андрею показалось, что представители высшего руководства компании даже почувствовали друг к другу некоторое внезапное половое влечение.
Нажатие кнопки спровоцировало буйство футуристических красок на исполинском экране и появление на сцене тех самых танцоров в костюмах людей будущего. Танцевали в этот раз они неплохо, но креативный директор уже не мог отделаться от ассоциации со слоновьими испражнениями.
После столь многообещающего интро началась банальная конференция, на которой отдельно взятые сотрудники, как правило, руководители, безуспешно боролись с социальными сетями за внимание аудитории. Переживать за исход мероприятия больше не требовалось, и можно было ехать дальше.
Перед отъездом Исайа с Андреем зашли в гримерку, чтобы перекусить бутербродами. Через некоторое время туда проник и робот Алёша.
– Б#$дь! Как же я за@#$лся, – искренне посетовал робот, снимая неудобный шлем.
Человек в костюме свидетельства цифровой индустриальной революции, весь красный, с потной башкой, налил стакан компота и залпом осушил его.
– Не щадите Вы себя, – с иронией посетовал сердобольный Исайя, который также, как Андрей, бы не мало удивлен тому, что Алёша все-таки не андройд.
Отдышавшись, Алёша ответил:
– Да, ладно! @#$ня! Отец мой вон у этой же компании на комбинате работает. Так там вообще пи@#$ц. Руда, температура в горячем цехе – еб@#$ься. И легкие все в металле. А у меня еще ничего работенка.
Еще раз убедившись в том, что конференция идет нормально, Исайя и Андрей направились в оперу. Там давали «Любовный напиток» и дерьмовые напитки по цене отменных в театральном буфете.
Следует заметить, что в оперу ходили не самые богатые люди, однако в их среде считалось правильным отстоять километровую очередь в буфет, чтобы съесть бутерброд с колбасой по цене среднего обеда и запить его бокалом игристого по цене бутылки. Складывалось впечатление, будто администрации театров сознательно делали всё возможное, чтобы ухудшить жизнь посетителей. Ну, к примеру, в каком ресторане, в каком буфете, в какой самой забытой Богом придорожной забегаловке Вы последний раз видели бутерброд, сделанный на основе самого дешевого нарезного батона с тонким слоем колбасы. И всё! Ни тебе зелени, ничего. Только батон и колбаса, нарезанная каким-то прецизионным прибором до прозрачной тонкости. Или где вы последний раз видели очередь за едой? Очередь! Ну, почему? Почему нельзя сделать несколько ларьков?
Однажды Исайя и Андрей, напившись пива в Берлине, по приглашению одной мировой оперной звезды пошли в местную консерваторию. Так вот там все было иначе! Пунктов выдачи еды было едва ли не больше, чем посетителей, а посетителей, надо сказать, было очень много, так как давали не какого-нибудь «попсаря», вроде Верди или Чайковского, а малоизвестного мастера атональной музыки Кароля Шимановского. Пузатые бездуховные бюргеры, тяготеющие, как известно, только к пиву, колбаскам и фашизму, не могли удержаться, чтоб не сходить на классика, писавшего бесконечные потоки хаотичных звуков, а потому набилось их не мало. Но при этом в очереди в буфет стоять необходимости не было. Более того, посетители могли заказывать себе некий сет из напитков и закусок на стол к антракту. Чтобы вообще не ждать. И уж, конечно, в меню не было бутербродов, хоть слово это и было немецкого происхождения. Складывалось такое впечатление, будто немецкие ценители пришли в храм классической музыки, чтобы пожрать! У нас все не так. Как в античные времена, в России люди приходят на представление, чтобы страдать. И страдание начиналось с буфета. Вы думаете посетители так оголодали, что хотят вот этого всего? Вряд ли. Иначе бы они зашли перед посещением театра в соседний гламурный французский ресторан с абсолютно такими же ценами и значительно более высокой гастрономией… Очередь Андрея подошла, и он съел бутерброд с колбасой, запив его капучино со вкусом обсосанной гопниками покрышки.
В зале рядом с Андреем и Исайей сидели две пожилые ценительницы искусства. Возможно, они были подруги, а может, мать и дочь. Когда Исайя стал шёпотом комментировать Андрею увертюру, одна из них (та, что помладше) обдала болтунов презрительным взглядом, означавшим что-то вроде: «Как вы можете так осквернять великое искусство своим мерзким шёпотом?», а вторая сделала замечание вербально, гневно, срываясь на истерику:
– Потише! – шепотом заорала она. – Вы мешаете нам слушать.
Исайя стал говорить таким уже тихим шепотом, что слышно было только Андрею, а дамам теперь приходилось напрягать слух, дабы расслышать разговор варваров. Опера была веселой, водевильной, с осовремененным сюжетом, местами пошловатой. Но эта пошлость даже нравилась трясущимся над святостью оперной культуры женщинам.
– Это так здорово, что наше классическое искусство позволяет себе немного пошалить. – как бы говорили своим поведением они. – А те, кто не понимают этой милой шалости, просто дураки и ханжи.
Но во втором акте случилось страшное. Дулькамаро вдруг перешел с итальянского на русский и запел о колбасе, недвусмысленно сравнивая ее с фаллосом, а Адина и вовсе устроила шуточный стриптиз, обнажившись до нижнего белья. Андрей боялся даже боковым зрением оценить реакцию соседок, опасаясь, что они лопнут от негодования. Но нет! Весь этот ужас казался им продолжением милого дурачества интеллектуалов. Когда Андрей, увлекшись реакцией дам, стал непозволительно пристально их рассматривать, они, заметив это, окатили его таким надменным взглядом, таким ядовитым высокомерием… Трудно было поверить, что еще секунду назад они едва ли не до слез умилялись пошлым намекам лекаря Дулькамаро на колбасоподобность своего фаллоса.
Чтобы как-то отвлечься, Андрей стал смотреть в оркестровую яму. Как раз заиграла Una Furtiva Lagrima. Поржав над тем, что Неморино вышел в костюме советского зэка, зал стал возвышенно внимать главному хиту оперы. Музыканты же играли так, будто они работают в цехе консервного завода. Ждавшие своей партии ковырялись в смартфонах, некоторые пили напитки и даже, о ужас, еле слышно хрустели снеками, а гобой и вовсе откупорил бутылочку пивка. Те, что дули и двигали руками, тоже делали это с какими-то отстраненными лицами, как будто они выполняют ежедневную рутинную работу. В свете полемики о замене всех человеческих профессий машинами, которую давно вели Андрей и Исайя, этих ребят давно пора было менять на роботов. Любопытно, а кому-нибудь вообще интересно было бы слушать симфонический оркестр, состоящий из роботов, которые бы по загруженной программе выводили звуки из винтажных аналоговых инструментов? Да, видимо, артистов роботы никогда не заменят, и всем этим ленивым обрюзгшим музыкантам не стоит опасаться за свое будущее. Зрителю все равно будет интереснее смотреть на чудеса человеческих возможностей, пусть и таких ремесленников, которые отрабатывали сейчас свой хлеб в оркестровой яме.
– Интересно, – размышлял Андрей, – а тенор сейчас тоже думает о каких-нибудь насущных проблемах, вроде кредитов или предстоящей семейной поездки в отпуск?
Между тем звучала Una Furtiva Lagrima. И надо признать, звучала она божественно!
В конце публика около десяти минут стоя аплодировала артистам. Громко, неистово, так, словно убеждала себя в том, что последние пару-тройку часов созерцала шедевр. Им с наслаждением подыгрывал и известный дирижер, который воспарил из ямы на сцену и кокетливо принимал поклоны артистов. Затем он жестами показал, будто он-то совсем не причем, а успех – это исключительно заслуга гениальных певцов и не менее гениальных музыкантов в яме. После второй волны ответных благодарных жестов в адрес дирижера со стороны гениальных певцов и гениальных музыкантов из ямы, кудесник палочки сдался, отбросил ненужную скромность, и еще минут десять кланялся под восторженные взрывы аплодисментов, накатывающих волнами, которые со временем не только не стихали от усталости, а лишь усиливались.
В общем, «Любовный напиток» тоже оказался дерьмовым. Но к музыке Доницетти и голосам претензий не было. По крайней мере у неискушенного Андрея. Исайя же утверждал, будто баритон «воет одну ноту», а сопрано и вовсе обозвал скотиной. Единственное, что полностью удовлетворило взыскательный слух директора – это голос его друга, красавца тенора, который исполнял главную роль.
За день креативный директор настолько устал, что решил прогуляться и отужинать дома, отказавшись от совместной трапезы с Исайей и его другом тенором. На пути к припаркованному автомобилю ему встретилось четыре памятника. Первый притаился за решетками главного здания российской полиции. Это был памятник доблестным сотрудникам МУРа Володе Шарапову и Глебу Жеглову в исполнении Владимира Высоцкого. Ярый антагонист власти своего времени смотрелся в образе верного слуги государства убедительно как в кино, так и в монолите скульптора, расположившего героев на лестнице подъезда за несколько секунд до рукопожатия. Второй памятник располагался буквально в тридцати метрах от первого за той же самой решеткой. Это был бюст, признанного всеми палачом и людоедом, главы ВЧК Феликса Дзержинского, известного также по подпольным кличкам Яцек, Переплетчик и даже Астроном. Еще в нескольких десятках метров от Феликса также за решеткой, но теперь уже Храма иконы божьей матери «Знамение», стоял памятник Архангелу Михаилу со щитом МУРа. «Московским сыщикам, посвятившим жизни свои благому делу» – значилось на пьедестале. Помимо МУРовского щита архангел имел военные доспехи, меч, гордое римское лицо с уверенным, честным взглядом преданного солдата, готового без колебаний вступить в смертный бой «за благое дело», и даже отдать за него жизнь, хоть для ангела это было бы проблематично. Вероятно, такой взгляд Михаил демонстрировал лишь в присутствии нынешних продолжателей дела отважных МУРовцев, или представителей высшего духовенства, или просто случайного свидетеля, такого как Андрей. Возможно, когда никто не смотрел на архангела, взгляд его наполнялся грустью за погибших мальчиков, которые свергали его вместе со всей святой свитой и Господом. Они свергали его, а он всё равно с грустью помогал им. Наконец последний памятник, встретившийся на пути Андрея, был уже не за решеткой.
Это был памятник самому актеру, поэту, барду Владимиру Высоцкому, уже не в образе капитана милиции, а с гитарой и распростертыми к небу руками, словно герой монумента совершал важнейшую в его жизни молитву.
Андрей с трудом отыскал авто на парковке, так как улицу заполнили толпы, выстроившиеся в очередь за новой моделью Apple iPhone, которая по обещаниям производителя имела более качественную камеру, а также возможность отправлять свои послания от имени мультяшного персонажа, облик которого принимал отправляющий. Автомобиль притаился за бородатым мужчиной, который продавал десятое место в очереди за 150 000 рублей, о чем свидетельствовала надпись фломастером на потрепанной картонной табличке. Садясь в автомобиль, Андрей подумал о том, основатель Apple Стив Джобс был хуже Адольфа Гитлера.
Последнее время Андрей не мог принимать пищу, не включив параллельно какую-нибудь лекцию, аудиокнигу или интервью. Иначе было как-то не вкусно. На этот раз Андрей запустил запись программы, в которой самый известный телевизионный интервьюер страны задавал каверзные вопросы знаменитому кинорежиссеру старшему. Ведущий программы был неприятен Андрею из-за своей интервьюерской тактики, которая заключалась в том, чтобы отыскать с каких-нибудь старых изданиях высказывание собеседника, в котором этот собеседник явно подставляется, и предъявить это высказывание интервьюируемому. Ведущий здесь как бы уподоблялся следователю, стремящемуся поймать подозреваемого на уликах, при этом следователь мог преспокойно вырвать фразу из контекста, невзирая даже на такое чисто юридическое оправдание, как срок давности.
Но данное интервью доставляло Андрею удовольствие, потому что казалось, что тактика ведущего бесила также и самого интервьюируемого режиссера.
Однако ведущий гнул свою линию:
– В 2007-м году в интервью газете «Условная свобода» Вы сказали, что только в либеральной среде люди могут быть людьми.
– Да, вероятно, я так и сказал. Я действительно так считаю. – спокойно подтвердил режиссер.
– Но ровно через десять лет все в той же газете Вы, отвечая на вопрос корреспондента, признались в следующем… Позвольте я процитирую…
Далее интервьюер применил свой фирменный прием. Он серьезно, как кажется, без эмоционально, и четко процитировал интервьюируемого:
– Я считаю борьбу Камазова против того, что мешает внедрению либеральных ценностей, а именно коррупции, нарушений основных свобод и прочего, совершенно бессмысленной и, в некоторой степени, даже вредной.
Подобные цитаты интервьюера всегда были настолько объективны и безэмоциональны, что сквозь них легко читалось личное отношение знаменитого ведущего.
– Получается, – продолжал ведущий, забыв сменить интонацию с режима цитаты на режим вопроса, – получается, что либеральная среда – это единственное место, где люди могут оставаться людьми? – въедливо вопрошал он, – но борьба за неё в России бессмысленна и даже вредна? Я не очень понимаю…
Интервьюер замер в ожидании ответа.
– Ну, во-первых, я не сказал в России. Я сказал – борьба Камазова. Это немного разные вещи, – режиссер продолжал, а кивки ведущего как бы превращали его речь в диалог. – Просто я считаю, что борьба за либеральные ценности, за эту самую либеральную среду обречена в любой стране, которая их не заслужила. Или правильнее сказать, не заработала. Европа, скажем, заработала. Буржуазия Европы в результате вполне определенных шагов и стараний получила право формировать то общество, в котором им и всем комфортно. И теперь у них этого не отнять, потому что они это заработали своим трудом и своей кровью, и они это ценят. Теперь кто-то берет их опыт, их систему, их модель, и говорит – а давайте дадим её кому-то просто так. К примеру, русским. Вот русские сидели веками в крепостничестве, а давайте мы их осчастливим! Давайте им вот так просто, без пролитых в революциях гекалитров крови, без осознания необходимости борьбы за свободы, и без самой борьбы… просто так хоп… и дадим демократию, либеральные ценности. И естественно, они их не возьмут, потому что просто не заслужили.
– Не заслужили? Или они им просто не нужны? Или они их просто не считают ценностью, не чтут? – задал свой вопрос интервьюер, сообразно той либеральной программе, которая была зашита в его мозг, вероятно, с самого детства.
– Камазов считает, что проблемы России в том, что люди, или там чиновники, не чтут либеральные ценности. А на самом деле, проблема России в том, что здесь не чтут Бога. Не думаю, что Камазов сильно религиозный человек, да и Вы, на сколько я знаю, в этом не чемпион.
– Это мягко говоря, – иронично ответил ведущий, улыбнувшись совершенно очаровательной улыбкой самопровозглашенного атеиста, – но честно, я не очень понимаю, как вера в Бога или, как Вы выразились, почитание Бога… – ведущий сделал особый акцент на словах «вера» и «почитание», – …связаны с тем, чтобы жить свободно, чтобы уважать свое достоинство, чтобы пользоваться правами… Словом, пользоваться всем тем, что принято считать либеральными ценностями.
– Напрямую. – уверенно констатировал режиссер. – Я не очень понимаю, как атеист может быть свободен.
– Он перед вами, – ответил ведущий с какой-то странной смесью иронии, гордости и совсем неуместной радости.
Столь же неуместной, как если бы он радовался тому, что у него нет пениса.
– Вам сказочно повезло, – ответил иронией на иронию режиссер, – но вообще, если у человека нет «высшего судии», то его судят низшие, и он становится рабом обстоятельств. Скажем так, он детерминирован отношением с такими же как он, а это очень опасно.
– Что же тут опасного? – логично возразил телеведущий.
– Знаете, я просто приведу пример. У меня на даче у соседа шикарный коттедж весь из красного кирпича. Даже труба из красного кирпича. Знаете, кто мой сосед?
– Ну, не знаю. Наверное, депутат, или предприниматель…
– Водитель грузовика на кирпичном заводе, – прервал режиссер тщетные попытки телеведущего, а телеведущий снова улыбнулся своей очаровательной улыбкой мудреца и продолжил:
– Так, и что....
– Как Вы полагаете, он там один отдыхает, или приглашает друзей? – продолжал режиссер.
– Ну, не знаю, может, приглашает, – казалось, ведущий с радостью сменил роль интервьюера на интервьюируемого.
– Приглашает, приглашает. И друзья, конечно, понимают, что он вывез коттедж с завода. Но ему не стыдно. Напротив, он очень гордится своей предприимчивостью. И друзья его в этом, наверняка, поддерживают!
Далее режиссер, пользуясь базовым актерским приемом, вдруг неожиданно сменил легкий ироничный тон и медленно начал вбивать гвозди в телеведущего, а через него во всю аудиторию:
– Пока люди гордятся тем, что наворовали на коттедж. Пока Камазов уличает крупного государственного чиновника во владении баснословным состоянием, а люди этого чиновника только больше уважают, думая о том, что на месте чиновника поступили бы также, деятельность Камазова абсолютно бессмысленна. Вы согласны?
– Пожалуй, да, – со смесью иронии и грусти признался интервьюер.
– И не только бессмысленна, но и вредна, – продолжал режиссер, не желая вновь возвращаться в поле иронии.
– Как минимум для брата Камазова, который сидит сейчас в тюрьме. Ну, и, конечно, для всех, кто страдает от карающей руки государства, – интервьюер не оставлял попытки снизить градус дискуссии.
– Как минимум для нас всех, ведь нет ничего более ужасного, чем то, когда Христос умирает на кресте, а всем просто наплевать. И этим людям Вы хотите дать либеральные свободы? – режиссер принялся отчитывать ведущего. – Вы сначала научите их тому, что такое хорошо, а что такое плохо. Пока в человеке нет внутреннего нравственного компаса, либеральные свободы ему не нужны. И, повторюсь, они даже вредны для него.
– Понятно. Скажите, а Бог, по-Вашему, это обязательное условие наличия компаса?
– Думаю, настолько же обязательное, насколько Вы – обязательное условие Ваших слов, – режиссер подвесил паузу, чтобы ведущий успел осмыслить сказанное, и финализировал мысль, – Нет. Совсем не обязательное.
Ведущий, по всей видимости, хотел еще поспорить о связи нравственности и Бога, но вдруг замер, поборол что-то в себе, и задал уже другой вопрос:
– Вы только что сказали, что ради обретения или зарабатывания права пользоваться либеральными ценностями, европейцы пролили кровь. Вы, вероятно, имели в виду Великую Французскую революцию?
– И ее в том числе…
– Получается, что кровь и отрицание Бога стали основой современной либеральной Европы?
– Думаю, это был такой способ достучаться до Бога.
Ведущий скривил самую удивленную гримасу из тех, что были в его арсенале удивленных гримас.
– Что французы в конце восемнадцатого века, что русские в начале двадцатого, не имели другого шанса сделать так, чтобы Бог их услышал. Вспомните Ваньку Жукова. Вспомнили?
– Ну конечно… – интервьюер, вероятно, и вправду, вспомнил знаменитый рассказ Чехова, хоть и привык отвечать утвердительно, даже если и не знал того, о чем говорит гость.
– Какова вероятность того, что дедушка получит письмо? Нулевая. У народа была нулевая вероятность слиться с Богом, вернуться к дедушке в деревню. И народ сделал то, что сделал. И Блок «Двенадцать» про это же.
– Погодите. Давайте вернемся. Вот есть общественный договор, люди нанимают других людей, чтобы те им правили, – упрямо переводил на излюбленную тему интервьюер.
– Вы совершенно правы! По сути, русские так и сделали! Они наняли людей, но только не ответственных перед народом демократов, а тиранов. Русским нужен именно тиран, и они его с радостью нанимают!
Пока Андрей тщательно мыл руки, видео закончилось и автоматически переключилось. На этот раз в гостях у главного интервьюера был известный скрипач и культуролог. На ведущего смотрели честные, добрые глаза кудрявого сказочника семитской наружности, который вырос в Витебске в окружении тех, кто знал и помнил Шагала, Римского-Корсакова и Малевича. Гость вспоминал, как возвращаясь с занятий со скрипочкой, останавливался под окнами и часами слушал рассказы старожилов о гениальных земляках. В своем интервью скрипач только и делал, что подставлялся. Его утверждения о врожденной гениальности человека, о зашитых в его тело и сознание с момента появления на свет золотых сечениях, и связь через них с космосом и Богом были цинично отбракованы интервьюером, как излишне пафосные, спорные и неинтересные.
Зато ведущий не изменил себе и «накопал» разных цитат неосторожного собеседника. Он долго спорил с гостем о правомерности трактовки артефактов культуры после смерти их авторов на примере Пушкина и Гоголя, вообще о необходимости какой-либо трактовки, ссылаясь на то, что получать удовольствие от произведения искусства можно без всяких посредников. Тем самым ведущий разом перечеркивал ту миссию, которую определил для своей жизни гость.
– Вот Вы говорите о том, что служите посредником между гением (Бахом, Пушкиным – не важно) и человеком – допустим, мной. Надо отметить, это, мягко говоря, не очень скромное высказывание. Но допустим. Скажите, а зачем мне этот посредник? Вы полагаете, что он мне нужен? Что я сам не в состоянии понять гения? Что мне непременно нужна трактовка, причем не чья-нибудь, а именно Ваша?
– Ну, допустим, Вам, может быть, и не нужно, но миллионам людей, которым не рассказали родители, которых неправильно научили в школе, которые не имели доступ к гениальным произведениям в силу разных печальных причин – это нужно. И вот почему, – тараторил маэстро, – гениальное произведение, что музыку, что литературу, невозможно воспринимать в отрыве от контекста, а моя задача – как раз погрузить аудиторию в контекст, вызвать у них желание, наслаждение и понимание.
– Скажите, а если человек – вот так всю жизнь прожил без этого произведения, без понимания музыки, это вообще плохо?
– Безусловно.
– А почему? Зачем ему это?
– А затем, что давайте вспомним про курочку Рябу, – в сотый раз сорвался на отступление скрипач и поведал всем об истинном смысле этой, по его словам, «притчи, а никакой не сказки.»
Суть его толкования сводилась к тому, что дед и баба получили шанс переместиться из мира потребления в мир смыслов и сущностей, но вместо этого принялись плакать, и Ряба согласилась и далее нести простые яйца, а не золотые. Шанс должен быть у каждого, и именно он, скрипач и культуролог, дает такой шанс тем, у кого его до того не было по объективным причинам.
– Вы меня не убедили, но да ладно. Продолжим, – грустно констатировал интервьюер, который никак не мог найти общий язык с этим болтливым сказочником.
Скрипач, конечно, не забыл подставиться и с любимой полемикой ведущего на счет особой роли России и русских. Скрипач полагал, что для русских искусство не просто часть благоустроенного интерьера жизни, как, скажем, в Швеции, а единственный путь к спасению. О! Что тут случилось с ведущим, который формально оставаясь заинтересованным интервьюером, начал уничтожать собеседника фактами. О факты, факты! Как часто они мешают поиску истины! В ответ на мысль об особенных глазах русских детей… а надо сказать, что музыкант уже много лет жил в благоустроенной Скандинавии, а в России его деятельность ограничивалась такими пустяками как бесплатные концерты, благотворительные лекции и строительство школ нового образования…. Так вот в ответ на мысль об особенных глазах русских детей и вообще русских, которые исподволь тянутся не только к музыке Баха и Моцарта, но и, например, к фильмам Ингмара Бергмана, который на родине вообще забыт, интервьюер не мог отказать себе в удовольствии выдавить из себя деланный смех, чем, надо сказать, очень удивил Андрея. Этим фальшивым смехом он уподоблялся тому самому ангажированному эксперту с орущих о политике телеканалов, или гопнику, который стремится подавить оппонента быдлятиной и поддержкой толпы. Уподоблялся всему тому, чем он на самом деле не являлся. Конечно, ведущий и камня на камне не оставил и от теории скрипача о начале конца человеческой цивилизации, которую музыкант обосновывал разницей между теми, кто помнил Шагала и учился у Римского-Корсакова, и современными людьми, живущими в мире потребления, тщеславия и попсы.
– А Вы разве не чувствуете этот закат человеческой цивилизации? Не чувствуете, как все становится хуже и хуже? – вопрошал скрипач у интервьюера.
Интервьюер опять же не смог отказать себе в удовольствии произнести следующее:
– Я Вам вот что отвечу, – готовил он собеседника к какому-то предметному ответу, обратившись к нему по имени отчеству, – вот когда у Вас будет своя программа на телевидении, тогда Вы и будете задавать вопросы, а здесь вопросы задаю я.
Собеседник, к удивлению, положительно отреагировал на этот, давайте говорить честно, довольно хамский ответ, в котором читались те самые следовательские замашки ведущего.
Дальше больше. Зачем, зачем этот прекрасный мечтатель стал говорить о том, что процент читающих и интересующихся культурой людей на протяжении последней пары столетий неуклонно падает? Ну, зачем он дал возможность интервьюеру забить в него очередной гвоздь, сославшись на то, что раньше просто грамотных было значительно меньше? Как бы ни тараторил музыкант иудейского происхождения, как бы эмоционально не прокачивал свои светлые идеи, его старания упирались в бетон скепсиса и скалы фактов главного интервьюера страны.
Музыкант, который обычно был триумфатором в своих лекциях и в интервью СМИ, перед лицом главного интервьюера России теперь выглядел жалким, потерянным юношей-максималистом, столкнувшимся с суровой правдой жизни. А интервьюер был явно доволен тем, что так лихо разрушил максимы романтичного скрипача своими фирменными риторическими приемами, основанными на скепсисе, логике и привычке выдирать из контекста и ставить под сомнение всё на свете. А музыкант ко всему еще с какой-то покорностью мягко соглашался с интервьюером, словно он общался не с идеологическим оппонентом, а любимым, но сбившемся с верного пути сыном, что делало его позицию еще более комичной, нелепой, слабой, и вызывающей в лучшем случае лишь умиление. И если интервьюер, очевидно, испытывал злость по отношению к собеседнику, то пожилой иудейский скрипач совершенно не злился на ведущего. Зато он искренне сокрушался по поводу того, что ведущий никак не хочет понять таких простых и понятных истин только на основании таких мелочей, как противоречие теорий скрипача жизненным фактам и скучной формальной логике.
Скрипач был сокрушен интервьюером. Не помогли ни милые улыбки, ни дисциплинированные ответы на вопросы из опросника известного французского писателя, к которым интервьюер почему-то присовокупил свой про то, что бы гость спросил у Бога, представ он перед ним. Надо отметить, что скрипач ответил весьма странно. «Зачем мы тебе такие, Господи?» – тяжело вздыхая, сказал проповедник добра, и программа завершилась.
@ Попу-лизация искусства
Секретарша, окинув Лёшуа презрительным взглядом, пообещала, что Иннокент Маркович примет его через пять минут. Эти пять минут показались Лёшуа пятью часами. И не только потому, что молодой человек чувствовал себя виноватым и очень волновался перед аудиенцией. А скорее от того, что это и были пять часов. Пять часов чистого времени Лёшуа ожидал того, что его вот-вот пригласят, если в данной ситуации уместно это вежливое слово. В определенный момент Лёшуа почувствовал себя Достоевским, которому уже надели на голову мешок, но выстрела почему-то не происходит. Не происходит десять секунд, не происходит минуту, не происходит десять минуть, час, три часа.
Если бы Лёшуа знал, что подобная процедура является для олигарха стандартной, что она наряду с прижатыми к полу креслами вокруг фаллического дубового стола, является действенным инструментом превращения человека в подгнившую свеклу, в истощенное безвольное существо накануне важных переговоров, то Лёшуа, скорее всего, пережил это время проще.
Теперь же по истечение пяти часов он подобно бегуну, открывающему в себе второе дыхание, вдруг обнаружил в голове мысль. И мысль эта была по истине гениальной.
– А что, если написать роман о том, как человека осудили на смертную казнь, но не сказали, когда приговор будет приведен в силу? – думал иссушенный огрызок некогда сочного головного мозга Лёшуа. – И вот он живет в тюрьме… и какие-то люди с ним общаются… и он просит, чтобы ему назвали дату, а ему не говорят.
Следующая ослепительная мысль вполне могла бы убить, совершенно не готовый теперь к каким-либо мыслям, мозг Лёшуа, ведь величие замысла начинающего писателя было бесспорно. Оно подтверждалось хотя бы тем, что такой роман уже был написан одним из самых одаренных литераторов двадцатого века, а может, и всей человеческой истории.
Но, к счастью, новая разрушающе прекрасная мысль не успела посетить Лёшуа, так как секретарша наконец пригласила его войти в кабинет. Встав с кресла, Лёшуа вдруг ощутил себя узником концлагеря. На подкашивающихся трухлявых ветках, бывших некогда ногами Лёшуа, с гудящей головой, учащенным сердцебиением и тошнотворной пустотой в желудке он направился к двери.
Подобным образом он чувствовал себя лишь однажды. Когда признавался в любви однокласснице, зная заранее, что шансов нет. Эта подсознательная параллель позволила Лёшуа расслышать в своей голове едва пробивающуюся хилую нотку счастья в грохочущей симфонии страха и отчаянья. Уловив в себе эту нотку, он постарался сконцентрироваться на ней, и вот она вдруг захватила все его существо. Открывая дверь в кабинет, он слышал лишь эту мелодию подлинного мажорного счастья. Лёшуа объяснил парадоксальность его нынешнего состояния счастья тем, что самое страшное уже позади. Что уничтожающее ожидание закончилось, и теперь всё наконец решится. И как бы оно ни решилось для него, это всё лучше, чем ожидание.








