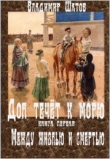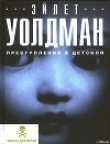Текст книги "Ты так любишь эти фильмы"
Автор книги: Фигль-Мигль
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Мент ошивался поблизости и выглядел всё более зловещим. Его вид отравлял приветливое чистенькое пространство торгового центра, и я почти чувствовал, как мой взгляд становится больным и потерянным. Торговые центры, супермаркеты чем огромнее, тем лучше, всегда поднимали мне настроение: в них были и жизнь, и осмысленность, не только изобилие, но и порядок, хороший воздух, беззаботная музыка, спокойные лица. Но сейчас, в состоянии перенапряжения, я забыл, за чем пришёл, и слишком многочисленные витрины и вывески (слева – ножи, справа – духи) не могли помочь вспомнить. В специализированный магазин идёшь с определённой целью, за конкретной книгой, телефоном, галстуком или бутылкой вина конкретного производителя. Цель похода в Торговый Центр – поход в Торговый Центр. Купленные там книги, галстуки и вино будут куплены не в результате поиска, а просто потому, что попались на глаза. А кто сказал, что случайно на глаза не может попасться что-то действительно ценное?
Не зная, что делать – срочно уйти, остаться и понаблюдать, – я с надеждой смотрел на свой мобильник: вот он запоёт, и все мои беды разрешатся. Энергичный, волевой разговор – даже если позвонит жена или Анна Павловна – позволит сделать вид, что нечто произошло, и удалиться энергичным, волевым шагом. Может, вопреки инструкциям мне сообщат пароль, и мы с ментом разойдёмся, обменявшись заветным, наконец-то добравшимся до меня словом. (Но нет, пароль, если дело в нём, будет лежать в дупле через неделю, я сообщу, что пароль и курьер разминулись, и продолжу ломать голову, а по итогам года получу выговор.) Повторяю: таким вещам на лету не учатся. Им учатся в разведшколе или ещё где-то, переходят с курса на курс, получают оценки и зачёты. Телефон в моей руке так и не зазвонил. Мент пропал из виду, но я ощущал его присутствие.
Приехав в школу, я водрузил на свой стол купленный в ТЦ глобус и сел писать отчёт для Конторы, гадая, упоминать в нём происшествия последних дней или нет. У происшествий было три объяснения, это:
1. Акции, направленные на Контору в моём лице.
2. Акции, направленные лично против меня.
3. Никакие не акции, а предвестники паранойи.
Пункт 3 для отчёта в любом случае не годился.
При желании читающий отчёт инспектор выведет его самостоятельно из пункта 2 – информировать Контору о каковом не следует тем более. Контора не прощает сотрудникам даже тех проблем, которые возникают по вине Конторы, что уж говорить о личных. Только заикнись – и будешь писать объяснительные до самой пенсии, а может, и пенсии никакой не будет.
Факты: какие-то тени постоянно льнули к моей машине; оборванец спросил дорогу; мент спросил, не нужна ли мне помощь. С отвращением я взглянул на зеркало рядом с дверью – огромное в огромной раме. Как оно сюда проникло? Я его не вешал, зеркалу не место в кабинете. Его угрюмое свечение возвращало мне мой собственный взгляд таким искажённым, словно меня насильно раздвоили и поставили приглядывать за самим собой. Шпионить, одёргивать, вкрадчиво и недобро напоминать. Быть Конторой в моей голове, если уж не в сердце.
Когда-нибудь разобью. Наберусь сил и разобью. Вот именно. Программа-минимум: погубить Россию. Программа-максимум: битьё зеркал.
В дверь деликатно стучат; дверь открывается.
– Анна Павловна, – спрашиваю я, – вы не знаете происхождение слова «волына»? Это пистолет.
– Я знаю, что такое волына. – Анна Павловна проходит к окну, пристраивает свои бумаги на подоконнике, оборачивается. – Во времена моего детства это слово было очень популярно.
– Но вряд ли в вашем кругу?
– Мы жили в коммунальной квартире. Семь комнат, семь семей. Представители всех социальных слоев – кроме самой верхушки, разумеется. Вряд ли вы осознаёте, Константин Константинович, на что это походило. Не зоопарк, нет. Или зоопарк, вокруг которого высокая решётка, но сами клетки не заперты. Мелким зверькам не спастись от хищных. Но и хищным нет пути на волю. – Она задумывается, поправляет ладонью причёску. – Ещё в большом ходу было слово «шпалер». Однако, если не путаю, шпалер – это не любой пистолет, а наган. Ну а слово «волына» возникло на юге, по той же аналогии, что и «волынка» – я подразумеваю музыкальный инструмент. Полая трубка легко ассоциируется со стволом пистолета.
– Но в волынке их несколько. Трубок.
– Ну и что?
– А шпалер?
– Не знаю. В литературном языке «шпалера» – это ряд деревьев по сторонам дороги или шеренга войск по сторонам пути следования кого-либо. Вы просмотрели планы на будущий триместр?
– А почему у нас, кстати, триместр, а не четверть?
Анна Павловна улыбается сочувственно, мудро, неторопливо – в общем, с полным впечатлением, что она не улыбнулась, а подавила вздох. Разумеется, тяжкий.
– Вы же настаивали, Константин Константинович, не помните? Сказали, что родители испытывают понятное недоверие ко всему, что напоминает им об их собственном советском школьном опыте. Что слово «триместр», напротив, вызывает надежду и доверие. Ассоциируясь с принятым в системе высшего образования семестром и опытом цивилизованных стран.
Кошусь в зеркало. «Образумьтесь, К. Р.», – отвечает оно.
– Верно. Зато теперь недоверие испытывает роно. В этих планах, которые я должен был просмотреть… есть что-то необычное?
– Почему вы так подумали?
– Потому что вы уже в третий раз о них напоминаете.
«Всё нужно делать вовремя, – говорит терпеливая улыбка Анны Павловны, – тогда и досаждать никто не будет». Сама завуч успокаивающе поводит плечом. Шансов попасть в наши планы у чего-либо необычного нет.
– Хорошо, сегодня просмотрю. О-бе-ща-ю, – говорю я с нажимом и (он-то как сюда затесался?) с вызовом. – Что-нибудь ещё? Как там Шаховская?
– Шаховская вторую неделю болеет. Звонила её мать: грипп.
– Ну и слава богу.
Происходит Разговор Взглядов. «Простите, вырвалось, – говорит мой. – Хотел подумать, а сказал вслух». – «Думать нужно над своими словами, Константин Константинович, – говорит взгляд завуча. – А ещё лучше, думать над тем, чтовы думаете». – «Ладно, я извинюсь». – «Слушаю вас». – «Что, вслух извиняться?» – «А вы как хотели?» – «Я уже очень давно не хочу никак». – «Константин Константинович!» – «Ладно, ладно».
– Ладно, ладно. Поручите кому-нибудь её подтянуть, когда пойдёт на поправку.
– Я попрошу Елену Юрьевну. Против неё девочка не настроена.
Мы одновременно смотрим друг на друга Проницательно – и я, как всегда, не выдерживаю первый. Святая, святая! С полпинка заставит человека чувствовать себя кругом виноватым, и он действительнобудет виноват, как виноват крепыш рядом с чахоточным или педераст на фоне многодетной матери.
– Знаете, Анна Павловна, что странно? Как быстро устаревает сленг. Помните, лет семь назад подростки говорили: «с полпинка»? Но вот я попривык, даже пользуюсь… а слово куда-то делось. Вы не слышали от девочек?
– При мне так никто не говорил.
– Это значит «без проволочек».
– Вот как? Полагаю, нужно придерживаться жаргона собственной юности, раз уж вообще тянет на подобные вещи. Тогда выглядишь старомодным, но не смешным.
– Да, винтаж сейчас в моде.
«В дураке и Бог не волен», – говорит её взгляд. «Вверх не плюй: себя побереги», – отвечает мой. «Школа отлажена, как японский завод», – встревает зеркало. Зеркалу радостно вторит интерьер кабинета: всё это неброское, самоуверенное, симфония труда и капитала. В зеркале видно, как за моей спиной луч солнца почтительно ощупывает какие-то папочки. Отражение врёт. С чего бы это солнцу приседать перед баблом, Конторой или мною лично? «Почтительно», как же.
Сам разберусь, неожиданно принимаю я решение. Не обязательно информировать Контору о каждом своём чихе. (Хотя именно это обязательно и предписано инструкцией.) Я оборачиваюсь и вижу, что солнце роется на моем столе так, как я и предполагал: весело, небрежно, бездумно.
Херасков
1. НЕ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЙ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ СТАКАНА ВОДКИ.
2. ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ ТОЛЬКО ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ СТАКАНА ВОДКИ.
3. ВЫБРАТЬ ИЗ ДВУХ ВАРИАНТОВ ОДИН И ВСЕГДА ЕГО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ.
Шизофреник
Кто-то, чья жизнь проходит по рельсам расписанного на год ежедневника, между будильником и таблеткой снотворного на ночь, верит в судьбу и предопределение, но кто-то другой, возможно буквально опутанный непредсказуемыми совпадениями, опасными или нагоняющими страх, продолжает думать, что совпадения случайны и бессмысленны, что небольшие осечки никак не сказываются на работе большого механизма, что передовую статью связывает с гороскопом на последней странице только одинаковый шрифт, да и то не всегда.
Не факты воздвигают мир веры, ответил бы на это писатель, и не им дано его разрушить. Но люди верят по-разному. Одни тупо, неколебимо убеждены, что совпадения всегда сыграют в их пользу и совпадут, только если им надлежит совпасть, учитывая чаяния заинтересованного лица; другие же изводятся от беспокойства, подозревая, что усилия судьбы направлены против них, и ещё подозревая, что они так и не узнают наверное, что считать «за», и что – «против».
Думая об этом, я сам на миг воплотился в судьбу, в одно из её послушных орудий (послушных либо строптивых, ибо орудия судьбы – о, они бывают настолько своевольными и одержимыми жаждой воли, что норовят и порою, как знать, исхитряются укусить держащую их руку, если предположить, что судьба наделена руками, – а как же не предположить, об этом ясно говорит сама идиома; я, конечно, был послушным орудием, то есть таким, которое обходится без «зачем», «за что» и «почему я», потому что раз у судьбы есть руки, руки эти наверняка длинные), да, простите, воплотился в судьбу, налетев на какого-то неведомого господина. Не успел от парадной отойти – и вот незадача.
Крепкий, приземистый, дорого одетый – он был безусловный господин, его крепость и приземистость не казались вульгарными, они указывали на основательность, силу, порядок, торжество законов физики и законов вообще, на таблицу умножения, в которой безусловность умножается на незыблемость; уж таблица-то умножения вульгарной никому не покажется. Но взгляд был ужасно насторожённый, затравленный взгляд. Я вымолил прощение, и мы мирно разошлись, я пошёл дальше, а он – к своей машине – чёрной, сияющей, это удивительно, как сияют такие чёрные машины, – но когда я, отойдя, обернулся, то увидел, что он стоит рядом с машиной и смотрит мне вслед, и хотя с такого расстояния уже было не разглядеть, прибавилось насторожённости в его взгляде или убавилось, это заставило меня съёжиться.
Я доплёлся до кустов и притормозил. Мне необходимо было обернуться, но так, чтобы это не выглядело вызывающе, а ещё лучше – не выглядело никак, то есть обернуться незаметно. Для начала я зашёл за кусты… и именно этого делать не следовало, ведь когда начинаешь прятаться и высовываться из кустов, выглядеть незаметно или, по крайней мере, не выглядеть вызывающе сможет разве что специально обученный и натренированный человек. Тогда, с видом человека, который не нашёл за кустами ничего интересного – и нельзя сказать, что сильно разочарован, потому как, что же интересного найдёт (необученный пусть, нетренированный, но) взрослый человек в кустах дворовой сирени, – но все-таки отчасти разочарован, ведь что-то он искал, ведь зная, что в кустах или за кустами для него нет ничего интересного, взрослый человек не станет туда соваться, – я вышел на открытое место. И спокойно встал, уже не спиною. И посмотрел на господина, всем сердцем надеясь, что к этому моменту господин давно уехал на своём сверкающем чёрном.
Он стоял как вкопанный и смотрел прямо на меня. Не просто перед собой, но именно на меня.
Это ничего, сказал я сам себе с надеждой, которая меня самого не обманула, он мог задуматься, вспомнить, что чего-то не взял, мог прикидывать, возвращаться за забытым домой или обойтись, а если он живёт где-то в другом месте, приезжал не к себе домой, а в гости, и ничего в гостях не забывал, – что ж, он мог просто стоять и любоваться освещением и прекрасной архитектурой.
Всё это он мог, но только ничего из этого не делал. Смотрел не в пространство и думал не о пустяках. Глаза его не отрывались от моей нелепой фигуры.
Я попытался вспомнить, какие у него глаза. Вот странно: их выражение запало мне в душу, но цвет, какого они цвета? Правда, я был и есть в тёмных очках, сквозь которые цвет глаз незнакомца можно определить только приблизительно, «скорее тёмные» или «скорее светлые», но мне не удалось и это. Мысленно я вызывал разные оттенки карего и разные оттенки серого, включая распространённый серо-зеленый, – и ни один не отозвался искоркой узнавания; а обращаться к цветам необычным, редким – ярко-голубой, ярко-зелёный – не было смысла: у господина не могло быть ярко-голубых глаз, потому что ярко-голубые я бы разглядел и запомнил, так говорит логика.
У меня не было и пригодных к случаю сравнений, «волчьи глаза», например. Какие у волков глаза – серые, как они сами (волки не всегда серые, причём не только степные и полярные, но и те, которым полагается быть серыми, обычные волки средней полосы); жёлтые (писатели часто сообщают о «жёлтых, как у волка» глазах своих персонажей) или пёстрые, как пчёлы. Глаза, цвета которых я не знал, были (вот что заставило меня думать о волках) напряжённые, ждущие, но спокойные, точнее, в них было угрюмое приятие (не путать приятие с покорностью, ведь приятие означает простое признание факта, вовсе не смирение перед ним), да, простите, угрюмое приятие судьбы. Поэтому он показывал свои глаза столь откровенно, – поэтому мог стоять и смотреть на меня – и даже если на моём месте оказался бы кто-то решительный и смелый, этой смелости всё равно бы не хватило подойти и спросить: «чего уставился». Даже судьба, на которую, в сущности, он и смотрел, не могла не признать его силы. Уступить она, конечно, не уступит – где это видано, чтобы судьба уступала, особенно в такой игре в гляделки, но всё же, всё же… хоть что-то… И тогда я быстро отвернулся, рукою прикрывая, поверх очков, собственные глаза. Собственных глаз – несчастных, неисцелимых – я стесняюсь и постоянно ношу тёмные очки.
И Гриега
Между стендом с памперсами и стойкой с костылями стоит манекен. Вид которого одновременно пугает обилием травм и взбадривает. (Всё лечится; все лекарства есть здесь, под рукой, в нашей аптеке.) Череп его покрывает ловко скрученная из бинта шапочка. Щека заклеена пластырем. На носу сидят солнцезащитные очки – но понятно, что не в качестве солнцезащитных. А чтобы скрыть какое-то жуткое повреждение глаза. Шея – в жёстком воротнике-корсете. Одна рука в гипсе, другая опирается на палку, оба колена замотаны эластичным бинтом, на левом поверх бинта ещё сеточка. Даже футболка на нём какая-то сиротская, пострадавшая от капель йода.
Манекену б, бедняге, где-нибудь присесть, а ещё лучше – прилечь. Может, даже на больничную койку. Он стоит, терпит. Интересно, работники аптеки как-нибудь его называют: Ваня, там, Петя. Лично я дал парню имя Земеля. Оно как-то сродни всем этим бинтам. И повязкам.
Я часто ходил в эту большую круглосуточную аптеку, особенно по ночам. Выписывал круги по залу, постоянно – словно что-то тянуло – оказываясь перед Земелей. В этом заведении он начинал казаться единственным живым и страдающим существом: работники были ограждены от сторонней жалости своими белыми халатами, а покупатели… Ну, человек в функции покупателя. Жалости не вызывает никогда.
Земеля, Земеля, кто ж тебя так? (Глупый вопрос. Кто угодно. «В ножки кланяюсь всем, кто не собирается немедленно меня зарезать», – говорил один мой знакомый до того, как подох, получив в башку кастетом.) Стенд с памперсами перетекал в полки с детским питанием. А за ними начинались безбрежные шампуни и всякое такое, чтобы не выглядеть засранцем. А ведь ты им всё равно выглядишь, на этом, гм, фоне.
Тут я увидел. Как в моём направлении топает охранник. И понял, что сейчас. Мне в ультимативной форме предложат убираться прочь. Стало обидно. В этойаптеке я пока что ничего не скрысил, а в отчётный момент даже и не примерялся. Может, и вовсе не примерюсь. Приятно иметь под боком хорошую незапалённую аптеку.
– Вам помочь?
– Помочь сделать что? – уточнил я.
Был бессмертный стремящийся к нулю шанс. Что охранник окажется чем-то большим, чем простой алгоритм в униформе. (Сложный алгоритм, ха.) Хотя бы пошутит. Его тусклая рожа и отсутствующие глаза уже предоставляли полную информацию, но я ждал чуда. Потому что должно быть так, чтобы раз. На миллион. Охранник, снаружи неотличимый от других охранников, внутри был устроен как-то иначе.
– Давай, парень. Либо ты покупаешь и уходишь, либо ты уходишь просто так. Ключевое слово – «уходи», ясно?
– Спасибо, что не «убирайся».
– Шевелись.
Шанс стремился к нулю так усердно, что достиг его. Вопреки математике. В которой стремящееся к нулю стремится всегда. Хотя, кажется, я перепутал ноль с бесконечностью.
– Зря вы так, дядя. – Он был мой ровесник, но действительно натуральный дядя и член общества. Успевший даже выполнить демографический долг – вон кольцо на пальце. У таких жёны и дети заводятся синхронно.
– ШЕВЕЛИСЬ.
– Да шевелюсь, шевелюсь. – Меня так и подмывало спросить. К нулю он стремится или к бесконечности. Но про алгоритмы я хорошо помнил. Что процесс применения правил к исходным данным у них вполне однозначен. Как и сами правила.
Я вышел на улицу, надел очки, посмотрел на небо, снял очки. Старине Земеле не приходится выкручиваться: пасмурная погода, вечер, ночь – он стоит в своём уголку, и никто не вяжется к чёрным стекляшкам. А на мне они, как клеймо Каина. Благодаря поганым книжонкам и журнальчикам теперь все знают, что. В отсутствие солнца тёмные очки носят Не Просто Так. Вечером в очках идёшь до первого голодного мента. Но без очков чувствуешь себя голым.
Вот, кстати, разница между пьяным и вмазанным: пьяный думает, что никто не видит, что он пьяный, – тогда как все это прекрасно видят; а торчок думает, что все видят, что он вмазался, – хотя этого не видит никто.
Размышляя, я пошагал себе. Навстречу шла компания семинаристов. Ну, наверное, это были семинаристы, молодые и в чёрных таких щегольских рясах. Или как назвать. (Я знаю слово «епитрахиль», но вряд ли оно сюда катит.) Они улыбались и переговаривались, семинарский шик во всей красе: пушистые волосы, золотые перстни, недешёвый запах туалетной воды. Семинаристы всегда сильно душатся. Возможно, мне попадаются одни и те же, но я. Привык думать «семинарский шик» обо всех скопом. Как, например, думают и говорят «университетский снобизм». Думать посредством клише по-настоящему удобно. Быстро, логично, общеприемлемо. И нельзя сказать, что велик риск промахнуться.
Зачем-то разворачиваюсь и иду следом. Меня обуревает жажда деятельности. Находись я сейчас дома, кинулся бы делать ремонт и через двое суток закончил. Окажись под рукой митинг – принял бы посильное участие в мордобое. Горы готов свернуть. И шею тоже. Чья это одухотворённая морда в мимолетящей витрине? Чьи это козырные ботинищи? Я внимательно посмотрел. Сперва на отражение ботинок, потом – собственно на ботинки. Один мой знакомый (надо узнать, не подох ли) верил в то, что отражение, в отличие от объекта, не перестаёт существовать. Человека, вкупе с его обувью, давно нет на свете, а оно блуждает. В глубине всех зеркал, мимо которых тот когда-либо проходил. Парня не оторвать было. Так он прилипал ко всякому древнему зеркалу – может, прадедушку своего искал, или Пушкина. Там же до дури этих отражений, если он прав, и не каждое выманишь. На дудочку, свист или волшебное слово.
И семинаристы куда-то делись.
Корней
Какой-то молодой глупый пудель, привязанный у булочной, плакал и кричал: «На помощь!» Я хотел подойти и объяснить, что хозяева как вошли в лабаз, так и выйдут, а питающихся пуделями бомжей Боженька сегодня пронесёт мимо – да и не жрут они таких мелких, а если всё же жрут, то не средь бела дня. Но Принцесса потащила меня прочь. Не дёргай ты поводок, дура! Куда опаздываешь? Прямо, всё прямо, как вороны летают… Брррр. Путь Дао – это путь кругами и зигзагами: туда отбежал, здесь понюхал; идёшь, куда случай повёл, а вечером всё равно обнаруживаешь себя на родном диване, но умудрённого, и в сон клонит. Не понимаю, что значит «опоздать» и возможно ли такое вообще. Можно прийти куда-то не туда, но если уж пришёл куда собирался, то ведь пришёл? Находишься в том самом месте, которое значилось в твоём плане. Оно не изменилось. Как бы оно могло измениться, сгореть разве? Ну и зачем в пожар лезть?
После злополучной поездки на дачу Принцесса день ходила злая, а на второй позвонила по телефону, который дал ей Антон, – и хотя разговаривала самым ледяным университетским тоном, о чём-то договорилась. И вот, теперь несёмся. По улице – неслись, через парк – неслись, в развозку – влетели. Не успел моргнуть – стоим на лестнице. Лестниц таких я ещё не видел, разве что в Институте культуры. У нас подъезд приличный, у нашей мамы – очень приличный, но здесь я начал постигать, что такое «парадная». Всё мраморно! Блещет! Широко так, что перил не видать! Мы с Принцессой глянули друг на друга, и я сделал хвостом «гм». Принцесса только нос повыше задрала.
Дверь открыл высокий мужик в чёрном. Глаза у него были широко поставленные и откровенно жёлтые. Подбородок тяжёлый. На подбородке шрам. Тать не тать, да на ту же стать.
«На черта ему библиотека», – подумали мы.
– Прошу.
В этих хоромах можно было потеряться. Не заплутать или заблудиться – чего уж, места и воздуха много, мебели мало, – а почувствовать себя Потерянным. Вот в лесу, например, в лесу столько всех и всего, что и заблудившись, не почувствуешь себя одиноким. А здесь даже не знаю, как: будто в нехолодном снегу. И лежит этот снег во все стороны, без следов и движения, и все запахи умерли, кроме хозяйского одеколона.
И вот, дошли наконец куда-то, разместились. Принцесса подумала и устроила меня рядом с собой. Я сидел смирненько. Поцарапаешь такому кожаный диван – так и самого на новую обивку употребят.
– Вероятно, имеет смысл внести уточнения, – говорит Принцесса. – Вам нужен просто первый ряд всемирной литературы, или полная библиотека по какому-то периоду, или что-то узкоспециальное?
Тать сидит напротив нас, тоже на кожаном диване, но так далеко, что чую я его лучше, чем вижу. Вроде как разглядывает нас и ухмыляется. Ноги вытянул, ботинки сияют. Как это он по собственной квартире в ботинках ходит?
– Алексей Степанович?
– Называй меня Лёха.
– Не тычьте мне, пэтэушник!
Ой, подумал я. Ой. Ой.
– Откуда я узнаю, что мне нужно, пока этого не увижу? Собирай с нуля, как для себя. По ходу разберёмся.
Принцесса делает глубокий вдох. (Мама всегда учила нас делать Глубокий Вдох, если что не так. Правда, ещё она учила считать после Вдоха до десяти и всё это время улыбаться. Но это несущественные детали.)
– Ювелирка – дело трудоёмкое. Шлифуют те камни, в ценности которых уверены, понимаете?
– Понимаю. Ты ещё не решила, алмаз я или булыжник.
– Не тычьте мне!
– Это проще, чем ты думаешь.
Удивительно мягкий у татя голос: неторопливый, ленивый. Ненаигранно спокойный. Не такой, как бывает у Принцессы, когда та силится самоё себя утихомирить.
– Хорошо, зайдём по-другому, – говорит Принцесса сквозь зубы. – Сколько места вы отвели под книги?
– Сейчас покажу.
Мы идём вдаль, чтобы наконец оказаться в пустом, если не считать пустых книжных полок, зале. Наособицу стоял старинный книжный шкаф, а в шкафу – эти переплётики я узнал, получил однажды таким по заднице. Брокгауз это был, вот кто.
– А-га, – говорит Принцесса. – Прекрасно, начнём со словарей. Даль, Фасмер, Срезневский, РБС… Фразеологический… Орфоэпический… Иностранных слов… – Её глаза разгораются. – А словарь братьев Гримм не хотите? – Она благоразумно умалчивает, что в словаре братьев Гримм тридцать два тома и триста пятьдесят тысяч слов, и то издание, которым пользуется, всё проклиная, она сама, набрано готическим шрифтом. – Потом античка… Ну здесь немного, полок двадцать, если с позднейшими историками… – Принцесса (ей уже жарко от радости) снимает свитер. – Без позднейших историков никак нельзя, – добавляет она. – Хотя бы Гиббон, Моммзен, – она осекается, что-то вспомнив. – А какая у нас смета?
– Смета не ограничена. Ну-ка, покажи наколку.
На предплечье Принцессы вытутаирована надпись NOT FOR SALE.Когда наш супруг её увидел, то просто взбесился. Мама тоже взбесилась, но по-другому, из-за татуировки в принципе. Супруг, тот вник в суть и отчего-то почувствовал себя оскорблённым. Объяснять, правда, ничего не стал, но уж так смотрел… Ядовито. И с обидой.
– Нравится? – спрашивает Принцесса, подтягивая рукав.
– Ничего. А это правда?
– Я никогда не лгу.
Тать ухмыльнулся и промолчал. Когда мы, уходя, уже спускались по лестнице, он окликнул с площадки:
– Эй, Принцесса!
– Либо «эй», либо «принцесса», – говорит Принцесса не оборачиваясь. – Что-то одно.
– Начинаем послезавтра. В пятницу, тринадцатого.
Она всё-таки обернулась.
– Пятница, тринадцатое?
– Люблю этот день. Он приносит удачу.
– Что ж, – говорит Принцесса медленно, – вам понадобится.
Принцесса ещё долго кипела. «Корень, а ты заметил, как пэтэушник подстрижен? А рубашечка?»
«Чего, – подумал я, – Армани?»
– Армани не Армани, а только кто сейчас наденет шёлковую приталенную рубашку? Лёха он, видите ли! Да у тебя и на лбу написано, что ты Лёха, а не Дэвид Боуи! Скажи, Корень, он ведь подстрижен, в точности как Боуи на той обложке семьдесят шестого года, правда?
«А что, – думаю я, – это плохо?»
– Если сам Боуи – не плохо. А если, «как Боуи», и при этом Лёха, – ну?
«Чего "ну"? Ой, гляди, палочка!»
– Куда?! Корней, не смей в лужу! Не трогай, она грязная! Не лезь, дурак, глисты будут!
«Сама дура!»
– Ты меня будешь когда-нибудь слушать? Я с кем вообще разговариваю? Я вот думаю, были же примеры в истории, может, он действительно облагородится?
«Ага. Но зачем ему братья Гримм?»
– Правильно, сейчас он разбогател, а в следующем поколении просветится, а ещё в следующем – научится извлекать из просвещения радость. Следующее после следующего – это внуки, так? И у меня дед почти в лаптях ходил…
«Братья Гримм-то зачем?»
– Съездим в Крупу, с жучилами поговорим… Да не прямо же сейчас, тупица! Куда ты тянешь?
И вот, приходим домой, там Гарик. Смотрю: опухший какой-то, синячищи – били его, что ли? Супруг наш тучей принахмурился, а Гарик, когда брат мрачный, всегда начинает кривляться. В обычный день один неохотно спрашивает, другой ещё неохотнее отвечает, и оба горят надеждой поскорее разбежаться. А в неудачный словно радуются, что друг друга изводят. «Если бы я не обещал матери за тобой приглядывать…» – начинает старший. «То давно сдал бы во вторсырье», – отзывается молодой. «Теоретически у меня мог быть сын твоего возраста…» – «Повезло же кому-то не родиться».
И вот, беседуют они таким манером, тут мы. В кои-то веки нам обрадовались. Но ненадолго.
Слово за слово, и наш супруг фырчит уже на два фронта.
– Гарик, ты как? – спрашивает Принцесса.
– У него всегда всё в порядке, – вмешивается супруг. – Чёрт его не возьмёт, а Богу не надо.
– Ага, – куражится Гарик. – Я – лицо, которое не успело принять участия в преступлении по независящим от него причинам.
– В каком преступлении?
Гарик делает широкий жест.
– В жизни. В Покупании, Пожирании и попутном Истреблении. В том, что твой муженёк считает долгом перед Цивилизацией.
– Всё идёт к тому, что мой долг перед цивилизацией – поскорее купить шпалер.
Принцесса поднимает брови, Гарик фыркает.
– Шпалер? Кто так сейчас говорит?
– Нет, пусть, – заступается Принцесса за родную речь. – Это хорошо, когда много синонимов. В английском сленге и того нет, всё gunда gun.
– Очень даже есть, – говорит Гарик. – Gun– вообще не сленг. В сленге говорят steelи heater.Это как раз будет «ствол» и «шпалер».
– А «волына» как будет?
– «Волына» будет piece.А ещё есть gatдля револьвера и bitchдля крупнокалиберного обреза. В общем, у них больше.
– Piece всмысле «кусок»? – интересуется Принцесса.
– Ну да. Heater-«поддаватель жару», steel– понятно. A y нас «железо» – это механизмы всякие: машины, там, компьютеры. Чудно?
– Ну и зачем тебе, Костя , heater?
– Пригодится, – отвечает наш супруг холодно. Лингвистические пояснения он слушал внимательно, а теперь делает скучные глаза и играет часами. Есть у него такая привычка: он даже ремешок не плотно затягивает, чтобы часы свободно ездили по руке над кистью.
– Скучаешь по опасности?
– Нет. Но ясности не хватает.
– Никогда бы не подумала, что ты смотрел этот фильм. А про уровень ущерба помнишь?
Наш супруг кивает.
– Уровень ущерба? – спрашивает Принцесса официальным важным голосом.
– Все убиты, – отвечает он.
– Это Бонд, что ли? – спрашивает Гарик. От него отмахиваются.
– А какой там Макс фон Зюдов! – восклицает Принцесса.
– Да. «Кондора я прошляпил, значит, Вике бесплатно».
– Только жаль, что так смешно заканчивается, – говорит Принцесса с грустью. – Пойти за справедливостью в газету – это финал для чёрной комедии, или какая-то уж абсолютная драма.
– А куда ему было идти?
– Фон Зюдов ведь сказал, куда.
– Ты не понимаешь, милая. Этот человек не был убийцей, его и не растили в убийцы. Он сидел и анализировал книжки.
– Но ведь у него получилось?
– Один раз, милая, один раз.
– Там таких разов за три дня -
– Я это и имел в виду. Даже самые насыщенные и удачные три дня – далеко не вся жизнь.
Гарик обмякает на диване и начинает похрапывать. Лицо становится потерянным, как у избитого ребёнка. Я пристраиваюсь поближе, слушаю, как стукает Гариково сердце.
– Скотина, – говорит наш супруг без выражения. – Придётся везти.
– Не о везении речь. Я о Кондоре. Это вопрос призвания. Сидел, анализировал книжки – а потом события показали, кто он такой на самом деле. Оставь, пусть спит.
– Незачем его приваживать. Эта публика так и норовит подохнуть на чужой жилплощади.
– Костя, – говорит Принцесса сухо, – он же твой брат.
– О своих сёстрах вспомнить не хочешь?
– Они всего лишь единокровные. А потом, ты сравнил брата с сестрою.
Они без радости смотрят друг на друга, и Принцесса сквозь зубы замечает: «В конце концов, это не моё дело», а супруг сквозь зубы ответствует: «Совершенно верно».
Не дожидаясь продолжения, я скоренько убрался прочь. Пошёл в кабинет, и уже на том диване, завернувшись в плед, сделал попытку. Проанализировать. Платок, Лёху, мотивы молодого маминого гада. Анализировал-анализировал, да и забылся в объятьях Морфея. Как-то это сопряжено.
К. Р.
Мерзкий человечек. В тёмных очках.
Да, признаю, что проклятые очки лишили меня всякого равновесия. Даже при ослепительном, всё оправдывающем солнце – на белых пляжах, в белых горах – я кошусь на них с подозрением и опаской; этот же шут гороховый стоял посреди серенького, больного близким дождём дня. Север, осень, деклассированная молодёжь – и он.