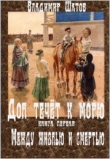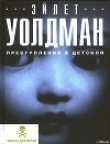Текст книги "Ты так любишь эти фильмы"
Автор книги: Фигль-Мигль
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Нет, нет. Мне досталась женщина, которая мечтать не умеет. Любая, самая невинная, мечта претворяется в её руках в опасную и увесистую действительность. Я был неприятно удивлён, когда после «Рима» меня не отправили покорять Египет. В конце концов, это обидно – до такой степени считаться ни на что не годным. Уж на то, чтобы с честью сдохнуть где-нибудь по дороге, гожусь даже я.
Здесь главное – пуститься в путь; подвиги совершаются на автопилоте. Это как с любовью: один раз отмучился и считаешь себя поумневшим, излечившимся, а потом приходит новая любовь, и ты повторяешь все те же ошибки, только ещё страшнее и непоправимее. (Идиот.)
К. Р.
Случайно придуманный мною профессор древнегреческого всерьёз занимает моё воображение. «Каким он должен быть?» – гадаю я, сочиняя план занятий для девочек или текущий отчёт для Конторы. (Насколько труднее оказалось сочинить человека.) Я вложил в эту забаву столько сил, что начал чувствовать себя двойным агентом, аккуратно и бережно созидающим креатуру для тайной игры против своих хозяев – если бы нашлись в мире силы, готовые заплатить за подрывную деятельность такого рода: древнегреческий versusпорядка вещей.
Итак, прежде всего – широкая финансовая независимость. Наследственная или благоприобретенная? С одной стороны, не хочется, чтобы у моего профессора в активе были трудное детство и папа-алкоголик. Однако спецшкола и папа-секретарь горкома оставляют на человеке клеймо едва ли не хуже, и если мне нужен поэт и убийца, душа необузданная, блестящая и во всём высокомерная, не в этот питомник следует обращаться.
Единственный выход – сделать вид, что герой явился из ниоткуда, из бессистемного дыхания Бога, из ПТУ с такой же вероятностью, как из спецшколы. (Забавно. Один и тот же термин прилагался и к школе с углублённым изучением иностранных языков, и к школе полутюремного режима для трудновоспитуемых подростков. И мне ли не почувствовать эту тонкую насмешку языка над жизнью – основателю и бессменному директору элитного лицея для девочек, закрытого пансионата, в котором широким ассортиментом цветут барышни-хулиганки.) Возможно, и деньги его – ниоткудашние? Сильнее, чем репутация, пятнается богатство вопросами о происхождении, и если вовремя не замолчать, не заболтать, не налгать с три короба, сокровища запахнут сортиром. Взять хотя бы этот кабинет. Его самоуверенная роскошь уже не расскажет о годах накопления и потерь. Наборный паркет не покается, красное дерево стола и полок не выдаст, бронза письменного прибора не дрогнет; все они промолчат. Даже моя собственная рука, которая так спокойно посверкивает запонкой на столе – не рука, а ещё одна деталь обстановки. (Уж она-то ведает, что творила.) Сверкай, моя милая, слепи глаза памяти. Профессору придётся стать пижоном.
Тук-стук, на пороге появляются завуч Анна Павловна и её бумаги. Порознь они ко мне никогда не ходят. Огромная пачка бумаг увлекает за собой тщедушную старушку, которой очень удобно прятать за бумагами живые стальные глаза. Анна Павловна знает, что всегда настоит на своём, – за исключением мелочей, крошек с барского стола, которыми она считает нужным подкормить моё самолюбие, – и хитрить для этого вовсе не обязательно. Однако ей нравится представлять себя испуганной и робкой, смущаться, трепетать.
Собственное могущество слаще кружит ей голову, являясь в тихих словах, смиренной повадке, – куда там богам попроще, с их громами и молниями. Завуч она прекрасный, преподавание в школе отлажено, как японский завод. Как человек и патриот я не вправе был доверять ей уроки русского языка и литературы в старших – да и вообще ни в каких – классах, и за это с меня взыщется на Страшном суде, должно взыскаться, если Страшный суд – Страшный суд, а не очередная порнография. Как представитель Конторы я это сделал – прощай, русский язык! покойся в бесчестии, родная литература! – и Контора осталась нами довольна. Анна Павловна и не подозревает, бедняжка, на кого так самоотверженно работает.
– Константин Константинович, – говорит Анна Павловна, – что нам делать с Шаховской?
Катя Шаховская – бич и позор нашей школы, моя последняя персональная надежда. Она упорно не хочет быть славной, доброжелательной, разносторонней девочкой, будущей женой, матерью и бизнес-леди. Она отказывается вести дневник, отказывается сидеть за компьютером, отказывается читать «Доктора Живаго», отказывается от танцев и китайского языка, рукоделия и спортивных игр. Шаховская делает всё, лишь бы её отсюда выперли, а её родители делают всё, лишь бы мы её здесь держали. Не знаю, чего они добиваются – чтобы прямо из пансиона она переехала в психиатрическуюю клинику? Элитную, разумеется.
Я откидываюсь на спинку своего прекрасного кресла и делаю вид, что глубоко, глубоко удручён.
– Что же, – говорю я неохотно, – придётся пойти на крайние меры. Нельзя подавать девочкам дурной пример.
Завуч – она меня раскусила-качает головой.
– Отчислить Шаховскую означает признаться в своём поражении, – мягко замечает она, и её интеллигентное лицо украшается улыбкой сочувственной укоризны.
Ну да, ну да. Как мы можем потерпеть поражение и уж тем более в нём признаться. Искалечить девчонку для школы теперь – дело чести.
– Не карцер же для неё заводить, – вяло сопротивляюсь я.
Очередной кроткой улыбкой умница Анна Павловна даёт понять, что оценила шутку.
– Разумеется. Карцер никогда не бывает выходом.
Разумеется. Для Шаховской вся школа – один большой карцер, если выделить для этой цели отдельный закуток, она даже почувствует себя уютнее – удостоверившись, как это и бывает в карцере с подобными людьми, что стоит на правильном пути.
– Япоговорю с ней, – сдаюсь я. Предыдущие разговоры («Зачем вы ударили Таню Зайцеву? – Зайцева стукачка. – Катя, нельзя решать такие вопросы кулаками. – А чем же их решать?») оставили у меня мерзкий осадок чуть ли не стыда. Где это видано, стыдиться перед четырнадцатилетней соплюхой? И я стыжусь уже того, что стыжусь, а вдобавок понимаю, что этот последний стыд отвратительнее любого другого.
– Значит, я пришлю её немедленно, – теперь Анна Павловна ловко – ловчее моего – делает вид, что вовсе не торжествует. Сама она уже набеседовалась с Шаховской до тошноты (о святая, святая), но верит, что победа не за горами: ещё две, три, двадцать три, сколько понадобится попытки, и эта исступленная душа покорится, залившись слезами раскаянья и облегчения. К милосердным коленам припав.
Наконец пред мои ясны очи приводят преступницу. Она переминается у порога, одетая в нашу прекрасную форму, позаимствованную из клипа группы «Тату». Ножки худые, как спички, белые гольфы демонстративно спущены… а в этом бледном личике определённо не сияет заря обновлённого будущего. И кажется, что мой профессор встаёт рядом с этим затравленным ребёнком, поощрительно ей подмигивает, кладёт на плечо руку. Ах ты, грязный развратник! Я никогда не считал педофилию признаком хорошего вкуса.
Вкус профессора безупречен. И здесь я, помимо врождённого отвращения к contemporary art, настаиваю на костюме от Бриони. Умение подобрать машину, женщину и аксессуары бесценно, но только костюм даёт полную и бесповоротную индульгенцию. Форма настолько идеальная, что становится сущностью, он развоплощает грех, делает его холодной и жалкой абстракцией, которую уже и самый искусный моралист не приклеит к этому неуязвимому неподсудному совершенству. Вот почему Контора железной рукой и пятой реагирует на поползновения своих менеджеров среднего звена форсить не по чину. Сегодня он в Бриони, резонно рассуждает Контора, завтра с акцией на свой страх и риск, а послезавтра и с предъявой.
К хорошему костюму – хороший рост. Рост, возможно, не имеет значения для героя, которого изображает киноактёр, но герой настоящий-тот, кто проходит, если вам повезёт, мимо вас по улице, – должен быть рослым. Говорю это со всей ответственностью, как человек, который на голову ниже собственной жены, когда та на каблуках. А эта дрянь всегда на каблуках. 178 см ей недостаточно. Вот бы проучил тебя учитель свирепости, человек могучего телосложения и сведущий!
С трудом я вспоминаю, что и мне предстоит кое-кого проучить. Ввернуть что-нибудь о пошатнувшемся здоровье бедной мамы? Бедная мама – крепкая лошадь, которую хватит удар только в том случае, если кто-нибудь из подруг перещеголяет её по части курортов и тряпок. Проблемы на работе у папочки? Это мало того что неправда, это не аргумент: папочкины проблемы интересуют только расчётливых умненьких гадёнышей, умеющих быстро скалькулировать относительно проблем курс собственных карманных денег. Действительно сильным аргументом была бы собачка, но собачку в прошлом учебном году усыпили.
– Почему они не отдадут меня в обычную школу?
Да, вот вопрос. Потому, моя милая, что это подорвёт их статус. К тому же, в обычной школе ты попадёшь в дурную компанию. Или – самое страшное – в компанию не своего круга.
– Они желают вам добра, – говорю я вслух.
Говорю вполне холодно и равнодушно, даже с намёком на брезгливость – дескать, кто ещё станет это делать. Так-то, деточка: можешь ненавидеть родителей, но знай, что они – единственные, кого твоя судьба хоть сколько-то заботит. Жизнь – чёрный лес! За каждым деревом – голодный волк! Под каждым кустом – клубок змей! Красота! и вместе с тем выдумка, ибо предполагает простор для приключений, пусть и пакостных: схватка с волками, состязание со змеями. На деле всё хуже. Жизнь – это пустыня, по которой бредёшь, тщетно гадая, верблюд ты или не верблюд, беглец или изгнанник более счастливых областей, или просто несомый ветром комочек травы… а кругом только песок, только камни, только отсутствие воды, и из всех приключений – усталость и жажда.
Профессор лениво привалился к дверному косяку, скрестил на груди руки и неопределённо улыбается. Глаза у него странного медового цвета, и он смотрит на меня как на размечтавшегося мальчишку. Катя Шаховская вертит пальцы и смотрит на меня как на бесчувственное чудовище. Я смотрю на свои запонки: одну, другую. «Тайная гармония лучше явной», – угрюмо думаю я.
И Гриега
В ночь с пятницы на субботу по телевизору усердно показывают дешёвую порнографию. Телевизор, например, никогда не показывает в ночь с пятницы на субботу проповеди, аналитику и фильмы Д. Кроненберга. (Д. Кроненберга показывают в ночь с воскресенья на понедельник.) Да! В какую-то из пятниц какой-то из каналов. Показал «Большую жратву» Марко Феррери. Но это были происки антиглобалистов.
Бывало, что я днями (и, может, сутками) просиживал перед милым другом. И сладкие и надутые, как персики, губы сияли мне со всех каналов. (Смотрю рекламу. Ха-ха.) В этом не было смысла, зато. Не приходилосьзаморачиваться, отделяялицоотлица, сюжет от сюжета, кадр от кадра. Улыбаются губы в рекламе. Читают новости. Давят мелодраму. Или машут ракеткой – один чёрт. Сияют они ВСЕГДА.
Но в какой-то момент просветления я подсел на криминальную хронику и потом уже, вне зависимости от того, в просветлении был или не в просветлении, первым делом искал её.
Это была ежедневная передача (не уверен, впрочем, что одна, может, несколько передач соединились в моем восприятии в одну, и не все они были ежедневными, но сменяли друг друга), и вели её два опера. Или журналист и опер. Или журналист был постоянный, а опера и иные эксперты чередовались. Так или иначе, фишкой сделали парный конферанс. Один опер постоянно глядел с видом спокойной враждебности, другой вообще был на вид больше бандит, чем опер. Ряженые они были или настоящие, но смотрелись убойно: спокойный опер играл следователя злого, а опер-бандит – ещё злее, и вдобавок они всё время подкалывали один другого, какими-то только им известными булавками. «И он просто скончался, – говорил злой. – Скончался прям здесь, на месте». – «А рядом кто-нибудь был?» – интересовался тот, что ещё злее. «Кошка его была». – «Мне бы очень хотелось знать, куда мы придём, если станем брать свидетельские показания у кошек».
Они отсматривали, вместе с нами, съёмки оперативные и сделанные камерами видеонаблюдения, фрагменты допросов и судебных заседаний, весёлые эпизоды в моргах и на пресс-конференциях. Они говорили «вступить в огневой контакт», «работать по преступлению» и шутили. Словно персонажи комедийного фильма про Очень Крутых. («Не знаю, о чём он думал». – «Ничего. Будут тебя убивать, так всё узнаешь».) У них хорошо получалось развлекаться самим и развлекать зрителей, мешая профессиональный жаргон с философией.
У опера-бандита на скуле был шрам. Как будто ему пытались выколоть глаз, но неудачно. А у спокойного опера глаза – безжизненно-серые, то пустые, то не по-доброму сосредоточенные – иногда казались. Экранами двух маленьких телевизоров. И крутили совсем другое кино. Причём разное: в правом глазу-какая-то комковатая порнография, в левом – избиения и убийства, неразличимые детально из-за водопадов кровищи. И всё это, по-моему, не имело никакого отношения к тому. Что крутилось у самого опера в голове.
Две передачи ушло у меня на то, чтобы вглядеться, и времени без счёта – чтобы оставить попытки нащупать сюжет. Не в сюжете было дело. Даже не понимая, что происходит. Я чувствовал мощь и ужас происходящего. И, наверное, чувствовал именно потому, что не понимал. В этих глазах Порнография, Насилие, Кровища достигали таких космических масштабов. Не из-за размеров, а из-за того, что кроме них вообще ничего не было, и ты знал, что не было и не будет. Что само по себе становилось очень убедительной историей. Эпосом. Космологией. Чем-то таким.
Правонарушения. О которых в передаче рассказывалось нормальным способом. Не выглядели какими-то особенными. Чаще это были грабежи, мошенничества, хулиганские выходки – а если попадались трупы, то такие мёртвые, что становилось неинтересно. Я хочу сказать. Эти трупы невозможно было связать с представлением о них как не о трупах.То есть не хватало фантазии. Представить, что вечером накануне или неделей раньше вот этоходило, говорило, моргало и валялось на диване с бутылкой – а может, банкой – пива. В нём не было. Никакой гуманистической ценности.
Только один труп меня привлёк. Не сам по себе (опер-бандит назвал его мужичонкой с биографией крепкого интеллигента, а смотрелся он и того хуже). Но своими посмертными приключениями.
На протяжении нескольких дней источники и средства информации не могли определиться, от чего этот труп скончался. Сначала сказали, что от побоев. Потом сказали, что от сердечного приступа, а побои тут ни при чём. Ещё потом – что судмедэкспертиза нашла застрявшую в черепе пулю. Вариант, будто пуля. Застряла там когда-то раньше и к данному случаю отношения не имеет. Был рассмотрен и с сожалением отложен: выяснилось, что в тему к пуле на месте преступления найдены мозги, кровь и иные объекты биологического происхождения. Странно, конечно. Что это не выяснилось раньше. Уж если они там были, то, наверное, с самого начала, синхронно с пулей, а не так, что кто-то. Их принёс через три дня.
Шизофреник
Соседке понадобилось позвонить, но её телефон не работал, и она пришла ко мне, это новая соседка, я её только пару раз видел с собакой на лестнице. Она звонила, а я вышел на кухню, чтобы не мешать, но пока я там сидел, наткнулся на мысль, что совсем не знаю эту женщину, хотя она вежливая, и речь у неё очень правильная. Разве, подумал я, женщина с правильной речью не может подложить бомбу, как это бывает в тех случаях, о которых нам рассказали. Не подумайте, что я испугался; в конце концов, бомбой раньше, бомбой позже… Мне неприятно, что я не знаю точно. Какая она, кстати, на вид? Ведь могли сделать и совсем маленькую бомбочку, как портсигар, или спичечный коробок, или даже жетон метро.
Когда она сказала «большое спасибо» и «простите за беспокойство» и ушла, я всё внимательно осмотрел, заодно протёр пол (от микробов), и мне захотелось протереть (стыдно так поступать и думать, но откуда мне знать, что у неё за руки и куда она их совала), да, протереть телефонную трубку (я ещё подумал, что странно, что у молодой красивой женщины нет мобильника) чем-нибудь дезинфицирующим. Но одеколон кончился, и настойка эвкалипта (я её развожу и полощу рот) кончилась, и нашлась только перекись водорода, которую я и использовал для протирания, не знаю только, был ли в этом смысл. На пузырьке было написано: 3 % раствор для наружного применения. Достаточно ли трёхпроцентного? Я ничего не знал о перекиси водорода, поэтому пришлось заглянуть в энциклопедию. В энциклопедии написано, что перекиси вообще – это органические или не органические соединения, а конкретно перекись водорода (выписываю) – «бесцветная вязкая жидкость, которая легко разлагается на воду и кислород. Применяется как окислитель, инициатор полимеризации, для отбеливания волос, меха, шёлка, в медицине как антисептическое, кровоостанавливающее и дезодорирующее средство». Мне оставалось непонятным, можно ли антисептическое вкупе с дезодорирующим трактовать также и как дезинфицирующее, пришлось заглянуть в «Химию» Глинки (дома полезно иметь самые разные справочники и пособия, ещё расскажу, что у меня имеется), но в «Химии» Глинки были только формулы, пероксиды, окислители и маленькая, совсем мелким шрифтом, греческая буква, которая не должна превышать 1,776 В, чтобы перекись могла окислить вещество, которое с этой буквой как-то соотносится.
Это ужасно стыдно так не доверять людям, но я ничего не могу с собой поделать и вряд ли был бы на инвалидности, если бы мог.
Корней
Пришли с прогулки, стали мыть лапы. Ой, блядь, блядь, больно!!! Это нельзя мочить! Докторишка сказал промывать марганцовкой, а не купаться в ней! Мало того, что вся жопа исколота, ещё ты с мытьём! Потом с полотенцем! «Дай письку вытру». Дура! Это у тебя писька, а у меня – прибор.
И вот, вытерлись, намазали лапы мазью и поверх мази надели полосатые детские носки. Самые маленькие, какие были в магазине, но их всё равно пришлось ушить вдвое, и Принцесса приделала к ним кнопки. Носки смотрятся на мне как обмотки. Сижу в носках на подоконнике. Смотрю во двор.
В нашем дворе я – пацан в уважухе. Бугаи ротвейлеры и выпендрёжник стаф ворчат издали и с полным респектом – это после того, как Принцесса сломала свой пудовый каблук об челюсть стафа. Челюсть вроде как тоже сломала.
Стаф-то думал, что я фуфло с хвостиком, что никто за меня не впишется. Конечно, новое место, новый двор – и откуда им знать, что там, где мы жили раньше, анналы числят склоки без счёта, два судебных разбирательства и одну бандитскую разборку: к счастью, наш тогдашний хахаль был бандит покруче тех сопляков, эрделю которых я порвал ухо. Ну и что, что порвал? Он первый гавкать начал.
А на новом месте мы быстро освоились. Авторитет, как шерсть: вырастет на здоровом-то теле. Мне каждый раз, когда швы накладывают, выбривают всё подчистую, а потом глядишь – прёт голубушка-шёрстка из-под кожи, и кожа вновь делается шкурой.
И вот, во дворе, как вижу, гуляет всякая бодрая шваль: дети, пекинесы и один мелкий очумелый пёсик, похожий на ротвейлера в миниатюре. Мог бы хоть с ним побегать, если не по парку. Или порыться в огромной куче свежего песка, выкопать в песке Яму. Не люблю сидеть один дома.
После афронта с персиком Принцесса до того на меня прогневалась, что перестала брать на работу. И кого ты таким манером наказываешь? Мне скучно одному в родных стенах, а каково тебе одной в кругу врагов?
Принцесса читает лекции и ведёт семинар на кафедре эстетики в Институте культуры. Институт культуры – несмываемое позорное пятно на нашей репутации. Аккредитованные при этом Котле Вдохновения и Знаний учёные и писачки всякого рода набраны по принципу «с мира по нитке – голому петля». Они всё путают, портят, пачкают, порочат и огрызаются, когда им делают замечания. Принцесса тогда может топнуть ногой и закричать: «Молчать! Не смей мне дерзить, пэтэушник!» А потом хватает меня в охапку и жалуется: «С такими-то пэтэушниками в одном учебном плане! Лучше бы я пошла полы мыть! Я Человек из Университета!»
Кого другого и отправили бы наконец намывать эти полы, но наш завкафедрой твёрдо помнит, что приличным Человеком из Университета так просто не разживёшься, и только просит топать и кричать потише. «Саша, – уговаривает он, – нужно иногда идти на уступки». – «Я каждый день иду на бесчисленные уступки! – вопит Принцесса. – Только почему-то никто, кроме меня, этого не замечает!» – «Помягче бы, – уговаривает завкафедрой. – Повежливее». – «Пять раз скажешь вежливо, а на шестой – так, чтобы поняли». – «Но зачем же было бросать в него энциклопедию?» – мямлит бедняга. «Ну и что, что бросила? Я же промахнулась. – Принцесса вспоминает пережитое и начинает закипать. – А если он сказал, что Достоевский написал Александру Третьему письмо с просьбой помиловать цареубийц? Я его спрашиваю, а Александр Третий что, спиритизмом увлекался? Или у нас с тем светом почтовое сообщение давно налажено, а я как-то пропустила?» – «А он что?» – «А он, пэтэушник, глаза вытаращил, будто впервые, и на морде всё лучше, чем в том письме написано, то есть вообще ничего. Вот и беру энциклопедию, дату смерти Достоевского показать – а в паршивой энциклопедии, Митя, которая на твоей кафедре стоит, не указаны полностью даты, только год. Для Достоевского – 1881-й, и для Александра Второго – 1881-й… Не надо было гаду шутить мне под руку». – «А кто ж тогда письмо писал? – спрашивает завкафедрой, которому становится интересно. – Письмо-то было?» Да, хорошо, что у Принцессы руки на сей раз были пусты. Но она воздуху поглубже набрала и как завизжит: «Толстой, блядь! Лев Толстой! Дураку ясно, кто, если не Достоевский!»
После этого завкафедрой перестал за свой преподавательский состав заступаться. Но сочувствовал им больше прежнего. Принцесса его, конечно, отчитала. Придёшь, говорит, Митя, на Страшный суд и скажешь: я, дескать, этих песен не пел. Не пел, так плясал! Ступай в ад! И он тогда даже не сказал: «За что же меня в ад, Сашенька?» Привык, наверное, ходить туда, как на прогулку. А вот наш супруг как-то напился и кричал: «Я уже в аду! уже в аду!» Нашёл повод для истерики.
Наши коллеги давно перестали выступать, но исправиться и не подумали. Им глубоко плевать, кто кому писал письма весной 1881-го и в последующие годы. Место на кафедре эстетики трудно назвать хлебным, и одни перебиваются здесь в ожидании, пока их обстоятельства округлятся, а другие доживают без ожиданий, как в богадельне. Реестр идеалов имеет вид прейскуранта на экзаменационные оценки. Он висит на задней стенке шкафчика, отгораживающего стол лаборанта – угол не видный и не почётный, но удобный в смысле доступа. Студенты перед сессией там шмыг-шмыг, да и преподаватели тоже: новую цену впишут, старую зачеркнут. Оценками не торгуют только завкафедрой (его бы это поставило в слишком уязвимое положение), старый дедушка Иван Петрович (для него влепить студенту пару, а то и, если повезёт, кол – единственное оставшееся в жизни удовольствие) и мы с Принцессой – потому что честные и труженики. Завистники шепчутся (сидят за шкафом, думают, я не слышу), что Принцессе при таком муже вообще работать без надобности. Эх вы, якуты и алеуты! Разве в жизни деньги главное?
И вот, сижу на подоконнике, смотрю во двор. Сижу, смотрю. Как римский стоик. Как Александр Третий с письмецом от Льва Толстого в руке. То есть у него письмецо, а у меня только а-у-тен-тич-ное настроение. А-у-тен-тич-ное. Не вем, правильно ли сказал. Зато умно.
И вдруг оказалось, что в нашем дворе произошли события. Пока я глазел на пекинесов, раз-раз – приехали пацаны с мигалками: и скорая, и пожарная, и даже менты. Ого! Я прижал нос к стеклу. Шум шёл из соседнего подъезда, а как соседний подъезд разглядеть? Уж и так повернусь, и сяк – не видно, а на балкон мне одному не выйти. Принцесса меня конкретным идиотом считает, думает, что я сквозь прутья решетки протиснусь да и того, с четвёртого этажа. Ну не дура? У тебя такса, дура, а не хорёк с суицидальными наклонностями. Ты бы хоть замеры произвела, кто там протиснется, а кто – нет.
Наконец пронесли носилки, причём пустые, и все, кроме милиции, убрались. Подрулила потом, правда, большая серая машина, и вот на их носилках кого-то закутанного потащили. Я гадал и вертелся, сгорая от любопытства. Ну что там такое, что? Зеваки стояли тихонькие, и родная милиция прохаживалась так солидно, сразу ясно: при исполнении. В толпе я углядел Понюшку с хозяйкой. Понюшка, не спорю, редкая бестолочь, и всё, что она видит и слышит сейчас, к вечеру из её башки бесследно выветрится. Но её хозяйка расскажет что-нибудь Принцессе, а Принцесса – мне. Так себе вариант, но не ворон же расспрашивать. Ух, война у меня с воронами! Куда там ваши бомбардировки.
Шизофреник
Я шизофреник в четвёртом поколении. Может, и в пятом, просто дальше прадеда мои сведения не идут. Я и про самого-то прадеда знаю ровно столько, чтобы понять: если кто может вынести определённые события и не повредиться умом, с ним явно что-то не так. Прадед при первой же возможности повредился очень основательно; перестал говорить и отзываться на собственное имя, и ещё вопрос, чьё лицо на него глядело из зеркала или, за неимением зеркала, из ведра воды – стоило над ним склониться, – или ручья, или реки, буде таковые протекали в пределах той неведомой деревни. Ему это не помогло, он всё равно повесился на воротах; я хочу сказать, что даже повреждённый рассудок не сумел его спасти, построить достаточно крепкую стену между ним и миром людей, зеркал, истории, если, в конце концов, не вообразить, что наоборот, спас и указал наиболее короткий и верный путь, которым впоследствии воспользовался не один член нашего семейства. По частотности самоубийство в моей семье стоит на втором месте, лишь с небольшим отрывом опережаемое инсультом. (Среди естественных причин смерти, разумеется; насильственные я в эту статистику не ввожу.)
Предполагая, что на мне род пресечётся, я вижу жизнь четырёх известных мне поколений (но когда я говорю: «известных», разве это не ложь, разве не насмешка, что можно знать, когда на руках только скудные фотографии и обрывки ещё более скудных преданий, а знанием прикидывается моя болезнь, что частицей крови, изменяя её состав, бродит по телу; неискуплённая тоска, не сознающая себя память о ненужных и неоплаканных), да, простите, вижу их жизнь уже оформленной в судьбу, она была и прошла под наркозом ужаса и теперь завершилась, уйдёт наконец в землю поток беспокойных, угрюмых, отравленных генов. Ведь так и должно быть, правда? Пусть на мне нет какой-то конкретной личной вины (ах! да как же ей не быть?), я всё равно виноват и наказан, как были виноваты и наказаны мои мать, дед, прадед и многие другие.
Как странно: заболтался о ерунде, а хотел говорить о серьёзном происшествии. Сегодня к полудню двор был полон разнообразных служб спасения во главе с милицией. Я увидел их в окошко (обычно я избегаю смотреть в окно, ведь среди людей на улице всегда найдётся кто-то, кто случайно поднимет глаза и заметит меня в моём окне и решит, что я подсматриваю, и подсматриваю именно за ним – а прятаться за занавеской так позорно, так стыдно, что уже не смотришь, а только думаешь об этом позоре, и кроме того, прячущегося тоже можно заметить, стоит тому сделать неловкое движение, и в этом-то случае его намерениям и целям немыслимо будет дать сколько-нибудь благоприятное для него истолкование), да, простите, увидел их в окошко и не удивился. Я знал, в нашем доме уже накануне пахло смертью, а ночью, отъезжая, как-то особенно страшно взвизгнула и взревела машина, и бегущие к ней перед этим ноги тоже топотали по-особенному, так, что невозможно было представить, что это расходятся припозднившиеся гости-такие были тяжёлые преступные звуки, и я, лёжа в постели, испытывал такой страх, что мне самому хотелось бежать, бежать куда глаза глядят – и чтобы они не глядели ни на что, – бежать и упасть наконец без дыхания и каких-либо мыслей. С той минуты я был готов, что милиционеры скоро придут обходить квартиры и задавать свои вопросы о чём-либо подозрительном, хотя, конечно, я не думал тогда именно так, столь отчётливо, не формулировал и не воображал, как меня спрашивают и что я отвечаю, мысль о милиции вообще посетила меня не раньше, чем сама милиция.
Когда они пришли, я сидел за столом на кухне и перебирал гречневую крупу, не в силах заняться чем-то другим, только этим или ещё рисовать квадратики. Возня с крупой всё же выглядела безопаснее, чем рисование квадратиков, я не мог объяснить нормальному человеку, тем более из милиции, что квадратики успокаивают, а если бы и мог, они, пожалуй, спросили бы: «а с чего это вам беспокоиться?», и я не ответил бы нормальному человеку, тем более милиционеру, что поневоле забеспокоишься, услышав ночью поступь смерти, а утром увидев, что не ошибся.
Они пришли, прошли на кухню и посмотрели на крупу. «Хозяйствуете?» – дружелюбно спросил молодой опер, а его напарник сделал бровью «гм», и я понял мгновенно, что чувствуют изобличённые преступники, воры и казнокрады, хотя эта крупа не была ворованной, то есть лично я её не крал, а купил в магазине, как покупатель я не обязан знать, стараниями каких поставщиков и посредников она в магазин попала, и кто из них не вполне чист на руку; тогда почему, ведь я в жизни своей никогда, ни разу не взял чужого.
«Переберу всю сразу, – сказал я, – потом не надо каждый день возиться, очень удобно. Мама так делала». Сказал, и мне стало дурно: зачем я упомянул маму? А если они начнут расспрашивать? Наведут потом стороной справки? Всё, чего хотела когда-либо моя мать, – это уничтожиться, раствориться, сделать так, чтобы ни один вопрос её не настиг, не царапнул ни один взгляд, спрятаться в коробке с надписью «не кантовать»; и такой коробкой вполне логично оказался гроб. А я до последней минуты смеялся, и только тогда увидел, как жесток и глуп был, когда через годы высмеиваемые мною страхи пришли ко мне, по-кошачьи найдя дорогу к знакомой двери.
Но оперов другое заботило, они искали следы случившегося минувшей ночью и пропустили – намеренно или по небрежности-такие свежие, такие внятные следы преступления и позора пятнадцатилетней давности. Что ж, минувшую ночь я тоже запомнил. «Машина, – сказал я. – Отъехала машина, а перед этим к ней бежали несколько человек, и хлопнула дверь подъезда, не знаю только, какого». – «Да? – сказал молодой. – А какая машина? Описать можете?»
Тут было вот что: я не встал тогда взглянуть на машину. Я был напуган, растерялся, у меня не было привычки срываться посреди ночи с постели и бежать к окошку (хотя да! иногда срывался и бежал, но это были редкие случаи, крик «помогите» или хриплая пьяная страсть), у меня, наконец, не было оснований думать, что на этот раз я угадал беду верно. С операми я мог так подробно и не объясняться, просто ответить, что уже лёг, что не придал значения минутному чувству тревоги. Но я слишком промедлил с ответом, так что у них наверняка сложилось впечатление, будто я, во-первых, ночи напролет провожу у окна, глазея на подъезжающих и отъезжающих, и, во-вторых, в ночь, о которой речь, увидел среди прочего нечто такое, что по тем или иным причинам предпочёл бы скрыть. Смешно, смешно, но в таких ситуациях (основываюсь на чужом, но достоверном опыте) наименее подозрительным выглядит враньё («какая машина?., большая, белая или светло-серая… простите, я в них не разбираюсь»), однако лгать я не стал, от лжи в моём исполнении хлопот больше, чем от самой зубодробительной правды, и я уже давно не лгу – просто не говорю всего. «Я не подходил к окну, – сказал я, наконец, хоть что-то сказать было надо. – Я не спал, но уже был в постели». И подкрепил слова спокойным, надеюсь, взглядом – не слишком беспечно взглянул, и не строя крутого, и без желания мешать следствию своими догадками.