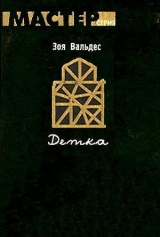
Текст книги "Детка"
Автор книги: Зое Вальдес
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 17 страниц)
– Кука, я только что факсировала с Энгельсом… Капитализм – на краю пропасти!
– Это точно! Поглядим, не утянет ли он за собой социализм, – раздается с верхнего этажа голос Фотокопировщицы, она у нас этакий ходячий анекдот. – Нет, честно говорю, совсем околдовали девчонку, заморочили – дальше некуда. Спрашивается, кто, кроме нее и Великой Фигуры, всерьез говорит о коммунизме на этом вонючем острове. Все знают – это попахивает клиникой.
Фотокопировщица съезжает по перилам, распространяя вокруг запах тухлой рыбы; на перилах остается белесый вонючий след. Фотокопировщица не только шутница, но и никогда не носит трусики. Дело не в принципе, с принципами у нее всегда было слабовато. Ребенком ее привели в больницу, чтобы удалить гланды, но медсестра перепутала выписанные направления, и ей удалили яичники. Что же касается трусиков, то, будучи интимной принадлежностью, они с каждым днем становятся все большим анахронизмом, постепенно переходя в область археологических интересов.
– Карукита, старушка, не поддавайся вражескому влиянию. Остается только один вариант… нулевой. Нулевой вариант в мирное время. Вскорости нам предстоит пройти длительный этап капиталистического развития, в результате чего мы придем к победе коммунизма. Потом, когда мы устанем от коммунизма, опять настанет период капи-комму. Таков закон цикличности. Во имя цикла, цикла и еще раз цикла, аминь.
– Нет, вы только посмотрите, она думает, что это будет длиться целую вечность! – восклицает Фотокопировщица в полном восторге.
– Не я одна бессмертная. Револ-люция сделала вечными всех! – более чем сухо возражает ей Факс.
Между тем Кука Мартинес, зажатая между двумя спорщицами, как в ловушке, переводит взгляд с одной на другую, как зритель на трибунах «Ролан Гаррос» в разгар матча между Штеффи Граф и Моникой Селеш. После тридцати – все одни базары. Все только свары, склоки. Люди разучились жить реальной жизнью. Словно переселились в бессмертие. Даже Фотокопировщица, такая пессимистка, говорила каким-то трансцендентным тоном, и не просто говорила – изрекала. Каждый хотел все решить за другого! Какой комплекс власти! В перспективе идеал всякого кубинца – стать таким же, как XXL. Вот в чем корень всех наших несчастий – мы одержимы жаждой быть такими, какими мечтал видеть людей Марти. Злую шутку сыграла над нами постоянная сосредоточенность на Сверхвеликой Фигуре; он до сих пор оказывает такое вредное гипнотическое влияние на население, что мы с утра до вечера только и говорим о нем.
– Ты слышала, Кукита?! Представляешь – промыкаться уйму времени, всю свою вонючую жизнь, чтобы снова прийти к коммунизму?! Нет уж, старушка, пусть этот период капитализма длится как можно дольше! Пусть Господь Бог схватит меня за жопу, когда меня снова потащат в коммунизм!
– С позволения присутствующих, беседа была чрезвычайно приятной, но в других уголках земли с нетерпением ожидают приложения наших скромных усилий… –Кука со слов Сверхвеликой Фигуры, цитирует последнее письмо Че. Воспользовавшись двусмысленностью цитаты, она раздвигает стоящих на ее пути женщин худыми руками, покрытыми жилами и рыжеватыми родинками. Медленно, размеренно поднимается она по лестнице и наконец останавливается перед дверью. Если посмотреть хорошенько, дверь, которую она столько раз открывала и закрывала за эти тридцать с лишним лет, нуждается в небольшой покраске – кой-где следует подмазать белой масляной краской. Она достает из лифчика ключ и нежно проводит пальцем по острому краю плотной бумажки. Ключ звякает в замке. Снизу доносится голос Фотокопировщицы:
– Бедная старушка, все таскается со своим мусором, а ведь за такие слова ей могло бы ух как не поздоровиться… впрочем, она и тогда не пикнет! Кстати, ты заметила, Факс, какая у нее блямба на груди? Не то рак ее ест, не то прячет что-то старушка в своем поганом лифчике. Она его и не стирает никогда, это единственное, что у нее осталось – боится, как бы не расползся, да и мыла жалко.
Дверь наконец поддается, и падающий из окна свет на мгновение ослепляет старуху. Как будто все солнце мира излилось на эту узкую комнатушку. Первым делом Кука Мартинес идет на кухню и открывает заржавевший, ободранный холодильник, который, случается, заменяет ей шкаф. Развалившись на своей чашке-кровати, спит Катринка Три Метелки, русская тараканиха. Она светлая, с голубыми глазами – страшный жар, исходивший от модели «Дженерал Электрик» пятьдесят шестого года, почти превратил ее в альбиноску. Старуха ностальгически вспоминает о том, что раньше можно было запросто выпить сколько хочешь стаканов холодной воды. И это при том, что холодильник отслужил сорок с лишним годков нелегкой службы, прежде чем с ним случился первый легкий обморок, и температура перестала опускаться ниже нуля. Советский же холодильник, который подарила ей Реглита, протянул всего лет пять, после чего его пришлось сдать на бессрочное хранение в ремонтную мастерскую. История дружбы старухи с насекомым складывалась непросто и могла служить доказательством того, что ненависть способна перерастать в любовь. В конце восьмидесятых Гавана подверглась нашествию летучих тараканов. Ложась спать, Кука выключила свет, а когда, случалось, ее одолевала жажда, и она, выйдя на кухню, вновь зажигала лампу – столик и холодильники были покрыты живым ковром. Кука Мартинес использовала все виды отравляющих веществ, вела технологическую, идеологическую и даже психологическую войну, но победителями всегда оказывались они.В конце концов Кука пришла к выводу, что тараканы сильнее и власть отныне принадлежит им, а ей, ввиду ее неспособности изменить такое положение вещей, остается только полюбить их. Настали девяностые, волна отступила, но одна тараканиха осталась, попав в капкан масленки. Старуха бережно отмыла ее и дала ей экстравагантное и звучное имя – Катринка Три Метелки, или Катринка Трес Эскобас (Терешкова), – в честь первой женщины-космонавта, проведшей пробную еблю на орбите. Несколько лет спустя в звездное никуда поднялся первый латиноамериканец – разумеется, кубинец! Это был обиндеившийся мулат, из тех, которые могут накрутить хвост кому хочешь, устроить революцию покруче той, что заделал Гулливер в стране лилипутов. Портреты Агинальдо Тайуйо появились на первых страницах «Граммы», официального партийного органа, рядом с портретами пребывавшей в здравом уме и добром здравии Убре Бланки, коровы-феномена, зачатой от XXL, – ее папаша, явно склонный к инцесту, ее сверхлюбящий отец, приказал даже воздвигнуть ей памятник. Совсем не так сложились дела у Тайуйо, который, как рассказывают шутники, спустился на Землю с распухшими кистями, потому что всякий раз как он тянулся к какой-нибудь кнопке, советский командир корабля Юрий Романенко бил его по рукам: «Сиди тихо, какашка!»
Национальность Катринка выбрала себе сама. Потом, в девяностые, произошло нашествие крыс, и история повторилась: Куку чуть не хватил инфаркт – она стала походить на зацикленный шагомер, потому что беспрестанно бегала за крысами, размахивая бейсбольной битой. Однако случилось так, – о тайные умыслы живой природы! – что Катринка без ума влюбилась в черную тощую эфиопскую мышь, и, надо сказать, страсть ее была взаимной! Куке Мартинес ничего не оставалось как благословить влюбленных. Мышь в первый же день помолвки окрестили именем Хуан Перес, дабы увековечить память старинной и единственной любви их радушной хозяйки. Свадьбу устроили так широко, как только могла себе позволить матушка Кука. Катринка немедля отправилась в больницу Гонсалес Коро, бывшую больницу Святого Сердца, и приняла соответствующие противозачаточные меры – рожать в ближайшем будущем она не собиралась. В результате, все трое зажили очень счастливо. Хотя поначалу над ними и сгущались тучи. Комитет защиты революции и кубинская пиздократическая федерация объявили Куке настоящую войну за укрывательство иностранцев. И хотя речь шла о дружественных народах, наших советских и эфиопских братьях, Кука чуть было не подверглась репрессиям со стороны Органов, угрожавших переселить ее в холодную комнатушку в Вильямаристе. Но тут как раз было объявлено о легальном хождении валюты, и к туристам стали относиться более благосклонно. Дело зашло так далеко, что даже кассовые организации (кассовые – не опечатка) стали смотреть на все сквозь пальцы. Вот и получилось, что жизнь в доме Куки вернулась к состоянию той неестественной естественности, к которой она успела привыкнуть.
– Ты где, Катринка? Это я, Кука. А где Перес, вышел?
– Пошел отметиться за меня в очереди на углу. Капусту привезли. А я пока отдыхаю – все лапы гудят, полдня отстояла в пиццерию. Там пицца осталась – это твоя, мы уже пообедали. Надо же хоть что-то есть, Кука, – настаивает Катринка, снимая запиленную пластинку Карела Готта, – гляди, как ты отощала, можно подумать, что у тебя злокачественная опухоль.
Куке не хочется есть, в последнее время ей вообще мало чего хочется. Подойдя к советскому приемнику красного цвета с металлическим отливом, она включает его:
– «Страсти Сильвии Эухении», – объявляет колоратурным тенором диктор «вражеского» радио, которое пользуется на острове самой большой популярностью. И сразу же вслед за его словами раздается надрывный, всхлипывающий голос актрисы. Рыданья длятся, прерываемые горловыми звуками и вскриками, примерно минут пять. Кука, по инерции и за компанию, постанывает возле радио. По инерции люди не только аплодируют, но и делают уйму других вещей, например, продолжают жить дальше, переживая, казалось бы, непреодолимые трудности. Не переставая жалобно всхлипывать, Кука просовывает узловатые пальцы в лифчик, где когда-то была грудь, а теперь осталась только кость. Доллар – зелененький, и все на нем как надо. Настоящий.
– Действительно, куплю-ка я себе пудру.
В засиженном мухами зеркале отражается ее лицо, слезы оставили на нем терракотовые борозды, проложив их в пыли, которой недавний ветер толстым слоем покрыл ее брови, ресницы, кожу, одежду.
– Господи Боже, какая я старая! Даже родинки превратились в рыжие бородавки, и хуже всего, что я к этому привыкла, так привыкла, что даже не обращаю на это внимания. Семьдесят два года – ни больше, ни меньше…
В комнате громоздится разностильная мебель. Стулья в стиле арт-деко и обитые винилом кресла пятидесятых. Зеркало в стиле ар-нуво (как же это пишется по-французски?). Но мне страшно захотелось написать это именно так. На креольского вида буфете покоится синий стеклянный кувшин в форме рыбы, изо рта которой торчат огромные пластмассовые подсолнухи. На стене висит роскошный киот, посвященный Обатала, Богоматери Заступнице. Кука поднимается с кресла и, словно плывя по воздуху, приближается к святыне. Вся почтение, она приподнимает расшитую жемчугом белую мантию и прячет банкноту между ног изваяния. Потом поправляет ей прическу. Заметив стоящую на краю буфета вверх ногами картину, она осторожно берет ее и рукой смахивает пыль со стекла. Это приукрашенный портрет нечистой совести, в его чертах сквозит двоедушие, главное – соблюсти приличный вид. Это раскрашенный от руки портрет тех времен, когда XXL, Великая Фигура, был еще молод, когда в моде были другие его прозвания: «Ты знаешь, о ком, Руфь» – вредная сестра из бразильского телесериала, – Чико Тиньебла, Мария Кристина, по песенке Ньико Сакито:
Мария Кристина хочет мною вертеть,
а я за нею хожу хвостом,
пусть люди не судачат потом,
что Мария Кристина хочет мною вертеть…
Короче говоря, не стоит перечислять все его прозвища, которые были на слуху, но так и не помогли одолеть его. Старуха обращается к портрету робким шепотом, но все же укоряюще грозя ему пальцем:
– Нет, и не надейся на прощение, сукин сын. Хочу, чтобы ты понял: если я до сих пор держу тебя у себя в доме в золоченой рамке, то только из-за длинных языков своих соседей, которые, если что, живо со мной разделаются. Почему, скажи, сегодня опять нет хлеба в лавке? Молоко привозят в лучшем случае через день. А диетические цыплята, видно, улетели в жаркие страны… Мы не можем и дальше делать для тебя эту Революцию, которая нам не но силам… Тс-тс-тс… Я снова поставлю тебя на алтарь, чтобы не запятнать свое личное дело. Может быть, ты когда-нибудь научишься уму-разуму, старичок… Нет, ты никогда ничего не поймешь, сукин сын! Да, да, сукин сын, ты правильно расслышал. Если и ты знал, как мне хочется плюнуть тебе в рожу, выпороть тебя, как негра на плантации, выбросить ко всем чертям! Жизнь – херовая штука, потому что в истории ты останешься хорошим. А я, говно-мешалка, останусь сумасбродкой из какого-нибудь занюханного фильма, как поет Лупе: «Каждый хочет видеть дело на свой лад и других заставить тоже был бы рад…»
Кука Мартинес улыбается, гордая тем, что ей удалось так ясно вспомнить Лупе – его петушиный голос и собачьи клыки. 15 следующее мгновение слеза скатывается у нее по щеке и в ярости, отхаркнувшись, она выплевывает сгусток зеленой слизи прямо на стекло, прикрывающее обаятельное лицо XXL. При этом в глазах ее появляется ужас и, смочив кончик платка в купленном в лавке спирте, она – живое воплощение бодрийаровского симулякра – с напускным рвением протирает фотографию. Как фон, радио повествует, о том, что Сильвии Эухении предстоит выйти замуж за человека, которого она не любит.
Часть вторая
Женское одиночество
Наконец мне удалось нащупать основную тему фильма «Цветок моей тайны», а также тему фильма, который я построил бы вокруг любимого слова моей матери: одиночество.
Педро Альмодовар
Глава седьмая
Любовное свиданье
Первое наше свиданье…
О, как этот день далек.
Теперь он – воспоминанье,
как в книжке засохший цветок.
(Авт. Габриель Руис.Исп. Фредди)
Маниок, сеньоры, как только подумаю о маниоке, у меня просто слюнки текут! Что еще за чудо-блюдо я приготовлю сегодня? Не пошастать ли мне по улицам, собирая себе на прокорм? Может, встречу Чичо, он торгует из-под полы. Не завалялся ли у него бананчик или, кто знает, маниок? Вот уж поистине будет богоявление, слабость у меня такая… Пока в брюхе пусто, ни о чем другом думать не могу! Да и зачем, скажите, мне думать? Цены у Чичо хорошие, а мне он, бывает, даже делает скидку, потому что знает, что я уж точно не могу платить по этим бешеным ценам свободного сельскохозяйственного рынка. Фунтик свининки обходится в половину моей пенсии. Итак, вперед, сыны отечества! Вперед, одинокая искательница приключений! Пойду прогуляюсь немного, может, достану чего и пожевать или, на худой конец, просто отвлекусь, гуляючи, и про голод позабуду. Катринка Терешкова, ласковая и услужливая русская тараканиха, что живет у меня, и ее муж, эфиоп Ратон Перес, спят сном праведников. Общеизвестно, что у этих зверушек пища переваривается медленно, к тому же они могут поглощать все что угодно, а вот я не могу – от всего, что продают по карточкам, меня просто воротит, бр-р-р! И все же я должна питаться, поддерживать себя, потому что в глазах у меня уже двоится и ничего толком я не вижу. Не знаю, что и надеть из одежды, так исхудала, что все с меня сваливается. Кожа да кости, да и кости-то еле держат. Где оно, мое тело? Было, и нет его, и заносит меня на каждом шагу, как старую шаланду.
В мгновение ока Кука Мартинес скидывает свои лохмотья, моет руки, лицо и подмышки обмылком хозяйственного мыла, зачесывает назад седые космы и капает, по капельке за каждое ухо, фиалковой водой. Она помнит, что как-то давно одна приятельница отговаривала ее от фиалковой воды, потому что якобы она отталкивает мужчин. Вспоминая об этом, Кука думает, что теперь ей все равно, отталкивать уже некого. Берет корзину, которая висит на косяке за дверью. Прежде чем уйти, пишет записку своим друзьям-животным. Ей не хочется, чтобы они волновались из-за нее, ведь они такие великодушные, сострадательные, на них можно опереться – эти не подведут. Пару дней назад она решила – уж не составить ли на них завещание, чтобы, когда она скончается, они смогли унаследовать комнатку и никакая градостроительная реформа им бы не угрожала. Короче, это была ее настоящая семья. Нет, конечно, как могла она забыть про Фалу и Фану, прошу прощения, про Мечу и Пучу! Вот уж кому она поплакалась в жилетку. Ну и, конечно, про Детку.
Здание кажется нежилым, повсюду – гробовая тишина, учитывая современный демографический взрыв, странно, ведь звуки радио и телевизоров – это сейчас первейший и неизбежный признак жизни. Одним махом она одолевает путаницу коридоров, спускается по лестнице, попутно замечая, что в окнах, за которыми живут ее подруги, не видно света. Усталая, выходит она в яркий полдень, и солнце на мгновение ослепляет ее. Дома вокруг блистают белизной. Кука ищет тень, но почти все порталы разрушены, и солнечный свет то и дело просачивается в щели полуразвалившихся колонн. Спускаясь по Линии к морю, она различает вдали толпу, движущуюся от «Насьоналя» к Малекону. Вряд ли это первомайская демонстрация – до Первого мая еще два месяца. Публика разряжена по-клоунски, как массовка в каком-нибудь фильме о французской Ривьере или толпа на Каннском фестивале: в перьях, мантильях, соломенных шляпах, тюрбанах, платьях с кружевными вырезами, париках. Кука трет глаза, чтобы убедиться, что это не вызванная голодом галлюцинация. На искусственной лужайке, зеленой, как незабвенная зелень из «Цыганского романсеро», исключительно пластмассовой, поставлены столики, покрытые белыми скатертями, отороченными кружевом наподобие брюссельского. Блестят тарелки и блюда, блестят официанты в незапятнанно белых смокингах. Царство белизны. Кука невольно старается подметить где-нибудь кровь, ведь всплеск чистоты обычно лишь прикрытие для насилия. Крови, однако, не видно. Какие-то богатые люди, несомненно миллионеры, пьянствуют, развалясь в величественных позах, как древние римляне. У Куки мгновенно срабатывают слюнные железы и слегка кружится голова после концерта, который выдают кишки и желудок, пустые, как стадион под дождем. Богатые туристы и богатые партработники веселятся на славу, в разноцветных шляпах, накрахмаленных гуаияберах и рубашках цвета розового дерева. Сидя на парапете набережной, жарятся в лучах палящего солнца вечного лета тысячи и тысячи зрителей вроде Кукиты, едва не падая в обморок от голода, жажды и жары. Нашей, кубинской жары, от которой дни кажутся необъятней, насыщенней, изнурительней и трагичней. Кука идет медленно, боясь поскользнуться и, не дай Бог, сломать ногу. Поравнявшись с женщиной, завороженно глядящей на еду, она спрашивает:
– Что же это такое, дочка? Или мне уже мерещится?
– Мерещится? Да нет, бабуля. Я тоже сначала так подумала. Это чемпионат мира, гонки на лодках таких быстроходных, для тех, кто побогаче… Я-то, правда, пришла посмотреть, как они лопают, чтобы запомнить хорошенько.
Старуха идет дальше, то и дело выкидывая какое-нибудь кокетливое коленце, как актриса на роликах, изображающая Барби. Авенида бурлит, вся разноцветная, красочная. Даже до эпохи исторического материализма, когда сердце Кукиты билось весело, ей не приходилось видеть столько миллионеров за раз. Холм, на котором высится здание «Насьоналя», служит трибуной с видом на набережную. Стоя на ней, Сверхвеликая Фигура, в форме цвета детской неожиданности, улыбается, дергая и кривя губами, как дебил или шизик, у которого вконец поехала крыша. Великан он или карлик, ему все равно сейчас, когда – на самом верху блаженства – он в двух шагах от рая или ада, в окружении иностранных предпринимателей и участников состязаний из Арабских Эмиратов, которые ждут награды. У Каруки судорожно сжимается желудок и глаза сходятся к переносице при виде стольких цыплячьих ножек с подрумяненной корочкой, там, на трибуне. И вот XXL стремительно выходит под гром аплодисментов, аплодируя сам себе, садится в свой «мерседес», чтобы объехать то, что сам он назвал победно славным Малеконом,где, по его хриплым словам, народ, то есть мы,дали еще один урок американскому империализму, выиграли битву у люмпенов, у пятой колонны (модное в семидесятые годы словечко, которое он украл у своей сестрички Розы) в дни бурных беспорядков в августе девяносто четвертого. Меня просто зло берет, когда я слышу это «мы», такое задушевно-пролетарское в устах политиков. Короче, какой-то миллионер из тех, что не могут трахнуть свою любовницу, не послушав прежде Хулио Иглесиаса на частной вечеринке, поднимает банку кока-колы и произносит тост в честь Главного Комедианта, Марии Кристины, словом, сами знаете кого. Афишки с автографами XXL летают по толпе. Кто-то выписывает чек на двадцать пять тысяч долларов – кубинским детям. Если их и в самом деле будут распределять, то на душу населения в среднем придется не больше, чем по полсентаво. При всем своем великолепии миллионеры больше всего восхищают меня тем – поэтому они, собственно, и миллионеры, – что жить не могут без пожертвований. Полузабытые здравицы и гимны звучат в честь Че, о котором, что ясно видно, помнят довольно смутно. И тут же кто-то просит идущей от сердца, рвущейся из души песни – нет, ничего потустороннего, сверхъестественного, никакой показухи, ну-ка угадайте: «В сердцах, преисполненных жара, и в душах живет неослабно часть памяти светлой и славной, любимый ты наш, Че Гевара». На Карлоса Пуэблу у меня стойкая аллергия – переела. Под конец, как и следовало ожидать, Великая Фигура дает понять публике, что собирается толкнуть речь. Кому не известна его слава оратора, умеющего всласть поорать. Исполненным любви жестом он касается правого кармана, и тысячи белых голубей взлетают со всех концов, потом он теребит левый карман, но на этот раз ничего не происходит. Он жмет все сильнее, чтобы специальная шариковая авторучка послала частотный сигнал, воспринимаемый лишь голубями, и один из них, к лапке которого прикреплен специальный аппарат, повинуясь чуду техники, сел ему на плечо. Хитроумный пустячок, появившийся еще в начале Революции, который весь мир истолковал как знамение свыше, как указание на то, что Великая Фигура – это избранник, и который на самом деле был изобретением той же личности, что несколькими годами раньше организовала похищение Фанхио по приказу движения двадцать шестого июля. Мария Кристина, то есть XXL, напряженно манипулирует содержимым своего кармана, голубь же вместо того, чтобы плавно опуститься ему на плечо, взмахивает крыльями и гадит ему прямо на голову: грязно-белая струйка стекает по лбу и щеке до самой седой бороды. Публика сохраняет абсолютную серьезность. Уж чему-чему, а издевке никогда не было места в наших магико-исторических толкованиях. «Дурной знак», – думает каждый про себя, но шутить – нет, тут не до шуток. Тягостное, гробовое молчание. Только один голос, хриплый и бессильный – бессильный, впрочем, не только голос, – разносится над гаванскими улицами, частенько пуская петуха. Для начала он приводит все экономические показатели, начиная с первого года победившей Революции вплоть до сегодняшнего момента, славный чрезвычайный период,делая упор на принесенных жертвах, сегодня, в дни кризиса и экономических преобразований, когда бывший социалистический лагерь и т. д. и т. п., и снова поносит русских. Но наш славный народ не сложит оружия и даже в одиночку продолжит сопротивление, и на костях погибших мы воздвигнем… Небольшая заминка. На костях погибших мы воздвигнем…Он беспомощно оглядывается по сторонам в явном неведении, что же мы будем делать со своими скелетами. Толпа, словно с нее содрали заживо кожу, в ужасе озирает мысленным взором трагическую перспективу и неясную участь наших тазобедренных, больших и малых берцовых, наших копчиков или косточек радости, наших лучевых, локтевых, черепов, позвоночных столбов, словом, всех наших костяков. Наконец он щелкает большим и средним пальцами – признак того, что решение найдено: из костей погибших мы соорудим огромный ксилофон, чтобы исполнять на нем наш славный национальный гимн.Коллективный вздох облегчения заглушает шум волн, разбивающихся о парапет набережной. Еще слава Богу, что нам предстоит быть всего лишь музыкальным инструментом, потому что он вполне мог бы выдать наши кости за интернациональные и преподнести их в дар какому-нибудь музею биологии и естественных наук, а может быть, продать какому-нибудь европейскому зоопарку, где бы ими играли, новорожденные львята, или понаделать из нас сережек и отправить их на всемирную выставку изобретателей и новаторов. Он особо подчеркивает, что необходимо возобновить идеологическую работу, усиливать революционную сознательность, укреплять бойцовский дух, чтобы покончить с коррупцией и привилегиями, сокрушить кровавые челюсти враждебного американского империализма, и что мы должны гордиться, что живем в чрезвычайный период, потому что наши героические действия делают нас более революционными, более свободными, более сильными… Миллионеры, ни хрена не понимая, продолжают чокаться «Домом Периньоном». Мы сильнее, чем прежде,повторяет он, и в этот момент в толпе происходит замешательство – кто-то просит помощи, просит принести носилки, потому что какой-то старушке стало плохо.
Пучу и Мечу, все в липком, млечно-белом поту от растаявшей яичной скорлупы (старая добрая традиция – посыпать себя яичной скорлупой – сейчас просто необходима: кругом сплошной сглаз), держа в правой руке каждая по большому листу гуано, смотрят на народ, суетливо хлопочущий вокруг упавшей в обморок старушенции. Рядом с ними жарятся на солнце Факс и Фотокопировщица. Последняя жует резинку, которую какая-то шишка выплюнула с трибуны и которую она успела подхватить, прежде чем она упала на землю. Факс чувствует себя вконец обалдевшей. Она ничегошеньки не понимает: вся эта заумь и шумиха не имеют ничего общего с той новой моделью коммунизма, о которой в сей миг факсирует ей мумия Владимира Ильича. Тогда она пытается телепатически вызвать номер факса Никиты Хрущева, но ошибается и попадает прямехенько в чистилищный офис Дж. Ф. Кеннеди – не аэропорт, разумеется, а бывший президент, – и тот, с умным видом, выставив челюсть, точь-в-точь такую же, как у Клинтона, делится с ней последней информацией и предлагает свой комментарий, а Факс преспокойно слушает его в блаженной уверенности, что общается с Никитой. Вежливо прощаясь, она вдруг понимает, что разговаривала с невинно убиенным президентом Соединенных Штатов, с ней случается микроинсульт, и она падает как подкошенная, кусая язык в эпилептическом припадке – в мыслях у нее происходит поворот на сто восемьдесят градусов в сторону капитализма. «Скорая помощь» увозит ее заодно с Кукой Мартинес в больницу «Эрманос Амехейрас». Агент Комитета государственной безопасности (санитар Революции), который их сопровождает, просит, чтобы им сделали электрошок вместо простого искусственного дыхания изо рта в рот, – словом, что-нибудь посущественнее аспирина или смоченной в нашатыре ватки. Врач почти уступает требованию «доброго следователя» – не по профессиональным соображениям, а потому что единственное средство, имеющееся у него в распоряжении, это именно электрошок. К счастью, присутствующие здесь же Мечунга, Пучунга и Фотокопировщица, выждав, пока агент удалится, – им с трудом удается сдержать желание слегка прижечь его сигарой, – просят врача, чтобы он достал для старухи кусок хлеба и немного подслащенной воды, потому что у нее желудок прилип к спине – пустой, как олимпийский бассейн в зимний сезон, когда не проводятся соревнования. О девушке они позаботятся сами. Как только врач отходит в поисках черствой корки и тарелки куриного бульона, Фотокопировщица, задрав юбку и присев над койкой, над самым носом Факс, издает мощный залп. Зловоние гнилых кальмаров приводит девушку в себя, и она моментально пытается установить связь с Рокфеллером, Онассисом, Мигелем Буайе и Бернаром Тапи в самый разгар судебного разбирательства. Заметив лежащую пластом на соседней койке Куку Мартинес, лиловую, но не как виноградина, а как труп Сталина в Сибири, она вопит:
– Убийцы, они убили ее! Проклятые коммунисты!
Фотокопировщица залепляет ей рот ошметком резинки. Мечунгита и Пучунгита держат девушку за руки и за ноги. В ужасе, они стараются ее утихомирить, сначала вполголоса, потом совсем шепотом:
– Дурочка, думай, что хочешь, а кричи, что нужно.
Факс выкатывает глаза так, что, кажется, они сейчас лопнут, и кричит, всхлипывая:
– Да здравствует Великая Фигура! Социализм или смерть!
Хлеба нет, но доктор приносит треснутый, жирный пластмассовый стакан со сладкой водой, которую готовят на комбинатах и продают по карточкам. Лежащих на соседних койках в состоянии комы больных окружают спекулянты с черного рынка, предлагая из-под полы, как самые изысканные лакомства, шоколадное мороженое, пирожки с котятами и пачки поддельных «Коиба» или «Монтекристо». Только что прооперированная женщина вопит не своим голосом, хватаясь за рану:
– Больно, ай, как больно! Успокоительного, дайте успокоительного, доктор!
Кто-то из больных рассказывает, что несчастной удалили фиброму с помощью нового китайского препарата, вызывающего не анестезию, а амнезию.
– Может быть, у кого-нибудь есть успокоительное? – обращается пристыженный врач к посетителям и другим больным.
Выпив сиропчик, Кука Мартинес чувствует некоторое облегчение. Пошарив в корзине, она находит таблетку дипирона, купленного еще в восьмидесятые годы. Правда, она несколько пожелтела, но должна действовать. Женщина глотает таблетку так, словно причащается тела Христова, настоящего тела, со всеми косточками и жилками – словом, живого, только что воскресшего Христа. Факс, Фотокопировщица, Кука, Пучу и Мечу благодарят на разные лады врача за изумительную первую помощь и уже собираются, было, удалиться, как внезапно сталкиваются с препятствием в виде вновь возникшего агента Органов. Убедившись, что достиг своей цели – внушить бедолагам робость своей элегантно властной позой, он цинично улыбается и отступает, пропуская женщин к выходу. Прежде чем оставить их в покое, он, воспользовавшись тем, что Фотокопировщица идет последней, как некий похотливый бес, засовывает ей под юбку между ног палец – не с какими-либо похотливыми намерениями, а чтобы убедиться, что она не украла каких-нибудь инструментов или медикаментов, дабы затем перепродать их. Фотокопировщица молчит, точно воды в рот набрала, потому что знает: на кончике пальца у него здоровенная сифилитическая язва – эта болезнь, как победоносно возвещает статистика, крайне распространена в здешних краях.
Пятеро мушкетерш выходят на уже обезлюдевшую авениду. Празднество закончилось, кругом ни души, трибуну убрали, и только тускло поблескивают раскиданные повсюду пластмассовые тарелки и пустые рваные картонные стаканчики. Женщины направляются к набережной. Сев лицом к морю, вглядываясь в его белесую даль, местами вспыхивающую в лучах солнца бескрайнюю и прекрасную гладь, они молча поминают своих отбывших близких. Потому что в этой стране у каждого есть кто-то там.Факс, безутешная, плачет, неровно всхлипывая. Впервые в жизни все ее горе, которое она обычно прячет под замком в душе, выплескивается наружу. Мало-помалу на набережной собирается народ. Известное дело – нас хлебом не корми, только дай над кем-нибудь подшутить. Со всех сторон стекается публика, заинтересованная историей этой девушки. Подходит Грыжа, соседка снизу, у которой море и прочие превратности судьбы обратили дом в развалину, с полом, как морское дно, ощерившееся сталагмитами, с потолком, откуда, как в бутафорском гроте, свисают блистающие сталактиты, со стенами, покрытыми водорослями и мхом и ходящими ходуном. Вид у Грыжи такой «бывший», что хватило бы не на одно дело. Появляются, скучающие и тоскующие, Йокандра и два ее мужа; ни для кого не тайна, что эта дерьмовая интеллектуалоидина пилится, как кобылица, и живет сразу с двумя мужиками или, по крайней мере, то и дело меняет их, но я ее не осуждаю: по-моему, уж если ты сделала из своей задницы барабан, то и давай тому, кто на нем лучше сыграет. И так, кучка за кучкой, вокруг наших подруг собираются соседи со всего этажа, квартала, округа, провинции, попозже подходит народ из смежных провинций, те влекут за собой других – гляди, и население всего острова собралось на набережной Малекона послушать невеселые байки Факс.







