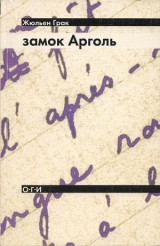
Текст книги "Замок Арголь"
Автор книги: Жюльен Грак
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 8 страниц)
Там, где лестница выходила на террасу замка, как на мостик большого затянутого в зыбь судна, все великолепие солнца, лучами которого до сих пор прихотливо игралиодни лишь медные плиты, узкие стрельчатые окна да массивные обитые шелком стены, развернулось во всей своей необузданной мощи. Дыхание словно перехватывало мощным потоком свежего воздуха, который сдувал с террасы и наклонял росшие двумястами футами ниже деревья, похожие на разлившееся море. Растрепавшиеся наверху складки шелковых стягов, шелест которых, похожий на звук надутых ветром парусов, послышался неожиданно где-то совсем близко, отбрасывали повсюду танцующие тени, и глаза сильно слепило от солнечного света, распыленного на белых камнях. Между тем феерия солнца распространилась по всему небу, захватив также и одинокую линию горизонта. На севере, где скалистый отрог заканчивался резкими обрывами, желтые и гладкие ланды разрезались прихотливыми изгибами долины, поросшей, как можно было догадаться, вплоть до самых границ деревьями; словно суровое дыхание Океана безжалостно обрезало все ветви, выходившие за пределы единообразного пространства плато. На расстоянии, казавшемся глазу бесконечным, долина, расширяясь, прорезала задний склон скалы, обозначившей горизонт, и в этом треугольном вырезе можно было рассмотреть подрубленную пеной и окантованную белыми пустынными песчаными берегами небольшую морскую бухту. Море, в котором не видно было ни одного паруса, поражало своей полной неподвижностью: можно подумать, то был живописный темно-синего цвета мазок. За этим заливом низкая цепь гор, которую Альбер видел еще с дороги, закрывала скалы; здесь начинался холмистый пейзаж с формами суровыми и оголенными, в котором по-прежнему полностью отсутствовали деревья. Огромные сероватого оттенка болота виднелись у подножия последних склонов, доходя до восточного горизонта.
К югу расстилался древний край Сторван. От подножия стен и насколько мог видеть глаз полукругом простирался лес; это был печальный и дикий лес, спящий лес, [52]52
Аллюзия на спящий замок священного Грааля до прихода в него Парсифаля. Согласно сюжету легенды, наивный юноша Парсифаль, покинув родной дом, отправляется вслед за рыцарями Круглого стола короля Артура на поиски Грааля. Путь его пролегает через спящий, волшебный лес, пространство и время которого перетекают друг в друга.
[Закрыть]полнейшая тишина которого тяжестью ложилась на душу. Он крепко обнимал замок, словно кольца тяжелой, неподвижной змеи, [53]53
Кольцо, подобно другим круглым и шарообразным предметам, символизирует бесконечность. Говоря о мифологеме круга, нельзя не вспомнить змею, кусающую свой хвост (Червь Всепобеждающий, или Уроборос); эта змея, на самом деле – правильная кривая линия без начала и конца, символ космоса, наравне с иными аналогичными символами, прежде всего – с мировым яйцом. Кроме того, круг обозначает цикличность. Круг есть также символ пространственно-временного континуума, представленного в различных мифологических системах образом мирового дерева. Соответственно в тексте Грака деревья образуют замкнутый круг (символ времени) вокруг замка Арголь, а метафора леса-кольца-змеи вызывает в памяти кольцо власти из оперной тетралогии «Кольцо Нибелунга» Рихарда Вагнера. Стоит обратить внимание еще на одну интересную деталь в сказании о кольце Нибелунга у Вагнера – сковать кольцо власти может лишь тот, кто откажется от любви. Иными словами, власть и любовь – понятия несовместимые. В своей демонической версии Грак решает вопрос о том, как можно примирить плоть и дух, настаивая на том, что дух первичен; тогда как согласно христианской концепции плоть и дух равны, тело не есть зло.
[Закрыть]пестроту кожи которой имитировали темные пятна облаков, проплывавших над его морщинистой поверхностью. Эти небесные облака, белые и плоские, парили над зеленой пропастью на невероятной высоте. При взгляде на это зеленое море душу охватывала непонятная дурнота. Альберу странным образом казалось, что лес этот должен быложить, и что, подобно сказочному лесу или тому, что пригрезился во сне, он не сказал еще своего последнего слова. [54]54
Речь идет о первом посещении Парсифалем замка священного Грааля, во время которого он так и не задал королю Амфортасу (Королю-рыболову) ожидаемого от него вопроса о Граале.
[Закрыть]На западе высокие скалистые гряды, до самих вершин заросшие деревьями, стояли параллельными рядами; река широким потоком текла в этих глубоких долинах; налетевший мгновенно бриз взъерошил ее поверхность, похожую на озябшую от холода кожу, и тут вдруг тысячи сверкающих граней отразили слепящее солнце с его странно неподвижным великолепием. Но деревья оставались немыми и угрожающими до самых голубоватых далей горизонта.
Через низкую дверь Альбер вошел в круглую башню, возвышавшуюся над террасами. Она была обустроена в виде кабинета, заполненного этажерками ценных пород дерева; четыре овальных окна башни позволяли любоваться видами окрестностей замка. В комнатах, расположенных в верхних частях здания, роскошное нагромождение мехов, показавшееся столь примечательным уже при входе в замок, повторялось, как настойчивый мотив; они обильно устилали пол, в то время как стены комнат прятались за полотнами пушнины, развешенными в виде шахматной доски редчайшей работы, где шкуры барса равномерно чередовались со шкурами белого медведя. Великолепная домашностьцарила повсюду, даже кровати, казалось, были простым нагромождением мехов. Низкие и длинные оконные проемы, столь необычной формы, что Альбер смог заметить их уже на фасаде, создавали здесь особый эффект; каждая комната освещалась длинной горизонтальной прорезью шириной в три фута, отстоявшей от пола на высоте не более фута и шедшей по одной из плоскостей стены, в которую упиралась кровать, так что спящий на ней при пробуждении невольно погружался взглядом в бездну деревьев, и на мгновение ему могло почудиться, что он покачивается на волшебном корабле над глубокими волнами леса. [55]55
Образ замка-корабля в лесу – аллюзия на греческий миф о корабле «Арго», на котором отправились аргонавты под предводительством Ясона в Колхиду за золотым руном. Образ замка-корабля – один из лейтмотивов «Замка Арголь». Идея поиска («Lа qukte») является также центральной темой в текстах, которые вдохновили Грака на написание его первой книги. Например, в версии Робера де Борона именно на корабле, на котором Иосиф перевозил кровь Иисуса в долины Авалона, было совершено святое причастие. Таким образом, корабль предстает, подобно замку священного Грааля, местом духовного поиска, священным местом (см.: R. de. Boron Le Roman de I'Estoire du Graal. Paris, 1927).
[Закрыть]В противоположном углу можно было увидеть декоративный бассейн из светлого мрамора, туалетные принадлежности которого, сверкая ярким блеском, словно хирургические инструменты, оптически являли собой нежнейший контраст шелковистой и тонкорунной белизне мехов. Библиотека занимала верхнюю часть квадратной башни. Панно резного дерева, на которых были изображены сцены из «Трудов и дней», [56]56
Название дидактической поэмы Гесиода (VIII в. до н. э.).
[Закрыть]закрывали стены, но не доходили до потолка, окаймленного широким фризом из белого матового камня, – зеленые витражи освещали это прибежище мысли, будучи сами символами живого и всемогущего стремления к знанию, готические стулья с высокими спинками из резного дуба составляли всю его незатейливую мебель. Альбер задержался в библиотеке, чтобы полистать несколько любопытных и древних фолиантов в железном фермуаре, а в это время шум, похожий на шум свинцовых зерен, ударяющихся в массивные окна, заставил его поднять голову; дождь с силой хлестал по витражам, и, спеша насладиться неожиданным изменением пейзажа, которое уже предвестили стихии, он поспешил вновь подняться на террасу.
Гроза разразилась над Сторваном. [57]57
Гроза три раза упоминается на страницах романа (в главах «Лес» и «Смерть»), Гроза предупреждает о предстоящей катастрофе. Описывая грозу, Грак прибегает к прилагательному «fuligineux» («коптящий, цвета сажи»), которое использовал Бодлер, переводя Эдгара Аллана По. Прилагательное «fuligineux» – одно из первых слов в рассказе По «Падение дома Ашеров»: «Pendant toute une journee d'automne, journfie fuligineuse, sombre et muette, ou les nuages pesaient lourds et bas dans le ciel, j'avais traverse seul et a cheval une etendu du pays singulierement lugubre, et enfin, comme les ombres du soir approchaient, je me trouvai en vue de la melancolique Maison Usher (Рое E. Oeuvres completes / Trad, par Ch. Baudelaire. P.: Gibert Jeune. s. a. P. 506). Ср. в русском переводе: «Весь этот день – тусклый, темный, беззвучный осенний день – я ехал верхом по необычайно пустынной местности, над которой низко нависли свинцовые тучи, и наконец, когда вечерние тени легли на землю, очутился перед унылой усадьбой Ашера» (По Э. Избр. соч. М.: Империум Пресс, 2003. С. 246).
[Закрыть]Тяжелые серые тучи с изрезанными краями с гигантской скоростью неслись с запада, чуть не задевая башню, которую они то и дело опоясывали головокружительной перевязью беловатого тумана. Но особенно ветер, ветер заполнял пространство яростного разгула природы своим ужасающим бременем. Наступила почти полная ночь. Словно в непрочной прическе дыхание урагана обнажало быстрые и мимолетные канавки в массе серых деревьев, которые оно раздвигало как траву, и на долю мгновения можно было увидеть голую почву, черные скалы и узкие трещины оврагов. В безумии выкручивал эту серую гриву ураган! Раздался оглушительный гул; стволы, только что сокрытые вспененными барашками листвы, обнажились под порывами ветра; и тогда стали заметными их хрупкие серые конечности, натянутые с усилием, словно сплетенные между собой канаты. И они изнемогали, изнемогали – сухой треск предшествовал падению, а затем одновременно раздавался тысячеголосый хруст, то был каскад шумных звуков, покрывавших вой бури, и великаны исчезали навсегда. Но тут ливень дал волю ледяной свежести своего потопа, похожего на дикий полет горстки камней, и лес тут же ответил металлическим закипанием всех своих листьев. Голые скалы сверкали, словно грозные латы, жидкое и желтоватое сияние влажного тумана на мгновение увенчало вершины деревьев, еще одно мгновение – и желтая, светящаяся, чудно полупрозрачная полоса засверкала на горизонте, где каждое дерево вырисовалось мгновенно со всеми своими мельчайшими ветвями, – и от этой полосы засияли переливающиеся капли воды на парапете, белокурая, намокшая от дождя шевелюра Альбера, и жидкий, холодный туман, прокатившийся по верхушкам деревьев золотистым, холодным и почти нечеловеческим лучом, – и затем она погасла, и ночь, словно разящий топор, упала на землю. Страшная мощь этой дикой природы, ставшей внезапно столь отличной от того, чем она показалась на первый взгляд, пронзила душу Альбера темными предчувствиями. Пустынными залами возвращался он, промокнув весь от дождя, – кровавый блеск витража, отдаленный звук настенных часов, [58]58
Образ часов – еще один лейтмотив романа, символ предчувствия смерти, который был позаимствован Граком у Э.А. По. Ср. в «Маске красной смерти» (1842): «В этом покое и высились у задней стены гигантские эбеновые часы. […] и пока еще звенели куранты на часах, замечалось, что бледнеют и самые беззаботные, а более степенные и пожилые проводят рукой по лбу, как бы погружаясь в хаос мыслей и раздумий» (По Э.А. Полное собрание рассказов. М.: Наука, 1 970. С. 356). «И жизнь эбеновых часов кончилась вместе с жизнью последнего из веселившихся» (Там же. С. 359). Метафора часов является также ключевой в рассказе По «Колодец и маятник» (1 843).
[Закрыть]затерявшихся в глубине пустынного коридора, заставили его на мгновение задрожать, как дитя, но вот он пожимает плечами перед этими обычными ловушками страха и все же не может сбросить с себя все еще ощутимый груз непрекращающейся дурноты. Может быть, и в самом деле что-то произошло.В излучине коридора нога его натыкается на спящего человека: то слуга, который встретил его в замке и который теперь спит, вытянувшись на плитах, в позе застигнутого врасплох тошнотворной усталостью зверя, – и невольно он вздрагивает. И он доходит наконец до эпицентра той тревоги, которой он сам всю вторую половину дня наделял пейзаж, конечно же, во многих отношениях того заслуживающий. В середине большой залы на медном подносе положен бумажный квадрат; он разрывает печать послания и читает:
«Приеду в Арголь в пятницу. [59]59
Приезд героев в замок в пятницу не случаен, так как согласно средневековым легендам о рыцарях Круглого стола короля Артура поиск священного Грааля был начат именно в пятницу. В тексте Кретьена де Труа Парсифаль в пятницу встречает отшельника, который объясняет ему значение священного Грааля, ссылаясь на то, что Иисус был распят в святую Пятницу (Chretien de Troyes. Le Roman de Perceval, ou le Conte du Graal / Ed. F. Lecoy: En 2 vol. Paris, 1973–1975). В другой версии о священном Граале говорится о том, что Каин был рожден и убит в пятницу (La Quete du Graal / Edition presentee et etablie par A. Beguin,Y. Bonnefoy. Paris: Seuil, 1965).
[Закрыть]Гейде приедет со мной. Герминьен».
Кладбище
Последовавшие затем дни были временем наиболее полных и причудливых каникул.Альбер, словно дитя, радовался своему таинственному месту обитания, отдаваясь очарованию девственной природы, Бретань расточала в это время свои скромные очарования, свои ущербные цветы: дрок, утесник, вереск росли в изобилии в ландах, по которым Альбер каждый день проезжал на лошади, совершая бесконечные прогулки. Часто густой ливень застигал его в полях; и он укрывался тогда в бедных каменных лачугах или под поросшими густым мхом дольменами. И только в лес Сторвана он не отваживался вступить, и ужас, который в самый первый вечер внушила ему гроза, жил постоянно в его сердце.
Тем не менее он работал с пылом, разбирая сложные страницы «Логики», с которой вся гегелевская система, казалось, неожиданно начинала свой вышний ангельский полет. [60]60
Речь идет о так называемой малой гегелевской «Логике», составляющей первую часть «Энциклопедии философских наук».
[Закрыть]Альбер испытывал огромную любознательность к мифам, убаюкивавшим человечество в его долгой истории, он страстно выискивал в них тайное значение; а потому однажды утром был совершенно поражен, открыв для себя, что Гегель, несмотря на свою многократно подчеркиваемую нелюбовь к примерам,упорно занимался толкованием мифа о грехопадении человека: «Если мы рассмотрим более пристально историю Грехопадения, [61]61
Цитата из «Науки логики» Гегеля (1770–1831), несколько отличающаяся, впрочем, от оригинала, поскольку Грак использовал единственно доступный ему во время работы над романом английский перевод. Помимо несовпадения некоторых деталей, обращает на себя внимание превращение абстрактного дискурса Гегеля в образный, наполненный метафорами язык, вообще свойственный Граку. Ср.: «Рассматривая ближе миф о грехопадении, мы подходим к пониманию, как было выше замечено, что в нем выражено вообще отношение познания к духовной жизни. Духовная жизнь в своей непосредственности выступает сначала как невинность и наивное доверие, но сущность духа состоит в том, что это непосредственное состояние снимается, ибо духовная жизнь отличается от природной и, более определенно, от животной жизни тем, что она не остается в своем в-себе-бытии, а есть для себя. Но ступень раздвоения тоже должна быть снята, и дух должен посредством себя возвратиться к единству. Это единство есть теперь духовное единство, и принцип этого возврата содержится в самом мышлении. Последнее носит рану, и оно же ее исцеляет». (Гегель В. Г. Ф. Энциклопедия философских наук. М.: Мысль, 1974. С. 129). Упоминая миф о первородном грехе, Гегель, а за ним и Грак, искажают христианскую концепцию единства и равнозначности духа и плоти, согласно которой Бог создал душу и тело (и тело человеческое есть благо).
[Закрыть]– писал он, – то обнаружим, что, как я уже говорил, она выявляет универсальное воздействие познания на духовную жизнь. В своей естественной и инстинктивной форме духовная жизнь облачена в одежды невинности и доверчивой простоты, но сама сущность духа предполагает поглощение этого непосредственного условия существования чем-то более возвышенным. Духовное отличается от естественного и, более конкретно, от животной жизни тем, что оно поднимается до познания самого себя и свойственного себе существования. Это раздвоение, в свою очередь, должно исчезнуть и поглотиться чем-то иным, и тогда дух может вновь открыть для себя победоносный путь к примирению. Согласие это есть в таком случае явление духовного порядка, то есть принцип восстановления единства обнаруживается в мышлении и только в мышлении. Рука, наносящая рану, есть также рука, что ее исцеляет». [62]62
Подобную фразу мы встречаем в «Парсифале» Вагнера, которая во французском переводе звучит следующим образом: «Une arme seule peut agir / La Lance fit la blessure, / Seule elle peut la fermer» (Wagner R. Parcifal. Poeme / Trad, de J. Gautier. P.: Colin, 1 893. P. 216). Ср. в русском переводе: «Парсифаль: В одно оружье верь: / – Ты ранен им, / – Оно лишь и спасет! (Вагнер Р. Парсифаль. Пер. Дм. Коломийцева. СПб., 1914. С. 63). В демонической версии Грака эта фраза передает мысль о том, что никакого избавителя нет. Альбер не является им, так как в конце книги он убивает Герминьена, вместо того чтобы очистить замок священного Грааля от греха.
[Закрыть]
Радостная уверенность, казалось, изливалась с этих страниц. Конечно, только познание, а не постыдная и свойственная естеству человека любовь, которую Альбер из чувства протеста всегда умел подавлять в себе, могло навсегда привести его к согласию с самим собой; если сам он не ошибается, то так все и обстоит на самом деле: «Вы будете как Боги, [63]63
Еще одна неточная цитата из «Науки логики» Гегеля. Ср.: «Изгнанием из рая миф не заканчивается. Он гласит далее: Бог сказал: „Вот Адам стал, как один из нас, ибо он знает, что есть добро и что есть зло"» (Гегель В. Г. Ф. Указ. соч. С. 130).
[Закрыть]познавшие добро и зло», – вот в чем была причина грехопадения, но в этом же был и единственно возможный залог искупления. И еще: «Дух не есть чистый инстинкт, [64]64
Ср.: «Дух не есть голое непосредственное, но существенно не содержит в себе момент опосредования. Детская невинность имеет в себе, несомненно, нечто привлекательное и трогательное, но она такова, лишь поскольку она напоминает о том, что должно быть порождено самим духом» (Гегель В. Г. Ф. Указ. соч. С. 1 29).
[Закрыть]напротив, он предполагает в целом стремление к рассуждению и размышлению. В невинности младенца заключено, без сомнения, много нежности и очарования, но только потому, что она напоминает нам о том, что духу еще придется достигнуть в отношении самого себя». Эта великолепная диалектика была словно дарованным свыше ответом на тревоги Альбера. Итак, освобождает одно лишь познание; необходимое, живое познание; Альбер мысленным взором окинул свою замкнутую, исполненную прилежания жизнь и с гордостью нашел ей полное оправдание. Но эти новые и дикие места, в которые он перенес свое существование, неужели они уже столь сильно затронули романтическиефибры его сердца, что у него появилась потребность в оправдании? Подобная реакция его духа кажется ему вызывающей, и в течение нескольких минут быстрым шагом он ходит взад и вперед по террасе.
В Герминьене Альбер вскоре должен был обрести своего самого дорогого друга. Его постоянная непринужденность, твердая поступь, с которой он ступал по земле, его гениальность в сфере темных человеческих страстей [65]65
Данная характеристика Герминьена перекликается с граковской характеристикой Гегеля как гениального короля философов.
[Закрыть]пленяли дух Альбера, всегда слишком уж тянувшийся к неземным высотам, слишком склонный парить в опьяняющих и смутных пространствах, за что и получил он прозвище «доктор Фауст», которым, как он помнил, любил, в частности, называть его Герминьен своим глубоким, всегда словно выражающим некоторое сомнение голосом. Герминьен всегда поражал удивительной способностью проникать в тайны самых неявных побудительных причин человеческого поведения. Долгие умственные беседы, часто продолжавшиеся до рассвета в высокой студенческой комнате, свет которой, подобно свету поздней звезды, озарял улицы, или же в деревенском трактире, куда усталость забрасывала их посреди бесшабашной прогулки по полям и где каждый из них добросовестнейшим образом пытался найти наиболее верный ключ к глубоко скрытым сторонам своей натуры в подобии исповеди-диалога, в котором дух, чтобы взять разбег, бесконечно искал опору в другом внимательном и понимающем духе, – все это тут же воскресило в памяти Альбера ощущение этой неотъемлемой способности двойного зрения. Ему всегда казалось, что Герминьен использовал и в будущем всегда будет использовать свой неизменный аналитический дар беспечно и словно играючи. Возможно, те узы, что связывали его с этой жизнью, были не слишком сильными, поскольку его многочисленные и свидетельствующие о высшей проницательности интересы постоянно распылялись. Порой уникальность некоторых редких картин увлекала его в путешествие по музеям Европы, порой женщина на мгновение становилась источником этого жадного человеческого магнетизма [66]66
Аллюзия на произведения сюрреалистов, в частности, на текст Андре Бретона и Филиппа Супо «Магнитные поля» (1920). Ср., напр.: «…рожденный из случайных объятий сильно разбавленных миров, растущий для счастья будущих поколений бог понял, что час его настал: он исчезает вдаль вместе с тысячами электрических разрядов» (Бретон А., Супо Ф. Магнитные поля // Антологии французского сюрреализма / Под ред. С.А. Исаева и Е.Д. Гольцовой. М.: ГИТИС, 1994. С. 24). В своем эссе «Андре Бретон» Грак составил список ключевых слов и выражений в творчестве Бретона. Это прежде всего термины, заимствованные из области физики и электричества: «ток», «чувствительный», «магнетический», «избирательный», «дезориентирующий», «намагниченный», «поле», «проводник» («соигапЬ», «sensible», «magnetique», «electif», «desoriantant», «aimante», «champ», «conducteur») (Gracq J. Andre Breton. Quelques aspects de l'6crivain. Paris: J.Corti, 1948. P. 147).
[Закрыть]– и тогда Герминьен заставлял ее погрузиться в водоворот тех мощных страстей, в котором неразрешимые осложнения возникали на каждом шагу, словно по мановению волшебной палочки. Но все эти страсти всегда неожиданно обрывались именно в тот момент, когда, казалось, они приобретали почти роковой характер, поскольку Герминьен, заметив, что его партнерша уже готовилась выйти на сцену в качестве драматической героини, воодушевляясь на эту роль благодаря услужливому отражению декораций, в которых она могла разыгрывать живую страсть, умел вовремя вооружиться небрежной и саркастической иронией, которую он мастерски использовал, как используют оружие или очарование, и побороть которую не смогла еще ни одна трагическая страсть. Эти эксцентричные игры разума и сердца, на которые он постоянно вдохновлял и незначительность которых сам же ежесекундно разоблачал своим поразительно естественным поведением, оставляли длительное чувство обиды у всех тех, кого он таким образом вынудил войти в роль, заранее прорисованную им в мельчайших деталях. Обладая тонким и совершенным вкусом, Герминьен проник в тайны литературы и искусства, но он скорее раскрыл их механизм, нежели позволил себе прикоснуться к самой сути обаяния, в них заключенного. И все же его рискованным экзерсисам не чужды были и энтузиазм, и холодная дрожь, и подлинное упоение; в таких случаях его спокойное лицо воодушевлялось, глаза загорались, физическая усталость словно бы переставала оказывать какое-либо воздействие на его стальные мускулы и он мог продолжать споры и рассуждения, без всякого усилия со своей стороны, в течение многих дней и ночей, пока они не достигали своего логического завершения. В самые лихорадочные мгновения внутри него жила невозмутимая сдержанность, демоническая трезвость. Может быть, Альбер и ошибся, освятив именем дружбы отношения, которые со всех точек зрения представлялись крайне неясными и которые, при почти полном сходстве их во вкусах, одинаковой манере манипулировать языком, общей для обоих системе ценностей, действовавшей и непрестанно утверждавшейся как существующая и вместе с тем невидимая, словно филигрань, посреди любого разговора, что они вели с каким-либо третьим лицом, заслуживали бы определения во всех смыслах более тревожного, а именно – сообщничества. Столько странных вкусовых пристрастий, ставших их общим достоянием, общих словечек, которые они перенимали друг у друга, идей, сформулированных в беспрерывном столкновении их острых духовных клинков, тайных сигналов, подаваемых одной лишь вибрацией голоса, воспоминанием о книге, арии, имени, которое, в свою очередь, вызывало вереницу иных общих воспоминаний, – все это в конце концов породило между ними опасную, опьяняющую и мерцательную атмосферу, что исчезала и вновь возникала при встречах, как если бы то раздвигались и вновь соединялись пластины электрического конденсатора. [67]67
Очередная отсылка к Андре Бретону – к его трем конструкциям времени, основанным на математической (взаимозаменяемость отдельных мгновений) и физических моделях (освоение энергетического поля, беспредельность времени и пространства человеческого тела). Грак, стилизуя Бретона, раскрывает суть отношений между двумя героями: подобно двум противостоящим друг другу электродам, Альбер и Герминьен могут вызвать взрыв, произвести революцию в духовном и интеллектуальном сознании человечества (электрический конденсатор – система из двух или более подвижных электродов, разделенных диэлектриком – бумагой, воздухом и т. д., – обладающая способностью накапливать электрические заряды).
[Закрыть]Любой предмет, помещенный в центр этого человеческого горна, представал здесь в новом и опасном свете: звучание речи, блеск красоты порождали между ними анормальные и продолжительные вибрации, словно близость этого взвешенного в воздухе, тяжелого и неподвижного человеческого заряда доводила всякое явление до крайней способности взрыва,до последствий непременно бредовых. И оба они с давних пор, сами того не ведая, питались этим воздухом, несвежим и все же более восхитительным и утонченным, чем обычный людской воздух, – то был человеческий сгуститель,рождавшийся, кажется, из союза этих двух схожих существ, которые своими перстами, похожими на быстрые всполохи молний, постоянно указывали друг другу на головокружительный риск и опасность. Дары жизни и красоты, самые волнующие переживания не имели для них ни малейшей ценности, если они не освещались ярким светом этого двойного отражателя, пронзавшего их в мгновение ока своими магическими лучами; и, возможно, оба дошли уже до той стадии, когда они не могли уже более насладиться добычей, не приведя ее к их общему знаменателю, когда они не могли смотретьсвоими собственными глазами ни на одно из проявлений человеческой жизни, сквозь которое взгляд каждого проникал, как сквозь прозрачный кристалл, если только Другой не предоставлял ему отражающий экран своей опасной внутренней вражды. Потому что они и впрямь были врагами, хотя и не решались в том себе признаться. Они не решались себе признатьсяв этом, и, как это ни покажется странным, не выносили даже самого отдаленного упоминания об отношениях, которые когда-либо вообще могли существовать между ними. Быть может, Гегель бы и усмехнулся, увидев, как подле каждого из них, словно ангел сумрачный и ликующий, шел призрак одновременно его двойника и противоположности, [68]68
В данном пассаже наиболее ярко сказывается влияние на Грака романтической литературы, что, в частности, позволяет более полно понять дуализм его героев. В позднем романтизме, с его конфликтом идеала и действительности (романтическое «двоемирие»), герой безвозвратно отчужден от мира, общества и государства: он либо осознает непримиримое противоречие в самом себе, либо сталкивается со своим демоническим двойником (ср., напр., «Эликсиры дьявола» Э.Т.А. Гофмана, 1815–1816).
[Закрыть]и, возможно, он и задался бы тогда вопросом о форме той необходимой связи,окончательно прояснить суть которой и есть, среди прочего, одна из основных целей этой книги. Так шли они по жизни, бок о бок и молча, смешивая восхитительный вкус смерти, чей близкий и таинственный образ каждый из них нес в своем существе, с исступленным буйством жизни, бывшей их уделом.
Фигура Гейде оставалась для Альбера почти полностью неясной. Отрывочные и непроверенные слухи соотносили ее пребывание на земле с мощными революционными взрывами, [69]69
Возможно, намек на революционно настроенную идеологию сюрреалистов. Вместе с тем портрет Гейде как революционерки напоминает пассаж из более позднего текста Грака «Лотреамон навсегда», в котором он говорит о русских студентах-террористах, влюбленных в музыку и поэзию и начиняющих свои чемоданы взрывчаткой.
[Закрыть]которые в последние годы аномально участились в особенности на полуостровах Средиземного моря и в Америке; и, как считали многие, создавалось впечатление, что пароксизмы этих социальных потрясений были единственной атмосферой, в которой эта душа, созданная из льда и пламени, могла существовать в своем естественном ритме. В остальном же в последнее время по ее поводу хранилось молчание, и Альбер отметил тогда со странным чувством неловкости, что даже пол его гостьи, который он никогда не пытался узнать из тех смутных политических слухов, что всегда слушал вполуха, и который само имя Гейде не могло раскрыть ему в полной мере, должен был оставаться для него вплоть до самого момента ее прибытия полностью проблематичным.
Накануне их прибытия бледное солнце сияло над Арголем, и Альбер отправился в долгую верховую прогулку к морю, сверкающую поверхность которого можно было увидеть с вершины башен замка. Он пустил лошадь по дорожке, огибавшей долину между покрытым мхом склоном скалы и настоящей зеленой изгородью, образуемой длинными и гибкими ветвями, которые неутомимый морской ветер ерошил и бросал на скалы – так близкие волны играют с бледным лесом водорослей, тянущихся вдоль рифов, – полностью затеняя тропинку плотным сводом листьев, сквозь которые солнце бросало на землю танцующую подвижную сеть сверкающих пятен. Тропинка выводила на унылый песчаный берег. Последними признаками жизни в этих прибрежных зонах, казалось, были высокие серые травы, чьи тщедушные пучки беспорядочно цеплялись за песчаные пригорки и, подчиняясь порывам ветра, склеивались между собой как намокшая в воде шевелюра. На востоке вид обрывался высоким черным мысом. Море, огромную, мгновенно охватываемую глазом протяженность которого не разнообразила ни птица, ни одинокий парус, показалось ему особенно невыносимым из-за его смертельной пустоты:его бело-серый и тусклый на фоне ослепительного неба цвет, абсолютно выпуклая поверхность, за изгибами которой невольно следовал взгляд, неодолимо напоминали глаз с закатившимся зрачком, где единственно видимым оставался отвратительный и безжизненный белок, чья глядящаяповерхность ставила перед душой самую невыносимую из всех проблем. Узкие белые линии, что в своей текучей стихии на расстоянии повторяли сложный рисунок очертаний бухты, откатывались время от времени в тишине к берегу – и тогда слух с изумлением улавливал грохот гигантского падения, похожего на обвал водяной стены, и широкий текучий язык набегающих волн, словно влажный и шершавый язык теленка, заставлял скрипеть прибрежный песок.
В глубине бухты, там, где печальные травы уступали место голым песчаным берегам, Альбер направил своего коня к меланхолическому скоплению серых и потертых камней, форму которым когда-то явно придала человеческая рука и которые при ближайшем рассмотрении оказались кладбищем, по всей видимости давно уже заброшенным. Песок доходил здесь до уровня низких каменных оград, и весь погост, казалось, был полностью им заполонен. Кресты из массивного камня со странно короткими, как у галльских крестов, основаниями выступали из песка вне всякого видимого порядка: один едва заметный бугорок еще указывал на место захоронения. Дикое запустение этого покинутого людьми места не вызвало, однако, в сердце Альбера ничего, кроме мрачного любопытства, и, привязав свою лошадь к основанию одного из каменных крестов, он быстро обошел аллеи кладбища, заваленные песком. Ни одной надписи уже нельзя было уже разобрать, и действующая сила этого безжалостного и вдвойне святотатственного разрушения обнаруживалась в бесконечном свисте тончайшей песчаной пыли, которую ветер ежесекундно с отвратительным остервенением сбрасывал на гранит. Казалось, она проистекала из Егонеистощимой длани – то были страшные песочные часы Времени! [70]70
Грак, вслед за Э.А. По, прибегает к эффекту заглавной буквы, намекая на сверхъестественный смысл описываемого явления. Ср.: «Я видел, как слова, которые были моей Судьбой, продолжали стекать с этих губ» («Колодец и маятник»),
[Закрыть]Лицо Альбера стало еще бледнее, чем обычно, и ветер в безумии шевелил пряди его белокурых волос, странно тусклых, цвета овса и песка. Он остановил взгляд на каменном кресте, расположенном немного в стороне от других, и, по всей видимости, значительно более высоком, хотя трудно об этом было судить из-за неравномерного наступления песка. Но более всего во внешнем виде креста смутило Альбера то, что в его ближайшем окружении, где колыхались одни лишь неровные складки песка, не было видно ни одного из еще заметных в этих местах выступов, которые делали столь скорбно объяснимыми в этом пустынном месте эмблемы искупления, так что душа еще долго сомневалась, прежде чем решить, был ли здесь этот крест эмблемой Смерти, схоронившейся в земле у его подножия, или же, наоборот, смело бросал вызов лежавшим в могилах людям, дабы явить им гордую картину вечной Жизни,торжествующей даже и посреди могильного одиночества. Загадка этого двусмысленного и свободного лобного места постепенно завладела всеми мыслями Альбера, и неведомая сила управляла тогда его рукой, когда, сохраняя на лице почти безумную улыбку, которую вызвали в нем тайные сближения, он быстро подошел к кресту и, вооружившись обломком острого камня, грубо начертал на нем имя:
Гейде.
Тенистая завеса опустилась в этот момент над могильной оградой, и Альбер обернулся, чтобы понять причину этого внезапного затмения солнца и насладиться в последний раз зрелищем бухты. Огромная туча медленно плыла над морскими пространствами, словно сострадательный гость этих текучих равнин, избегаемых кораблями. Ничто не могло бы передать переполняющее и неторопливое величие этого небесного плавания. Казалось, туча вошла на мгновение в бухту, затем, описав торжественную кривую, повернула на восток, восхищая контрастом, обозначившимся, как на раздутых парусах, между ее выпуклым, ослепительно белым животом и глубокими заливами млечной мглы, [71]71
реминисценция из стихотворения Артюра Рембо (1854–1891) «Гласные», в котором поэт, реализуя задуманную им программу – видеть, не понимая, утратив смысл, достигнув неизвестного, – прибегает к новому принципу формирования образа, исходящему из соответствия звука и цвета. Сюрреалисты назвали Рембо сюрреалистом «в практике своей жизни и во всем прочем» (см. «Первый манифест сюрреализма» Андре Бретона, 1924). Подобно Рембо, Грак отказывается от описаний контуров и форм, окутывая предметы загадочным ореолом. Ср.:Заливы млечной мглы, «Е» – белые палатки, Льды, белые цари, сад, небом окропленный; «И» – пламень пурпура, вкус яростно соленый – Вкус крови на губах, как после жаркой схватки…
(Перевод с французского В. Микушевича).
[Закрыть]словно открывшимися в ее лоне. Одно мгновение, и она покачнулась всей своей массой, осветив этот мертвый пейзаж простодушно грозовым величием, потом удалилась, и несколько мгновений спустя непрекращающийся свист ветра в сухих травах и монотонный, глухой топот коня по песку казались единственным знаком жизни, который еще одушевлял эти пустынные песчаные берега.








